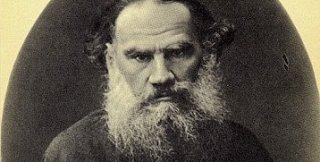Дневник
Счастливое детство
Рот девушки, долго лежавшей в осоке,
был обгрызан.
Когда вскрыли грудь,
пищевод оказался дырявым.
Под диафрагмой
натолкнулись на выводок крыс.
Одна из сестричек успела уже умереть.
Другие кормились почками и печенкой,
пили холодную кровь,
провели здесь счастливое детство.
Счастливой и быстрой
и смерть их была:
их бросили в воду.
Как малютки визжали!
Перевод В. Вебера
Прекрасная юность
Рот девушки, долго провалявшейся в камышах,
Оказался изъеден.
Когда ей вскрыли грудь, пищевод был весь продырявлен.
И наконец под грудобрюшной преградой
Обнаружился крысиный выводок.
Одна из сестричек подохла,
Зато другие пожирали печень и почки,
Пили холодную кровь и тем самым
Организовали себе прекрасную юность.
Прекрасной - и стремительной - оказалась и их собственная смерть:
Весь выводок выкинули в ведро.
Ах, какой прощальный писк они подняли!
Перевод В. Топорова
Schöne Jugend
Der Mund eines Mädchens, das lange im Schilf gelegen hatte
sah so angeknabbert aus.
Als man die Brust aufbrach, war die Speiseröhre so löcherig.
Schließlich, in einer Laube unter dem Zwerchfell
fand man ein Nest von jungen Ratten.
Ein kleines Schwesterchen lag tot.
Die anderen lebten von Leber und Niere,
tranken das kalte Blut und hatten
hier eine schöne Jugend verlebt.
Und schön und schnell kam auch ihr Tod:
Man warf sie allesamt ins Wasser.
Ach, wie die kleinen Schnauzen quietschen!
Круговорот
Единственный боковой зуб девки,
которая умерла безымянной,
содержал золотую пломбу.
Остальные, как по молчаливому договору, были
удалены.
Его выдернул санитар морга,
заложил в ломбарде и пошёл на танцы.
Потому что, сказал он,
только земля должна отойти в землю.
Перевод Ф. Ивановой
Из ранних стихотворений, тогда Бенн работал в морге патологоанатомом и в больнице для бедных венерологом. Стихи, появившиеся в результате опыта вивисекции в холодном подвале для мертвых, составили первый, шокирующий сборник стихов Готфрида Бенна «Морг и другие стихи» (1912 – 1920).
В Первую мировую войну – 1914-1917 - Готфрид Бенн служит в Брюсселе, оккупированном немцами, служит врачом дерматовенерологом при немецком борделе. Эта специализация станет для него основной и после войны, когда он займется частной практикой. В тот период поэт увлекся изучением измененного состояния сознания, пробуя кокаин, но это длилось недолго.
Лирика - либо запредельна, либо ее вообще нет. Таково ее сущностное свойство. ….И другое сущностное свойство лирики — трагическое для поэта: ни один, даже величайший лирик нашего времени не оставит по себе больше шести-восьми совершенных (законченных) стихотворений; остальные могут представлять интерес с точки зрения биографии автора или его внутреннего развития, но самодостаточных, излучающих непреходящий свет и очарование — таких мало: и ради этих шести стихотворений — от тридцати до пятидесяти лет аскезы, страданий, борьбы.
Готфрид Бенн
Западное мышление выродилось настолько, что думает теперь лишь со страховкой слева и справа, это мышление без риска, механическое обособление серых, сухих, оштукатуренных каузальностью среднеевропейских извилин в брахицефалическом черепе, который думает только об индустриальном развитии, да и о нем недостаточно. Всё это пустое размышление о целях существования и о самом мышлении; то, о чем прошу вас я – это мышление как выражение, горящее и самопожирающее, трансцендентальный час, час прямо от Бога…
Готфрид Бенн
…Быть старым - значит не бояться крайностей... Потому я вам говорю: интенсивней переживайте мгновения, целого уже не спасти…
* * *
… Подлинное существование - это нервическое существование, подлинное сознание - страдание и самовозгонка, подлинная жизнь - спровоцированная жизнь... Вуаля... Добро пожаловать... Вселенский холод, космически-льдистый, возникает в текстуре вашего мозга: при том, что мозговой ствол пылает в огне... Добро пожаловать в единственную легитимную реальность, целиком сотворенную из коры головного мозга...
Г. Бенн "Три старика"
Не иметь ничего, кроме собственных сомнений и кризисов, принимать на себя удары и молчать – всегда имея в виду то, что нужно спокойно держать вожжи, когда скачешь с волками…
Готфрид Бенн
Не понимаю, как можно всерьез воспринимать свои убеждения. Вот свою поэзию - можно.
Готфрид Бенн - Зигфриду Кракауэру
Никогда не забывайте, что человеческий ум возник как убийца и чудовищный инструмент мести, а не как флегма демократов, он служит для борьбы с крокодилами первобытных морей и панголинами в пещерах - а не в качестве пудреницы!
Готфрид Бенн. Письмо Гертруде Хиндемит, 1930
Читал кое-что китайское. Мне стало ясно, как в мире существует эта чудовищная мудрость. Мелкие духовные вопросы, с которыми мы сражаемся, над которыми колдуем, на которые необходимо собрать все свое мужество, чтобы решить их добросовестно, т.е. анти-европейски, там давным-давно прояснены. Вот, например: «мудрый не обременяет себя мирскими делами», «ни к чему не стремится», «совершенный человек живет духовным; неужели он станет заниматься ничтожными делишками этого мира…» Это сказал Чжуан-цзы за 300 лет до Р.Х., и сказал он это не в качестве пророчества, а мимоходом, без пафоса Заратустры и ужасных судорог здешнего пост-средневекового человека.
Готфрид Бенн, 1941
Боже мой, как мало в мире глубоких слов, все только потуги, собственно, мне известны некоторые таковые лишь у Гете, у Лао-цзы и у Христа.
* * *
Слова становятся реальными только тогда, когда они таинственны.
Готфрид Бенн, 1946
Выдержки из ответа Готфрида Бенна на письмо (1933) Клауса Манна, обвиняющего его в иррационализме, сочувствии правительству, симпатиях к «пробуждающейся Германии» и культурбольшевизме.
«Вот мой ответ: я и впредь буду ценить то, что, на мой взгляд, ценно и полезно для немецкой литературы, где бы оно ни было - хоть в Лугано, хоть на побережье Лигурийского моря, но сам лично поддерживаю новое государство, ибо это мой народ пытается здесь идти собственным путем.
И кто я такой, чтобы оставаться в стороне, разве я знаю, как можно было бы сделать лучше? Нет! Я могу пытаться по мере сил направлять его туда, где бы мне хотелось его видеть, но даже если и не получится — он останется моим народом. Народ— это так много! Своим духовным и экономическим существованием, своим языком, своей жизнью, своими отношениями с людьми, всеми своими мыслями и представлениями я обязан прежде всего моему народу.
Из него вышли предки, в него возвратятся потомки. И поскольку я вырос в деревне, среди полей и стад, я еще знаю, что такое Родина. Большой город, индустриальное общество, интеллектуализм, все тени, которые отбрасывает эпоха в мое сознание, вся мощь этого столетия, которой я предстою в моем творчестве, — бывают мгновения, когда вся эта вымученная жизнь исчезает и не остается ничего — только равнина, простор, времена года, земля, простое слово Народ…
… Пришла пора испытаний, общество сплотилось, и теперь каждый, и в том числе литератор, в одиночку и сам для себя должен сделать выбор: личные пристрастия или равнение на государство. Я выбрал последнее и связал свою судьбу с этим государством, несмотря на Ваши призывы с другого берега, а Вам счастливо оставаться».
…Позвольте и мне задать Вам вопрос: а как, в сущности, Вы представляете себе ход истории? Вы что, считаете, история делается в основном на французских курортах? Как Вам представляется, скажем, XII столетие, переход от романского мироощущения к готическому? Вы что, думаете, этот переход о б с у ж д а л с я?
Вы что, считаете, что на севере той страны, с юга которой Вы мне сегодня пишете, некто в ы д у м а л новый архитектурный стиль? Сел и р е ш и л: а заменим-ка купол на шпиль; и была д и с к у с с и я на тему: круг или многоугольник? Я считаю, Вы могли бы пойти куда дальше, когда бы избавились, наконец, от романического понимания истории и взглянули бы на нее как на элементарный, катастрофичный, безжалостный процесс; я считаю, Вы глубже поняли бы нынешние события в Германии, когда бы перестали видеть в истории подобие выписки из бухгалтерской книги, которой обывательское сознание XIX века подменяет Творение, - увы, история Вам не обязана ничем, а Вы ей — всем, она не знает ни Вашей демократии, ни Вашего вымученно вознесенного рационализма, у нее есть лишь один способ действия, ей известен лишь один стиль: в переломный момент вызвать к жизни из недр расы новый человеческий тип, который должен пробиться и воплотить свои идеи в материале своего времени и своего поколения — упорно, безжалостно, трагично, как и повелевают законы жизни. Естественно, такое понимание истории не просвещенческое и не гуманистическое, оно — метафизическое; а мое представление о человеке именно таково. В этом и есть суть наших старых споров: и, несмотря на Ваш упрек, я — за иррациональное» (Г.Бенн «Двойная жизнь»)
В моей стране мне выносится немало критических приговоров, а многие из вас скажут, наверное, то же самое: ведь это же старое "искусство для искусства", эстетизм Малларме и цинизм Оскара Уайльда. Нет, отвечу я, совсем наоборот, это - искусство для всех и каждого. Каждый может войти в мир произведений искусства, путь открыт.
Мы, кто пытался их создавать, должны были выстрадать то, что писали, мучительными часами, с горечью неудач, всегда с глубокой серьёзностью. Даже в годы больших социальных и экономических потрясений мы должны были выстрадать своё "я", что бы стать теми, кто мы есть. Потому и невозможно примириться с тем, что публика считает искусство чем-то вроде автомата: брось монетку в верхнюю щель, а из нижней получай сигарету или леденец. Приникнуть к произведениям искусства, постепенно вбирать их в себя, раскрыться для восприятия вещей, стоящих за ними, - таков процесс, который искусство делает достоянием человечества и благодаря которому оно преображается, и в этом его величие на всём пространстве распадающихся миров.
Готфрид Бенн
(Gottfried Benn. Vortrag in Knokke. 1952)
Часто отдаешься унынию, негодованию о том, что делается в мире. Какая это непростительная ошибка! Работа, движение вперед, увеличение любви в людях, сознание ее возможности, ее применения, как закона жизни, растет в человечестве и положительным путем – признание ее благодетельности, и отрицательным – признание все ухудшающегося и ухудшающегося положения людей вследствие признания закона насилия. Да, надо видеть этот двоякий рост, а не отчаиваться.
Лев Толстой. Дневники. 14 февраля 1909 г.
Осуждать за глаза людей подло – в глаза неприятно, опасно, вызовешь злобу. И потому одно возможное, разумное, а потому и хорошее отношение к людям, поступающим дурно, – такой для меня был Столыпин с своей речью,– сожаление и попытка разъяснить им их ошибки, заблуждения.
Лев Толстой. Дневники.15 февраля 1909 г.
Смертные казни в наше время хороши тем, что явно показывают то, что правители – дурные, заблудшие люди, и что поэтому повиноваться им так же вредно и стыдно, как повиноваться атаману разбойничьей шайки.
Лев Толстой. Дневники.14 февраля 1909 г.
К воззванию: описать положение фабричных, прислуг, солдат, земледельцев в сравнении с богачами и показать, что все от обманов. 1-й обман, обман земли, 2-й обман, обман податей, таможен, 3-й обман, обман патриотизма, защита и, наконец, 4-й обман: голова всем, обман смысла жизни (религиозный) двух сортов: a) церковный и b) атеизм.
Лев Толстой. Дневники. 17 февраля 1897
Ясно думал: человек стоит на пути истинной жизни только тогда, когда то, что он делает, ведет его к совершенству и содействует установлению Царства Божия на земле. И только тогда чувствуешь полное удовлетворение, когда сознаешь, что подвигаешься вперед, подвинулся, и когда видишь, что послужил людям, миру, когда служишь им. Это не рассуждение, а утверждение несомненного факта.
Лев Толстой. Дневники. 9 февраля 1894 г.
У кого нет своих мыслей, у того нет интереса к мыслям других.
Мария фон Эбнер-Эшенбах
Время больше, чем пространство
«Все мои стихи более или менее об одной и той же вещи — о Времени, — говорил Бродский. — О том, что Время делает с человеком». Время — центральная тема в творчестве Бродского, отношением к нему определяется его мировоззрение. Время царит над всем — все, что не время, подвластно времени. Время — враг человека и всего, что человеком создано и ему дорого: «Развалины есть праздник кислорода и времени».
Время вцепляется в человека, который стареет, умирает и превращается в «пыль» — «плоть времени», как ее называет Бродский. Ключевые слова в его поэзии — «осколок», «часть», «фрагмент» и т. п. Один из сборников носит название «Часть речи». Человек — в особенности поэт — является частью языка, который старше его и который продолжит существовать и после того, как время справится с его слугой.
Время и пространство — самая важная дихотомия в философской системе Бродского. «Дело в том, что меня больше всего интересует и всегда интересовало на свете… — это время и тот эффект, который оно оказывает на человека, как оно его меняет, как обтачивает… С другой стороны, это всего лишь метафора того, что вообще время делает с пространством и миром». Разница между временем и пространством выражается у Бродского противопоставлением «идеи» и «вещи».
«Время больше пространства. Пространство — вещь.
Время же, в сущности, мысль о вещи.
Жизнь — форма времени…»
(«Колыбельная Трескового мыса»)
Мысль развивается в эссе «Путешествие в Стамбул» (1985): «… пространство для меня действительно и меньше, и менее дорого, чем время. Не потому, однако, что оно меньше, а потому, что оно — вещь, тогда как время есть мысль о вещи. Между вещью и мыслью, скажу я, всегда предпочтительнее последнее». Пространство есть, проще говоря, «тело», тогда как время связано с мыслью, памятью, чувствами — с «душой».
Отношение Бродского к прошлому отличается ностальгичностью. Существование приобретает «статус реальности» только постфактум, и это объясняет ретроспективный процесс сочинительства и тягу к элегическому жанру. В русском языке глаголы стоят «в длинной очереди к „л“», и поэзия самого Бродского полна временных маркеров из частной и общей истории («фокстрот», «бемоль», «клюква», «абажур», «колючая ель» и т. п.), как, например, в «Эклоге 4-й (зимней)» (1980):
Зима! Я люблю твою горечь клюквы
к чаю, блюдца с дольками мандарина,
твой миндаль с арахисом, граммов двести.
Ты раскрываешь цыплячьи клювы
именами «Ольга» или «Марина»,
произносимыми с нежностью только в детстве
и в тепле. Я пою синеву сугроба
в сумерках, шорох фольги, чистоту бемоля —
точно «чижика» где подбирает рука Господня <…>
Будущее связано с другими, отрицательными качествами — в индивидуальном плане прежде всего со смертью человека. Если будущее вообще что-то значит, говорит Бродский, то это «в первую очередь наше в нем отсутствие. Первое, что мы обнаруживаем, в него заглядывая, — это наше небытие». Поэтому оно описывается в таких терминах, как «холод», «оледененье», «пустота»:
Сильный мороз суть откровенье телу
о его грядущей температуре…
(«Эклога 4-я»)
Пахнет, я бы добавил, неолитом и палеолитом.
В просторечии — будущим. Ибо оледененье
есть категория будущего, которое есть пора,
когда больше уже никого не любишь,
даже себя. Когда надеваешь вещи
на себя без расчета все это внезапно скинуть
в чьей-нибудь комнате, и когда не можешь
выйти из дому в одной голубой рубашке,
не говоря — нагим. Я многому научился
у тебя, но не этому. В определенном смысле,
в будущем нет никого; в определенном смысле,
в будущем нам никто не дорог.
………………………………
…Будущее всегда
настает, когда кто-нибудь умирает.
Особенно человек…
(«Вертумн», 1990)
То, что в жизни воспринимается как неприятное и отрицательное, есть на самом деле крик будущего, пытающегося прорваться в настоящее. Единственное, что может мешать будущему слиться с прошлым, это короткий отрезок времени, являющийся настоящим — символизированный в «Эклоге 4-й» человеком и его теплым телом (заметьте эффектную разбивку строф между двумя последними строками):
Жизнь моя затянулась. Холод похож на холод,
время — на время. Единственная преграда —
теплое тело. Упрямое, как ослица,
стоит оно между ними, поднявши ворот,
как пограничник держась приклада,
грядущему не позволяя слиться
с прошлым…
С годами человек становится все более незримым — как намек на это слияние, то есть на его отсутствие во времени. Как в «Литовском ноктюрне» 1973 года (курсив — мой):
…Ибо незримость
входит в моду с годами — как тела уступка душе,
как намек на грядущее, как маскхалат
Рая, как затянувшийся минус.
Ибо все в барыше
от отсутствия, от
бестелесности: горы и долы,
медный маятник, сильно привыкший к часам,
Бог, смотрящий на все это дело с высот,
зеркала, коридоры,
соглядатай, ты сам.
Когда человек выпадает из хронотопа, он сам становится временем, чистым Временем. (В отличие от «реального времени», в котором мы сами пока присутствуем, «чистое», бессубъектное, время пишется у Бродского с большой буквы.) Настоящее исчезает, и прошлое и будущее сливаются. Одним из образов этого у Бродского служит космос:
Вас убивает на внеземной орбите
отнюдь не отсутствие кислорода,
но избыток Времени в чистом, то есть
без примеси вашей жизни, виде.
(«Эклога 4-я»)
Христианская теология с ее представлением о вечной жизни в конце перспективы чужда Бродскому. Вечность является «лишь толикой Времени, а не — как это принято думать — наоборот». В пьесе «Мрамор» (1984) Туллий уточняет эту мысль в полемике с Публием:
То есть тебе вечной жизни хочется. Вечной — но именно жизни. Ни с чем другим это прилагательное связывать не желаешь. Чем более вечной, тем более жизни, да?
Туллий поэтому предлагает Публию стать христианином — «Потому что варвару всегда проще стать христианином, чем римлянином». Цель же Туллия — слиться со Временем:
Главное — это Время. Так учил нас Тиберий. Задача Рима — слиться со Временем. Вот в чем смысл жизни. Избавиться от сантиментов! От этих ля-ля о бабах, детишках, любви, ненависти. Избавиться от мыслей о свободе. Понял? И ты j сольешься со Временем. Ибо ничего не остается, кроме Времени. И тогда можешь даже не шевелиться — ты идешь вместе с ним. Не отставая и не обгоняя. Ты — сам часы. А не тот, кто на них смотрит… Вот во что верим мы, римляне. Не зависеть от Времени — вот свобода.
Движение в пространстве есть, согласно Туллию, «горизонтальная тавтология», ибо каждое путешествие кончается возвращением. Одновременно путешествование — единственный способ воодушевить пространство. Но есть другая форма путешествования — одностороннее движение, уносящее человека за границу пространства. Это движение во времени и пространстве — необратимое. Говоря об «Энеиде», Бродский замечает (в «Путешествии в Стамбул»), что Вергилий первым в истории литературы предложил принцип линейности: «его герой никогда не возвращается; он всегда уезжает»[4]. Такой путешественник движется со Временем. Хотя отношение Бродского ко времени и пространству нехристианское, оно тем не менее линейное. В стихотворении «Итака» (1993) он берет циклическое миропонимание Гомера вергилиевской хваткой и лишает миф его голливудского конца:
Воротиться сюда через двадцать лет,
отыскать в песке босиком свой след.
И поднимет барбос лай на весь причал
не признаться, что рад, а что одичал.
Хочешь, скинь с себя пропотевший хлам;
но прислуга мертва опознать твой шрам.
А одну, что тебя, говорят, ждала,
не найти нигде, ибо всем дала.
Твой пацан подрос; он и сам матрос,
и глядит на тебя, точно ты — отброс.
И язык, на котором вокруг орут,
разбирать, похоже, напрасный труд.
В личном плане Бродский видит жизнь именно как «улицу с односторонним движением», «более или менее развивающейся линейным образом»; так же, как нельзя ступить в одну реку или топтать один асфальт два раза, нельзя вернуться к своему прошлому. Как в стихотворении «По дороге на Скирос» (1967), он говорит о Тезее:
…И мы уходим.
Теперь уже и вправду — навсегда.
Ведь если может человек вернуться
на место преступленья, то туда,
где был унижен, он прийти не сможет.
«Унижение» и «любовь» — две причины, делающие возвращение к тому, что было, — к прошлой жизни, женщине, городу, — невозможным: «Там ничего не зарыто, кроме собаки». В стихотворении «Декабрь во Флоренции» (1976), о Данте и его родном городе, о поэте и изгнании, через Флоренцию проступает как двойное экспонирование другой город — Ленинград:
Есть города, в которые нет возврата. Солнце бьется в их окна, как в гладкие зеркала. То
есть в них не проникнешь ни за какое злато.
Там всегда протекает река под шестью мостами.
Там есть места, где припадал устами
тоже к устам и пером к листам. И
там рябит от аркад, колоннад, от чугунных пугал;
там толпа говорит, осаждая трамвайный угол,
на языке человека, который убыл.
Возвращение делается невозможным не только из-за скверной политической системы, а по другим, более глубоким психологическим причинам. «Просто человек двигается только в одну сторону. И только — от. От места, от той мысли, которая пришла ему в голову, от самого себя… То есть это все время покидание того, что испытано, что пережито. Все большее и большее удаление от источника, от вчерашнего дня, от позавчерашнего дня и так далее, и так далее».
Эти мысли и мотивы связаны с другим противопоставлением в философской системе Бродского — между кочевником и оседлым человеком. Здесь можно усмотреть влияние Льва Шестова и его идей (в «Апофеозе беспочвенности», 1905). Но мысли эти питались и личным опытом Бродского; его жизнь была бегством, постоянно длящимся путешествием, превратившим его в конце концов в кочевника: «Я говорю не как оседлый человек, а как кочевник. Так случилось, что в 32 года мне выпала монгольская участь. Я слушаю, но… слушаю как из седла».
Путешествию индивидуума во времени и пространстве соответствует в истории подобное движение в сторону небытия. Не столько из-за атомной угрозы или других военных действий, сколько потому, что общества и цивилизации подвластны той же «войне замедленного действия», что и человек. Самую большую угрозу Бродский видит в демографических изменениях, ведущих к гибели западной цивилизации, то есть культуры, основанной на индивидууме. Рост населения, маргинализация христианского мира (для Бродского, как для Мандельштама, «христианство» — прежде всего понятие цивилизационное) и сдача позиций в пользу «антииндивидуалистического пафоса перенаселенного мира» — тема, которая становится для Бродского с годами все важнее, как, например, в стихотворении «Сидя в тени» (1983):
Дело столь многих рук
гибнет не от меча,
но от дешевых брюк,
скинутых сгоряча.
Будущее отдельного человека совпадает с будущим мира: смерть индивидуума со смертью индивидуализма. Отношение Бродского к такому развитию фаталистически смиренное, ибо
В этом и есть, видать,
роль материи во
времени — передать
всё во власть ничего…
Язык больше, чем время
Против всепоглощающего Времени, ведущего к исчезновению и мира и человека, Бродский ставит Слово. Так же, как у Горация, а в русской традиции у Державина и Пушкина, воздвигнутый им памятник состоит из слов. «О своем — и о любом — грядущем / я узнал у буквы, у черной краски», — пишет он в «Римских элегиях» (1981), и в одном из последних стихотворений, «Aere perennius» (1995): от поэта «в веках борозда длинней, / чем у вас с вечной жизнью с кадилом в ней».
Вера в торжество поэтического слова над временем и смертью утверждается во многих стихотворениях, часто в конечных строках:
…Я верю в пустоту.
В ней как в Аду, но более херово.
И новый Дант склоняется к листу
и на пустое место ставит слово.
(«Похороны Бобо», 1972)
Право, чем гуще россыпь
черного на листе,
тем безразличней особь
к прошлому, к пустоте
в будущем. Их соседство,
мало суля добра,
лишь ускоряет бегство
по бумаге пера.
(«Строфы», 1978)
Мне нечего сказать ни греку, ни варягу.
Зане не знаю я, в какую землю лягу.
Скрипи, скрипи, перо! переводи бумагу.
(«Пятая годовщина», 1977)
Так родится эклога. Взамен светила
загорается лампа: кириллица, грешным делом,
разбредаясь по прописи вкривь ли, вкось ли,
знает больше, чем та сивилла,
о грядущем. О том, как чернеть на белом,
покуда белое есть, и после.
(«Эклога 4-я (зимняя)»)
Веру Бродского в поэтическое слово следует рассматривать в свете его взглядов на время и пространство. Искусство выше общества — и самого художника. То, что не язык инструмент поэта, а наоборот, является у Бродского центральной идеей, сформулированной наиболее красноречиво и детально в Нобелевский лекции: «…поэт всегда знает, что то, что в просторечии именуется голосом Музы, есть на самом деле диктат языка; что не язык является его инструментом, а он — средством языка к продолжению своего существования». Язык старше общества и, разумеется, старше поэта, и он связывает нации, когда «центр не держит», по выражению Йейтса. Поэтическое творчество — глубоко индивидуальный, ретроспективный процесс, но тем, что создает новую эстетическую реальность, оно направлено в будущее:
…будучи всегда старше, чем писатель, язык обладает еще колоссальной центробежной энергией, сообщаемой ему его временным потенциалом — то есть всем лежащим впереди временем… Создаваемое сегодня по-русски или по-английски, например, гарантирует существование этих языков в течение следующего тысячелетия.
Люди умирают, но не писатели. «Они забываются, выходят из моды, переиздаются. Постольку-поскольку книга существует, писатель для читателя всегда присутствует». Мысль не уникальная, но мало кто выражает ее так страстно и убежденно, как Бродский — и ранний Оден. В элегии, написанной Оденом на смерть Йейтса, об ирландском барде говорится: «The words of a dead man / Are modified in the guts of the living»[5]. Как мы видели, слова Одена в третьей части этого стихотворения о том, что время «боготворит язык», произвели неизгладимое впечатление на Бродского, когда он его прочитал впервые. Это здесь он нашел мысль, о том, что язык выше не только общества, но и поэта и самого Времени.
Язык как метафизика
Взгляд Бродского на язык как на некую вневременную, внепространственную, чуть ли не метафизическую величину вызывал сильные возражения. Одним из его оппонентов стал южноафриканский писатель, лауреат Нобелевской премии Дж. М. Кутзее, который в рецензии на сборник эссе Бродского «О скорби и разуме» («On Grief and Reason», 1995) главной мишенью выбрал его философию языка. Статья была напечатана в «New York Review of Books» от 1 февраля 1996 года, через четыре дня после смерти Бродского, — но, будучи подписчиком, он получил журнал заранее и таким образом успел ознакомиться с текстом. Он был глубоко задет — и не только из-за критики, но и потому, что был большим поклонником творчества Кутзее, которого не раз выдвигал на Нобелевскую премию и которого упоминал в эссе о Стивене Спендере («Памяти Стивена Спендера», 1995), вошедшем в тот самый сборник, который раскритиковал Кутзее.
Кутзее высоко оценивает стихотворные разборы Бродского, «всегда умные, часто проницательные, иногда совершенные», написанные на том уровне, где находится только человек, который «живет с великими поэтами прошлого и от них» и которого самого, «возможно, посещает Муза». Особо он выделяет эссе о Марке Аврелии («Дань Марку Аврелию», 1994) и Горации («Письмо Горацию», 1995), где назидательный тон, различимый в текстах, основанных на лекциях и докладах, заменен беседой с равными: «Его проза достигает новых многосоставных горько-сладостных тонов, когда он раздумывает о смерти поэта, о гибели человека и его продолжении в эхе стихотворных размеров, которым он служил».
Однако похвалы занимали не слишком много места в его отзыве о новом сборнике эссе, который Кутзее нашел менее убедительным, чем «Меньше единицы» («Less Than One», 1986). По мнению Кутзее, только эссе о Марке Аврелии и Горации означают «явное развитие и углубление мыслей Бродского», тогда как другие носят более «случайный характер». Кроме того, то, что «в ранних эссе казалось случайной причудой, оформилось теперь в опорные столбы систематической философии языка Бродского». Именно ей Кутзее посвящает главную часть своей критики.
Исходным пунктом он выбирает анализ стихотворения Томаса Гарди «The Darkling Thrush» («Дрозд в сумерках»), где, согласно Бродскому, «язык втекает в человеческую область из реальности не-человеческих правд и зависимостей [и] в конце концов является голосом неорганического вещества». То, что здесь именуется «неорганическим веществом», заключает Кутзее, это то, что в других эссе Бродского называется голосом языка, или поэзии, или определенного стихотворного размера. Здесь Бродский приближается к «типу редукционной культурной критики, которая утверждает, что говорящие лишь немногим больше, чем рупоры доминирующих дискурсов или идеологий». Разница в том, что последняя «имеет базу внутри истории», тогда как «мысль Бродского сводится к тому, что язык… является метафизической силой, оперирующей временем и внутри времени, но вне истории». В качестве примера он приводит взгляд Бродского на поэзию как на «хранилище времени».
Возведение просодии в статус метафизики Кутзее рассматривает как «странность, едва ли не причуду». Бродский утверждает, что стихотворные размеры «сами по себе являются своего рода духовными и незаменимыми величинами», «способом реорганизовать время». Но удовлетворительного ответа на вопрос, что такое «реорганизовать время», Кутзее у Бродского не находит. В лекции «Нескромное предложение» (см. стр. 146) (в электронной книге — разд. II, глава Просветитель. — Прим. верстальщика.) Бродский пишет, что стихи Фроста «No memory of having starred / Atones for later disregard / Or keeps the end from being hard» («Никакая память о звездном часе / Не утешает потом, в забвении, / И не делает конец менее горьким») должны войти «в плоть и кровь каждого гражданина».
Кутзее предлагает эксперимент: «No memory» он предлагает заменить «memories», что ритм меняет незначительно, но смысл — кардинально. Заслуживали бы эти строки и тогда стать частью кровообращения? Конечно же нет — ибо они ложные. Для того чтобы доказать, почему и каким образом они ложные, нужно, однако, исходить из исторической поэтики, которая объяснила бы, почему строки Фроста реорганизуют время, а пародия на них — нет. «Такая поэтика должна была бы, — подытоживает Кутзее, — трактовать просодию и семантику вместе и исторически. Трудно утверждать, что хорошее стихотворение реорганизует время, если ты не можешь объяснить, почему плохое стихотворение не делает этого».
«Я никогда не мог до конца принять идолизацию языка, которая свойственна Бродскому», — говорит Лев Лосев, объясняя ее «отсутствием формального образования, в частности, лингвистического». Мысль о языке как феномене, имеющем свою внеисторическую реальность, родилась у Бродского в годы изгнания. Евгений Рейн высказал гипотезу, что язык стал для Бродского субститутом — лучшим субститутом — той реальной России, которую он был вынужден покинуть. «Заменой этой России и выступил язык — как наиболее концентрированная, очищенная и избавленная от иногда гнетущей реальности, как лучшая маска России».
Русский язык как теология
Если Язык для Бродского — чуть ли не метафизическая величина, существующая вне времени и пространства, отдельный язык, наиболее приспособленный для литературных, особенно поэтических, упражнений — его родной русский. В своем эссе о Мандельштаме он пишет, что «для духа, возможно, не существует лучшего пристанища», чем русский язык. Причина — гибкость языка, она снабжает «любое данное высказывание стереоскопическим качеством самого восприятия и часто обостряет и развивает последнее». Если бы Бродский создал свою теологию, это была бы «теология языка»: «Самое святое, что у нас есть, — это, может быть, не наши иконы, и даже не наша история — это наш язык». Русский язык обладает такими качествами, что он всегда будет порождать великую литературу, несмотря на количество писателей, которых преследуют или которые уезжают из страны, он таков, что «невозможно прекратить существование на нем, прекратить процесс письма».
Такая сакрализация русского языка родилась из убеждения Бродского в том, что язык этот способен на чудеса — на создание не только великой литературы, но и лучшего общественного строя. В одном из своих последних интервью 1993 года он заявил: «При таком языке, при таком наследии, при таком количестве людей неизбежно, что она [Россия] породит и великую культуру, и великую поэзию, и, я думаю, сносную политическую систему, в конце концов. На все это, разумеется, уйдет довольно много времени, особенно на последнее, на создание политической культуры».
Прогноз привлекательный, но есть ли шансы, что он оправдается? В России сотни лет говорят и пишут на одном и том же языке, и пока что нельзя сказать, чтобы он породил «сносную политическую систему». Почему это должно случиться в будущем, даже далеком, если не произошло прежде? Подобно мысли об эстетике как матери этики, идея эта отражала непоколебимую веру Бродского в силу языка и культуры, но имела слабую эмпирическую основу.
Бенгт Янгфельдт
Язык есть Бог. Заметки об Иосифе Бродском
Как человек каждый год фотографируется, чтобы знать, как он выглядит. По этому можно, как мне казалось, более или менее проследить стилистическое развитие — развитие души в некотором роде, то есть эти стихотворения (на христианские темы — С.К.) — как фотографии души. К сожалению, масса негативов потеряна.
Иосиф Бродский
* * *
Б.Я. Можно я сейчас перейду на русский, поскольку вопрос «русский»?
И.Б. Сколько угодно!
Б.Я. Я хочу говорить о Пастернаке. Его нет среди крупных поэтов, о которых вы пишете в книге эссе «Less Than One». Почему?
И.Б. Прежде всего потому, что статьи эти написаны для англоязычной публики, и поэтому я постарался говорить скорее о тех, кого они не знают, нежели о тех, с кем они более или менее знакомы.
Б.Я. Я знаю, что вы Блока не любите.
И.Б. Блока я терпеть не могу. Пастернака я обожаю, особенно как поэта. Роман, с моей точки зрения, никуда не годится. Стихи из романа совершенно потрясающие — может быть, лучшее, что им написано. Хотя, в общем, выбирать из Пастернака совершенно невозможно. Евангельские стихотворения мне страшно нравятся. У меня была идея составить антологию русских стихотворений, посвященных христианским праздникам, я даже написал одно стихотворение сам, поскольку у Пастернака этого нет…
Б.Я. «Сретенье» — действительно стихотворение под стать пастернаковским.
И.Б. Это естественно. Наверное, у кого-то это еще есть, но так как мне в голову ничего не приходило, я написал стихотворение. И там есть один дополнительный нюанс. Дело в том, что именины Анны Андреевны Ахматовой на Сретенье приходятся — она сретенская Анна. Кроме того, это до известной степени автобиографическое стихотворение, потому что в этот день у меня родился сын. Так что там довольно много намешано: там Пастернак, там Ахматова, там я сам, то есть там мой сын, вернее.
Б.Я. Каково вообще ваше отношение к христианству?
И.Б. Черт его знает! (Смеется.) Мне сложно об этом говорить.
Б.Я. У вас есть ведь еще стихотворения на христианские темы…
И.Б. Вы знаете, у меня была идея в свое время, когда мне было двадцать четыре или двадцать пять лет, и я пытался следовать этой идее — на каждое Рождество написать по стихотворению.
Б.Я. Как на Пасху раньше писали русские поэты.
И.Б. Совершенно верно. И некоторое время я соблюдал это, но потом обстоятельства, что ли, встали поперек дороги… Но я до сих пор пытаюсь это делать. И, в общем, это мое отношение к христианству… (смеется) если угодно. У меня семь или восемь стихотворений рождественских. Это для меня не столько дисциплина, сколько… до известной степени и дисциплина… Как человек каждый год фотографируется, чтобы знать, как он выглядит. По этому можно, как мне казалось, более или менее проследить стилистическое развитие — развитие души в некотором роде, то есть эти стихотворения — как фотографии души. К сожалению, масса негативов потеряна.
Из интервью «Стихотворение — фотография души», интервьер Бенгт Янгфельдт
Фердинанд де Соссюр говорил, что поэзия начинается с подражания звукам Божественного имени (думаю, что язык тоже).
Владимир Микушевич
Знайте же, что искусство есть путь к свободе. Все мы рождены в цепях. Кто-то о них забывает: он отдаёт их посеребрить или позолотить. Мы же хотим их порвать. Нет, не каким-то там мощным движением, диким и ужасным: мы просто хотим вырасти из них.
Райнер Мария Рильке. Флорентийский дневник.
Глубина прозрений этого поэта связана с реальностью самолично проделанного и изнутри пережитого им опыта жизни в условиях определенной системы, опыта, который в принципе отсутствует у внешнего, удаленного наблюдателя. Но вот какова судьба этого "внутреннего знания" и носителя его – человека – в стихотворении, которое не случайно называется "Целое" <...>.
Завершающий образ этого стихотворения и его внутренние связки вьются вокруг "целого" или ощущения "целого", переживаемого поэтом как особое возвышенное умонастроение и владение сутью мировой тайны, что я и называю недоступным удаленному, внешнему наблюдателю "внутренним опытом" особого рода странных систем, в котором – и в этом все дело – человек, его носитель, недоступен и самому себе. Ибо, по существу, человек не весь внутри (в теле, мозге, мысли) и идет к самому себе издалека и в данном случае никогда не доходит.
Мераб Мамардашвили. Сознание и цивилизация
«Относительно Софии мне хочется припомнить сейчас, что мы, волею Божиею, насквозь софийны, раз только мы православные... Русское православие в существе своём есть дар Софии, и забыть это, как сильно забывают большинство, - честная неблагодарность Софии, - неблагодарность, караемая религиозною неурядицею и разрухою».
Священник Павел Флоренский. Из письма Ф.Д. Самарину ,1912
Из письма 1915 г.:
«Непосредственный онтологизм утерян общественным сознанием».
Архив (ОР РГБ. Ф. 265. П. 205. Д. 29. Л. 4)