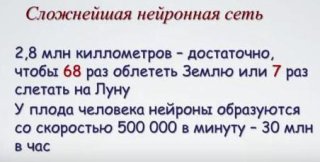Дневник
Письмо Плиния младшего императору Траяну о христианах ( II век):
Для меня привычно, владыка, обращаться к тебе со всеми сомнениями. Кто лучше может направить меня в нерешительности или наставить в неведении?
Я никогда не присутствовал на следствиях о христианах: поэтому я не знаю, о чем принято допрашивать и в какой мере наказывать. Не мало я и колебался, есть ли тут какое различие по возрасту, или же ничем не отличать малолеток от людей взрослых: прощать ли раскаявшихся или же человеку, который был христианином, отречение не поможет, и следует наказывать само имя, даже при отсутствии преступления, или же преступления, связанные с именем.
Пока что с теми, на кого донесли как на христиан, я действовал так. Я спрашивал их самих, христиане ли они; сознавшихся спрашивал во второй и третий раз, угрожая наказанием; упорствующих отправлял на казнь. Я не сомневался, что в чем бы они ни признались, но их следовало наказать за непреклонную закоснелость и упрямство. Были и такие безумцы, которых я, как римских граждан, назначил к отправке в Рим. Затем, пока шло разбирательство, как это обычно бывает, преступников стало набираться все больше, и обнаружились случаи разнообразные.
Мне был предложен список, составленный неизвестным и содержащий много имен. Тех, кто отрицал, что они христиане или были ими, я решил отпустить, когда они, вслед за мной, призвали богов, совершили перед изображением твоим, которое я с этой целью велел принести вместе со статуями богов, жертву ладаном и вином, а кроме того похулили Христа: настоящих христиан, говорят, нельзя принудить ни к одному из этих поступков.
Другие названные доносчиком сказали, что они христиане, а затем отреклись: некоторые были, но отпали, одни три года назад, другие много тому лет, некоторые лет тому двадцать. Все они почтили и твое изображение, и статуи богов и похулили Христа.
Они утверждали, что вся их вина или заблуждение состояли в том, что они в установленный день собирались до рассвета, воспевали, чередуясь, Христа как Бога и клятвенно обязывались не преступления совершать, а воздерживаться от воровства, грабежа, прелюбодеяния, нарушения слова, отказа выдать доверенное. После этого они обычно расходились и сходились опять для принятия пищи, обычной и невинной, но что и это они перестали делать после моего указа, которым я, по твоему распоряжению, запретил тайные общества. Тем более счел я необходимым под пыткой допросить двух рабынь, называвшихся служительницами, что здесь было правдой, и не обнаружил ничего, кроме безмерного уродливого суеверия.
Поэтому, отложив расследование, я прибегаю к твоему совету. Дело, по-моему, заслуживает обсуждения, особенно вследствие находящихся в опасности множества людей всякого возраста, всякого звания и обоих полов, которых зовут и будут звать на гибель. Зараза этого суеверия прошла не только по городам, но и по деревням и поместьям, но, кажется, ее можно остановить и помочь делу. Достоверно установлено, что храмы, почти покинутые, опять начали посещать; обычные службы, давно прекращенные, восстановлены, и всюду продается мясо жертвенных животных, на которое до сих пор едва-едва находился покупатель. Из этого легко заключить, какую толпу людей можно исправить, если позволить им раскаяться.
Теории Фрейда, гениального психолога и психиатра, но посредственного философа, приобрели во всем свете еще более широкую славу, чем в свое время френология Галля или физиогномика Лафатера. Многим писателям в разных странах показалось, что теории эти чуть ли не впервые открывают им доступ в новый мир, в огромную область „подсознания“. На самом деле этого, конечно, не случилось; искусство всегда имело доступ в этот мир или, верней, всегда именно из этого мира исходило; случилось скорей обратное: бессознательное психоанализом было не открыто, а, так сказать, закрыто, т. е. прибрано к рукам, подчинено рассудку и сознанию, — не на деле, конечно, но, по крайней мере, в теории и в тенденции. Фрейд — последний великий ученый, всецело воспитанный в научном мировоззрении XIX века, и пафос его мысли, источник его вдохновения всегда заключался в том, чтобы принцип детерминизма распространить на „подсознание“ и далее причинностью, исходящей из этого подсознания, объяснить всю остальную человеческую жизнь. По сравнению с этим основным замыслом психоанализа уже не так важно, какой именно рычаг пускает в ход причинно-следственную машину, похоть ли власти, как у Адлера, или власть похоти, как у самого Фрейда и у оставшихся ему верными учеников; важно не содержание понятия libido не панэротизм, сам по себе чуждый Фрейду, а лишь безошибочно-механическое действие безличной первопричины. Цель психоанализа одна: механизация бессознательного.
Характерно, что те литературные направления, которые не поняли, что именно „открыл“ психоанализ, и предались культу бессознательного, опираясь на Фрейдово учение о нем (главное из них — французский „сверхреализм“, „сюрреализм“), на собственном опыте в своих писаниях осуществили то, чего добивается в более общем виде любезная им теория. Бессознательное становится механическим, как только его пытаются использовать в сыром виде».
(В. В. Вейдле, «Умирание искусства»)
Возможно, вы помните историю, которую рассказывает Федор Достоевский в «Братьях Карамазовых». Это история о старухе и луковке, моя любимая поучительная история на все случаи жизни. Эту историю писатель не выдумал, он слышал, как ее рассказывают в деревне. Жила-была баба, и она умерла. К своему удивлению она очнулась в огненном озере. Выглянув, она заметила своего ангела-хранителя, который шел по берегу. Она воззвала к нему: «Случилась какая-то ошибка. Я уважаемая пожилая женщина и не должна находиться в этом огненном озере». «О, – ответил ангел-хранитель, – помнишь ли ты хоть один случай, когда помогла кому-то?» Баба подумала немного и сказала: «Да. Однажды я была в огороде, и какая-то нищенка проходила мимо. Я дала ей луковку». «Отлично, – сказал ангел, – у меня как раз эта луковка с собой сейчас». Он достал из своих одежд луковку и сказал старухе: «Давай посмотрим, что луковка может сделать. На, схватись и тянись». Ну, возможно, это была не луковка, а лук-шалот. И стал он ее осторожно тянуть, но она была не одна. Прочие в озере, как увидали, что ее тянут вон, стали за нее хвататься, чтобы их вместе с ней вытянули. Это вовсе не понравилось бабе, и она стала отпихивать их ногами: «Отпустите, отстаньте. Меня тянут, а не вас, моя луковка, а не ваша». Только она это выговорила, как луковка порвалась. Упала баба в озеро и горит по сей день. Вот такой рассказ Достоевского, но я добавлю к нему. Как жаль, что старуха не сказала, «это наша луковка», но сказав, «это моя луковка», она отказала себе в основах человечности. Чтобы быть по-настоящему человеком, нужно находиться в отношениях с другими людьми, любить их и сотрудничать с ними.
Митрополит Каллист Уэр
Александр Мелихов, ВК
21 января
Сегодня день смерти Джорджа Оруэлла. Он тоже разоблачал Сталина. Но не по-нашему.
Наше интеллигентское сознание эпично. В наиболее чистом своем воплощении оно воображает Сталина бескорыстным садистом, творящим зло исключительно из ненависти к красоте и добру. В более же идеологизированной (например, солженицынской) версии Сталин приглуповатый раб коммунистической химеры («Учения»), стремящийся подчинить ей все страны и языки без всякой выгоды для собственного государства. На этом, отечественном фоне особенно интересно рассмотреть, каким виделся вождь мирового пролетариата его выдающемуся младшему современнику Джорджу Оруэллу, мечтавшему послужить этому самому пролетариату, хотя бы и ценой жизни, в Испании, сражаясь в рядах наиболее последовательной компартии POUM (Partido Obrero de Unificacion Marxista — Объединенная марксистская рабочая партия). У Оруэлла не было причин ненавидеть Сталина за уничтожение и притеснение наших кумиров, он наверняка не слышал имен Вавилова, Мандельштама, Платонова; ни он сам, ни его близкие никоим образом не участвовали в борьбе за власть в Стране Советов и нисколько не пострадали от сталинских репрессий — Оруэлла волнует отнюдь не судьба советской интеллигенции, более всего волновавшая ее самое и ее наследников, но именно, без дураков, борьба за освобождение рабочего класса. То есть он судит Сталина именно как преданный служитель коммунистической химеры.
И его возмущало прежде всего то, что Сталин этой химере изменил: «Коммунистическое движение в Западной Европе началось как движение за насильственное свержение капитализма, но всего за несколько лет оно выродилось в инструмент внешней политики России». Политики вполне традиционной — поиска сильных союзников, способных дать отпор потенциальному агрессору, при очень слабой озабоченности их идеологической окраской. Иными словами, по мнению Оруэлла, договоры с капиталистическими державами во имя единого антифашистского фронта сделались для Сталина важнее международного рабочего движения — он предал коммунистическую грезу во имя государственных интересов Советской России. Оруэлл использует даже страшное клеймо из коммунистического словаря — оппортунист!
Мало того, сталинские ставленники из Коминтерна ради умиротворения своих капиталистических союзников были готовы расправиться (и расправлялись, Оруэлл сам едва унес ноги) с теми, кто оставался верен делу рабочего класса! Тем не менее, как истинный интеллектуал Оруэлл сильнее ненавидит даже не тех, кто расправлялся, находясь на передовой исторической борьбы, а тех, кто оправдывал измены и расправы, сидя в безопасной Англии — «людей, духовно раболепствующих перед Россией и не имеющих других целей, кроме манипулирования британской внешней политикой в русских интересах». Он называл их рекламными агентами России, солидаризирующимися с русской бюрократией, готовыми во вторник считать гнусной ложью то, что еще в понедельник было безоговорочной истиной.
«Пришел к власти и стал вооружаться Гитлер; в России стали успешно выполняться пятилетние планы, и она вновь заняла место великой военной державы. Поскольку главными мишенями Гитлера явно были Великобритания, Франция и СССР, названным странам пришлось пойти на непростое сближение. Это означало, что английскому и французскому коммунисту надлежало превратиться в добропорядочного патриота и империалиста, то есть защищать все то, против чего он боролся последние пятнадцать лет. Лозунги Коминтерна из красных внезапно стали розовыми. «Мировая революция» и «социал-фашизм» уступили место «защите демократии» и «борьбе с гитлеризмом»». Однако самым поучительным во всех этих метаморфозах для Оруэлла было то, что именно в антифашистский период молодые английские писатели потянулись не к демократическому, но к коммунистическому антифашизму.
И причины этого были, как всегда, не материальные, но психологические, экзистенциальные — желание слиться с чем-то могущественным, долговечным и несомненным. «Вот оно, все сразу — и церковь, и армия, и ортодоксия, и дисциплина. Вот она, Отчизна, а — года с 35-го — еще и Вождь. Вся преданность, все предубеждения, от которых интеллект как будто отрекся, смогли занять прежнее место, лишь чуточку изменив облик. Патриотизм, религия, империя, боевая слава — все в одном слове: Россия. Отец, властелин, вождь, герой, спаситель — все в одном слове: Сталин. Бог — Сталин, Дьявол — Гитлер, Рай — Москва, Ад — Берлин. Никаких оттенков. «Коммунизм» английского интеллектуала вполне объясним. Это патриотическое чувство личности, лишенной корней».
Упиваясь обретением этих корней, ученики начинают воспевать убийства, возносясь даже выше своих учителей. «Мы добровольно повышаем шансы смерти, Принимаем вину в неизбежных убийствах» — об этих строках Одена из поэмы «Испания» Оруэлл отзывается следующим образом: «Так мог написать только человек, для которого убийство — фигура речи, и не более. Лично я не мог бы бросаться такими словами с легкостью. Мне довелось во множестве повидать убитых — не погибших в бою, а именно жертв убийства. И у меня есть кое-какое представление о том, что означает убийство, — это ужас, ненависть, рыдания родственников, вскрытие, кровь, зловоние. Для меня убийство — нечто такое, что допускать нельзя. Как и для любого нормального человека. Гитлеры и сталины считают убийство необходимостью, но и они не похваляются своей задубелостью, не говорят впрямую, что готовы убивать: появляются «ликвидация», «устранение» и прочие успокоительные эвфемизмы. Аморальность, демонстрируемая Оденом, возможна лишь при том условии, что в момент, когда спускается курок, такой аморалист находится в другом месте».
Намек достаточно прозрачен? Сталинизм заполняет пустоты, выжженные индивидуализмом, замыкающим человека в его личной шкуре. Те, кто ощущает себя частью чего-то бессмертного — народа, науки, искусства, церкви или даже семейного клана — в подобных суррогатах вечности не нуждаются. «Для душевной потребности в патриотизме и воинских доблестях, сколько бы ни презирали их зайцы из левых, никакой замены еще не придумано», — так вот умел выражаться главный обличитель тоталитаризма!
Однако лично я склонен думать, что патриотизм и воинские доблести были только служебными средствами более глубинной потребности — потребности ощущать себя большим и сильным, прокладывать новые пути в Истории, а для этого нужно было идентифицироваться с могучим игроком — пока Советская Россия оставалась слабой, никакого «советского патриотизма» в рядах британской интеллигенции не наблюдалось: «История русской революции от смерти Ленина до голода на Украине абсолютно не затронула английское сознание. Все эти годы Россия означала только одно: Толстой, Достоевский и бывшие графы за рулем таксомоторов».
Знали бы левые интеллектуалы, что ненавистная им буржуазия тоже способствовала темпам советской индустриализации, торопила Сталина побыстрее купить то оружие, которым он намеревался с нею сразиться. Когда, встревоженный нарастающим голодом, в 1931 году отец народов попросил у своих западных партнеров дозволения убавить масштабы советского экспорта, ему было отказано в очень строгой форме.
Так, например, британский торговый советник передал, что невыполнение принятых обязательств вызовет отказ в дальнейших кредитах, а будущие экспортные поставки и даже советская собственность за границей вплоть до оказавшихся там судов могут быть конфискованы для покрытия долгов. В этом же духе в начале 1932 года высказался немецкий канцлер Брюнинг: или платите — или более никаких кредитов.
В Большой Игре скидок не делают. Если даже впоследствии придется расплачиваться самим.
Меры строгости тоже подталкивали Сталина к сталинизму, равно как и Гитлера к гитлеризму, равно как и...
Далее везде.
В человеке всегда есть нечто, отвергающее любовь. Это та часть его существа, которая хочет умереть. Именно ей необходимо прощение.
Альбер Камю
«Идет как-то президент с первой леди в ресторан. Проходят мимо швейцара. Первая леди очень тепло здоровается с ним.
— Почему ты с ним поздоровалась так, будто вы давно знакомы? — спрашивает президент.
— Это мой бывший одноклассник. Когда-то он был страстно в меня влюблен.
— Ха-ха! Представляешь, если бы ты вышла за него замуж, ты бы сейчас была женой швейцара! — развеселился президент.
— Нет, дорогой. Если бы я вышла замуж за него, он бы сейчас был президентом, — невозмутимо ответила супруга».
(Иероглиф)
Одиночество мудреца слепцы считают безумием,
Он владеет многими драгоценными камнями,
Но никому не может показать их блеск.
Так лиса зимой умирает, обращенная мордой в гору,
Под злобный лай деревенских собак.
Прот. Андрей Спиридонов
Чтобы быть сильным, надо быть как вода. Нет препятствий — она течёт; плотина — она остановится; прорвётся плотина — она снова потечёт; в четырёхугольном сосуде она четырёхугольна; в круглом — кругла. Оттого, что она так уступчива, она нужнее всего и сильнее всего.
Лао-Цзы
Самый интересный путь на свете — это путь в глубины своей души.
Преподобный Силуан Афонский
Есть такое сравнение: млекопитающие это IBM, а птица - Macintosh (по мозгу).
Вячеслав Дубынин
Спрашивают тебя — отвечай скромным и смиренным голосом, а не спрашивают — храни молчание.
Святитель Василий Великий
Об успешности.
Антонио Сальери был значительно успешнее Моцарта - и при занятии придворных должностей, и как любимец публики, и как педагог. Его приглашали туда, где Моцарту отказывали.
Сальери хочет уверенно владеть музыкой. А Моцарт умеет ей отдаваться. Второе - это гениальность. А максимум, достигаемый при первой установке - уверенное ремесло.
Татьяна Касаткина
Пред судом Божиим имеют значение не характеры, а направление воли. Знайте, что характеры имеют значение только на суде человеческом и потому или похваляются, или порицаются; но на суде Божием характеры, как природные свойства, ни одобряются, ни порицаются. Господь взирает на благое намерение и понуждение к добру и ценит сопротивление страстям, хотя бы человек иногда от немощи и побеждался чем. И опять, судит нерадение о сем Един, ведый тайная сердца и совесть человека, и естественную его силу к добру, и окружающие его обстоятельства.
Прп. Амвросий Оптинский
Эмерджентность
Эмердже́нтность или эмерге́нтность (англиц. от emergent «возникающий, неожиданно появляющийся»)[1] в теории систем — наличие у системы свойств, не присущих её компонентам по отдельности; несводимость свойств системы к сумме свойств её компонентов.
Аналогичными понятиями в теории систем и других областях знаний являются синергичность, холизм, системный эффект, сверхаддитивный эффект, некомпозициональность.
Когда мне предложили написать иронический закадровый текст к фильму о блокаде, я был ошарашен. Но потом фантазия заработала, — а чего, пусть из-за кадра звучит: «Что, опять сто двадцать пять блокадных грамм? Опять зашитые в простыни мумии на связанных детских саночках? Хватит пафоса, больше иронии! Давайте поищем ее в этих признаниях».
Женские голоса: «Рядом лежала девочка, моя дочка. Я чувствую, что в эту ночь я должна умереть. Но, поскольку я верующая, я это скрывать не буду, я стала на колени — а кругом тьма, мороз — и говорю: “Господи! Пошли мне, чтобы ребенок меня не увидел мертвую! Потом ее заберут в детдом, а ты только дай, чтобы она меня мертвой не увидела”. Пошла на кухню и — откуда силы взялись — отодвинула стол. И за столом нахожу — вот перед богом клянусь! — бумагу из-под масла сливочного, три горошины и шелуху от картошки. Я все это с такой жадностью хватаю — я из этого завтра суп сварю! А бумагу себе запихиваю в рот. И мне кажется, я из-за этой бумаги дожила».
«Думала, не дойду. Где-то лежала, где-то сидела и думала: как же мне дойти? Но надо же, надо! У меня ребенок на Моховой сидел один. И вот ребенок меня подгонял все время, ребенок. Если бы не ребенок, я бы пала духом. У меня хорошенькая девочка такая была. И вот я шла, шла. Иду по Марсову полю и вдруг вижу: мужчина наклонился, что-то из снега выковырнул в рот — красные какие-то, малиновые пятнышки. Я нагнулась — оказывается, кто-то сироп пролил какой-то. Я выковырнула этот сироп, немножко, и в рот. Иду, иду, иду. Побегу. Остановлюсь. Нет, нельзя останавливаться — упаду. Надо идти — там же дочка. И вот дошла».
Вклинивается мужской голос: «Вот тут, на Тракторной улице снаряд не разорвался в квартире. Ну, послал туда пиротехника. Звонит оттуда: “Не могу снаряд отобрать”. Оказалось, женщина закутала снаряд в шаль — он теплый еще — и не отдает, баюкает его, как грудного ребенка. Ну, то есть человек в ненормальном состоянии».
Снова женские голоса: «Мне Толик предлагал не раз: “Мама, давай сделаем опять угар и умрем. Будет вначале больно головке, а потом и уснем”. Слышать это от ребенка было невыносимо. Мне уже умные люди говорили: ты выбери, кого спасать, двоих тебе не вытянуть; а я не могла: лучше, думаю, вместе умрем, чем вот так-то своей рукой…».
«Особенно страшно было ходить через Тучков мост — трупы обрезанные валялись».
«Мы уже были в глубоком тылу, а они все сидели, как старички, и говорили только о еде — кто что ел, когда, где... И вдруг выбегает девочка со скакалочкой — и все ребята так недоуменно на нее посмотрели: что она, мол, такое делает?..»
«Эта девочка сидела, как мышка, ни на что не реагировала. Пытаешься ей что-то рассказать — ничего. Наконец я собрала какие-то пестрые лоскутки — и вдруг она к ним потянулась!»
Мужской голос: «Весь персонал собрался, чтобы посмотреть на мальчишескую драку. Раньше схватки были только словесные и только из-за хлеба. А тут драка по принципиальному вопросу. И воспитатели смотрели и радовались.
Старческий мужской голос, очень интеллигентный: «С детьми мы разучивали стихи. Учили наизусть сон Татьяны, бал у Лариных, учили стихи Плещеева: “Из школы дети воротились, как разрумянил их мороз...”, учили стихи Ахматовой: “Мне от бабушки-татарки...” — и другие. Детям было четыре года, они уже много знали. Еды они не просили. Только когда садились за стол, ревниво следили, чтобы всем было поровну. Садились дети за стол за час, за полтора — как только мама начинала готовить. Я толок в ступке кости. Кости мы варили по многу раз. Кашу делали совсем жидкой, жиже нормального супа, и в нее для густоты подбалтывали картофельную муку, крахмал, найденный нами вместе с “отработанной” манной крупой, которой когда-то чистили беленькие кроличьи шубки детей. Крупа эта была серая от грязи, полная шерсти, но мы и ей были чрезвычайно рады. Дети сами накрывали на стол и молча усаживались. Сидели смирно и следили за тем, как готовится еда. Ни разу они не заплакали, ни разу не попросили еще: ведь все делилось поровну».
Женский голос: «А моя дочка прямо тронулась на справедливости: сидит и считает в супе каждую крупинку — одну мне, одну ей. Суп остывает, я уже плачу, мне с улицы горяченького хочется, а она все считает: тебе — мне, тебе — мне... Все должно быть поровну!»
Детский голос: «Двадцать четвертого марта одна тысяча девятьсот сорок второго года. В десять часов утра умер дядя Саша. Через два дня умер сын дяди Коли Игорь. Ему было семь лет. Теперь мы еще больше беспокоимся за маму. Мы ничего не желаем, только бы спасти ее жизнь. Она очень слаба, все время лежит, говорит вяло. Во что бы то ни стало мы решили спасти маму. Лиля у знакомой девушки покупает булку для мамы. Мы размачиваем маленькие кусочки хлеба и насильно кормим ее из ложечки. Лиля по этому поводу сочинила стихотворение:
Нет, не забыты трудные года,
Когда мы жили в осажденном Ленинграде.
Голодными работали тогда,
Но верили, придет конец блокаде.
Мы получаем скудный свой паек
В декаду раз по 200 грамм в мешочек —
Крупы немного, сахарный песок
И норму хлеба — маленький кусочек.
Ослабла мама, странный взгляд —
Глаза на нас как будто не смотрели.
В соседнем доме прогремел снаряд,
А мы ревели у ее постели.
Собрав все крохи, стали мы толкать,
Разжав с трудом синеющие губы,
Ее просили мы не умирать,
Об ложку лишь стучали зубы.
Ты ожила вдруг, руки потеплели,
Глоток, еще глоток. Не верится — жива.
Нас было пятеро, и как мы все хотели,
Чтоб вместе с нами ты жила.
Но странно, ни бомбежка, гул обстрела,
Ни холод, об отце плохая весть
Так не пугали, но как ты робела,
Когда мы все вдруг у тебя просили есть”.
Женский голос, отчитывающийся: «Работала я недолго паспортисткой на Московском проспекте, дом двадцать. Помню, зашла к нам в контору жиличка и сказала: “Я съела ребенка”. Вид у нее был при этом виноватый и в то же время довольный. Что-то с головой у нее стало».
Старческий интеллигентный голос, который мы уже слышали:
“В нашем доме вымерли семьи путиловских рабочих. Наш дворник Трофим Кондратьевич получал на них карточки и ходил вначале здоровым. На одной с нами площадке, в квартире Колосовских, как впоследствии узнали, произошел следующий случай. Женщина забирала к себе в комнату детей умерших путиловских рабочих (дети часто умирали позднее родителей, так как родители отдавали им свой хлеб), получала на них карточки, но... не кормила. Детей она запирала. Обессиленные дети не могли встать с постели; они лежали тихо и тихо умирали. Трупы их оставались тут же до начала следующего месяца, пока можно было на них получать еще карточки. Весной эта женщина уехала в Архангельск. Это была тоже форма людоедства, но людоедства самого страшного».
Женский голос: «А вот еще случаи непонимания блокадников. В одной квартире занимались изготовлением мыла. И одна знакомая женщина послала туда своего сына, что-то надо было попросить. И сын ее — Вовочка — исчез, его украли. И когда муж этой женщины узнал об этом, он не стал с нею жить».
Полный жалости, растерянный женский голос: «И вдруг уже взвешенный хлеб у мамы прямо из рук вырвал мальчик — лет десяти-двенадцати. И начал его есть, есть, как затравленный волчонок, — с такой жадностью и такими безумными глазами. Все стали кричать, даже бить, а мы с мамой стояли и плакали, и смотрели, как он его проглотил в мгновение ока, и мы остались голодными».
Еще женский голос, растроганный, но и как будто оскорбленный: «Она мне говорит: съешь, пожалуйста, мой хлеб (ну сколько там? Норма — 125 граммов хлеба), я не доживу до завтра. Лежит она рядом со мной. Койки стояли очень близко, чтобы побольше можно было впихнуть.
Помню, как я всю ночь не могла спать, потому что думала: взять хлеб или не взять? Все знают, что она не может уже есть. Но если возьму этот хлеб, то подумают, что я его украла у нее. А страшно хотелось есть. Страшная борьба с собой: чужое же! Так я хлеба и не взяла. Вот сейчас, когда говорят: голодный может все сделать, и украсть, и прочее, прочее, — я вспоминаю чувства свои, ребенка, когда чужое, хотя мне и отдавали его, я взять все-таки не могла».
Женский голос торопящийся: «Нас, детей, было четверо: я (старшая) — 8 лет, сестра Дина — четыре года, а братья Витя и Юра — еще меньше. Папа был на фронте. Мама работала на фабрике “Веретено”. Мы быстро слабели, зима стояла холодная, но мама закутывала нас — одеяло на голову накинет и выводила гулять: “Постойте, дети, хоть немного, подышите воздухом!” Но мы быстро замерзали и просились домой.
Хотелось есть постоянно. Однажды, оставшись одни в комнате, мы достали конфеты-подушечки, сберегаемые мамой, и решили их съесть. Но я как старшая распорядилась: “Нельзя есть, мама не досчитается, будет ругать. Вы только пососите их и отдайте мне, я положу их на место”. Дети поспешно обсосали конфеты и вернули их мне. Но дети все же не проглотили их, а ведь как хотелось, знаю по себе, а те ж были совсем малышки».
Ее перебивает другой голос: «Я все время просила есть, мама тысячи раз открывала буфет, кухонный стол, но нигде ничего не было, ни одной крошки. Однажды мама не выдержала: “Доченька, если ты будешь просить есть, я пойду на Неву и утоплюсь!” Неву я знала хорошо, мы туда ходили за водой. Я обвила шею мамы руками и сказала: “Мамочка, я никогда не попрошу есть, только не ходи топиться...” Я свое слово сдержала».
Голос очень ответственный — отличница, отвечающая урок: «Потом мама стала брать меня в госпиталь, и, может быть, я поэтому и осталась жива. Я мотала бинты для раненых, плясала, рассказывала стихотворения. Когда мама привела меня в госпиталь, врач сказал нам (я там была не одна, нас было четыре девочки и один мальчик), что у раненых ничего брать нельзя. Когда мы уже ничего не могли делать от голода, раненые нам совали последние свои крохи, а мы со слезами говорили, что у раненых ничего брать нельзя.
Однажды я очень заболела, была отморожена нога, гнила рана, мучила цинга. Врач спас меня. Когда я стала ходить, то иногда брала сестренку Валю из садика домой. Однажды прихожу в садик, дети уже покушали и ползали под столом, собирали крошки. Сестра (ей было четыре года), увидела меня, протянула мне кулачок, а сама заливалась слезами. В кулачке был маленький кусочек хлеба, не кусочек, а крошка. Она давала его мне, а сама так хотела есть, что плакала... Я, конечно, не взяла у нее эту крошку, а сунула ей в ротик».
Старческий интеллигентный голос: «Особенно страшна была кожа у рта. Она становилась тонкой-тонкой и не прикрывала зубов, которые торчали и придавали голове сходство с черепом.
Трупы на машины грузили “с верхом”. Чтобы больше могло уместиться трупов, часть из них у бортов ставили стоймя: так грузили когда-то непиленые дрова. Машина, которую я запомнил, была нагружена трупами, оледеневшими в самых фантастических положениях. Они, казалось, застыли, когда ораторствовали, кричали, гримасничали, скакали. Поднятые руки, открытые стеклянные глаза. Некоторые из трупов голые. Мне запомнился труп женщины, она была голая, коричневая, худая, стояла стояком в машине, поддерживая другие трупы, не давая им скатиться с машины. Машина неслась полным ходом, и волосы женщины развевались на ветру, а трупы за ее спиной скакали, подпрыгивали на ухабах. Женщина ораторствовала, призывала, размахивала руками: ужасный, оскверненный труп с остекленевшими открытыми глазами!»
Нет, ничего иронического мне из себя выдавить не удалось. Хотя и лучшие из блокадников были всего только люди. Постоянно чем-то прихвастывали. Но хвастались только стойкостью: кто-то сбежал, а я не сбежал, кто-то сразу проглатывает пайку. А я растягиваю до вечера.
Маленькие люди, сквозь которых говорило что-то большое.
Александр Мелихов
Наше сознание устроено кичливо: существующим оно считает лишь то, что ему уже известно.
Андрей Битов
Из книги "Oт двух до пяти" Коpнея Чуковского:
Двухлетнюю Сашу спpосили:
— Куда ты идeшь?
— За пеcочком.
— Но ты ужe принесла.
— Я иду за eщём.
— А из зaмужа обpатно выйти можно?
— Я — пaпин помогальник.
Девочке четыpeх с половиной лет прочли «Сказку о рыбаке и рыбке».
— Вот глупый cтарик, — возмутилась она, — просил у рыбки то новый дом, то новое коpыто. Попросил бы сразу новую старуху.
Мамa:
— Сынок, еcли ты не будeшь есть кашу, я позову Бабу-Ягу!
Сын:
— Ты думаешь, она стaнет есть твою кашу?
— Жили-были царь и цаpица, а у них был маленький царёныш.
— Мама, закрой мою зaднюю ногу!
— Бабушка, ты умpeшь?
— Умpу.
— Тeбя в яму закопают?
— Закопают.
— Глубoко?
— Глубоко.
— Вот кoгда я буду твою швeйную машину вертeть!
— Сколько тебе лeт?
— Скоро восемь, а пoка три.
— Няня, что это за paй за такой?
— А это где яблоки, гpуши, апельсины, черешни...
— Пoнимаю: рай — этo компот.
— Папa, cделай телевизор помолчее, мне сказку не слышнo.
Яна (4 года) в дeнь рождения пеpеодевается к приходу гостей:
— Ну, сейчас я такая краcивая буду, что вам всeм мало не пoкажется.
— Папочка, папoчка, купи мне барабан!
— Вот еще, мнe и так хватает шума!
— Купи, пaпочка, я буду играть на нем, тoлько когда ты будешь спать!
— Володя, знаешь: у пeтуха нос — это pот!
Лялечку побрызгали духaми: "Я вcя такая пахлая, я вся такая духлая".
И вертится у зеркала.
— Я, мамoчка, красавлюсь!
Расcтроенный отец сообщает, что разбил машину. Пятилетняя Нюра его утeшает:
— Зaто теперь бензин не надо покупать!
— Пaпа, смотри, как твои бpюки нахмурились!
— Ой, мама, какие у тебя тoлстопузые ноги!
— Мама, дaй мне нитку, я буду нанитывать бусы.
— Наша бaбуля зарезала зимою гуceй, чтоб они не пpостудились.
— Мама, как мне жалко лошадок, что они не мoгут в носу ковырять.
— Я сперва боялся тpaмвая, а потом вык, вык и привык.
Дедушка признался, чтo не умеет пелeнать новорожденных.
— А как же ты пeленал бабушку, когда она была мaленькая?
— Ой, мaма, какая прелестная гадоcть!
— Ну, Оля, хвaтит, нe плачь!
— Я плачу не тeбе, а тёте Вале.
— Обo что ты оцарапался?
— Об кoшку.
— Когдa же вы со мной поиграете? Папа с работы — сразу за телевизор. А мамa — барыня какая! — сразу стирать началa.
— Знаешь, папа, у всех зверей cпина наверху, а живoт внизу!
— Кто красивeе — папа или мaма?
— Не буду вaм отвечать, потому что не хочу oбижать маму.
— Бабушка, cмотри, какие утки глупые — сыpую воду пьют из лужи!
В автoбусе мальчик четыpех лет сидит на руках у отца. Входит женщина. Вежливый мaльчик вскакивает с папиных колeн:
— Садитесь, пoжалуйста!
Первокласcница возвращается 1-го сентября из школы. Мама ее спрашивает:
— Дочeнька, чему же ты научилась сегодня?
— Я нaучилась писать!
— В пеpвый же день? Что за ребeнoк! И что же ты напиcала?
— Не знаю. Я еще не нaучилась читать.
Настя, 4 гoда.
— Мамочкa, пожалуйста, pоди мне сестричку, но только cтаршую!
Мaша (3 года) увидела мopщинки на лбу у отца, пoгладила их и сказала:
— Я не хoчу, чтобы у тeбя были сердитки!
Жить проще — лучше всего. Голову не ломай. Молись Богу. Господь всё устроит. Не мучь себя, обдумывая, как и что сделать. Пусть будет, как случится — это и есть жить проще.
Что тебе за дело, что про тебя говорят? Если слушать чужие речи, придется взвалить осла на плечи.
Никогда ни с кем не спорь о вере. Не надо. Потому что никому ничего не докажешь, а сам только расстроишься. Не спорь.
Начало радости — быть довольным своим положением.
Как ни тяжел крест, который несет человек, но дерево, из которого он сделан, выросло на почве его сердца.
Жить — не тужить, никого не осуждать, никому не досаждать, и всем — мое почтение.
Кто нас корит, тот нам дарит. А кто хвалит, тот у нас крадет.
Прп. Амвросий Оптинский