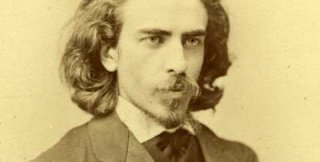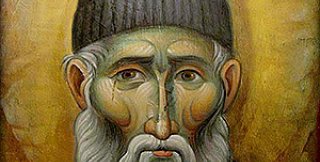Дневник
А сегодня мне хочется, чтобы Рильке говорил — через меня. Это, в просторечии, называется перевод. (Насколько у немцев лучше — nachdichten! Идя по следу поэта, заново прокладывать всю дорогу, которую прокладывал он. Ибо, пусть — nach (вслед), но — dichten! * — то, что всегда заново. Nachdichten — заново прокладывать дорогу по мгновенно зарастающим следам.) Но есть у перевода еще другое значение. Перевести не только на (русский язык, например), но и через (реку). Я Рильке перевожу на русскую речь, как он когда-нибудь переведет меня на тот свет.
За руку — через реку.
Статья о Рильке потому еще бесполезна, что он статей о других не писал, а о себе не читал. Не прочел бы (не прочтет) и моей. Рильке и статья (в Германии о нем даже пишут диссертации) — дикость. Вскрыть сущность нельзя, подходя со стороны. Сущность вскрывается только сущностью, изнутри — внутрь, — не исследование, а проникновение. Взаимопроникновение. Дать вещи проникнуть в себя и — тем — проникнуть в нее. Как река вливается в реку. Точка слияния вод — но оно никогда не бывает точкой, посему: встреча вод — встреча без расставанья, ибо Рейн — Майн принял в себя, как Майн — Рейн. И только Майн о Рейне правду и знает (свою, майнскую, как Мозель — мозельскую, вообще-Рейна, — вообще-Рильке — нам знать не дано). Как рука в руке, да, но еще больше: как река в реке.
Проникаясь, проникаю.
Всякий — подход — отход.
Марина Цветаева. Райнер Мария Рильке
----
* Петь? сказывать? сочинять? творить? — по-русски — нет (примечание М. Цветаевой)
Райнер Мария Рильке
Мне не хочется писать о Рильке статью. Мне не хочется говорить о нем, этим изымая и отчуждая его, делая его третьим, вещью, о которой говоришь, вне меня. (Пока вещь во мне, она — я, как только вещь во-вне она — она, ты нет, ты опять — я.)
Мне хочется говорить — ему (точней — в него), как я уже говорила в «Новогоднем письме» и «Твоей смерти», как еще буду говорить, никогда не кончу говорить, вслух ли, про себя ли. Что мне в том, что другие слышат, я не им говорю, ему говорю. Не им о нем, ему — его же. Ибо он именно та вещь, которую я хочу ему сказать, данный он, мой он, он моей любви, нигде вне ее не существующий.
Еще мне хочется говорить с ним — это было и кончилось, ибо, даже учитывая сон, сон — редко диалог, почти всегда монолог: нашей тоски по вещи, или тоски вещи по нас. Взаимных снов не бывает. Либо я другого в сон вызываю, либо другой в мой сон входит. Дело одного, а не двух. (Вспомним все пришествия с того света, перед которыми мы в жизни (Гамлет не в счет, ибо — литература), в жизни немы. И все наши заклинания придти, на которые никто не отзывается. «Приду, когда смогу», как мы: «увижу, когда привидится», нечто вроде старинных «оказий». Связь сохраняющаяся только внутри и рвущаяся при малейшей попытке осуществления. Разговор по сорванному проводу. Единственное доказательство смерти.) И — если даже диалог — то две партитуры одной тоски.
Словом, беседа: вопрос и ответ (здесь — ответ и ответ) моя с Рильке кончилась, и может быть — единственное, что кончилось.
А главное мне хочется, чтобы он говорил — мне. Это может быть во сне и через книги. Снов много и книг много, — невиданных снов и неизданных писем Рильке. Учитывая отзвук — хватит навек.
О посмертных письмах. Благодарна тем, кто дал мне возможность их прочесть, но их благодарности не услышу, и о природе своей благодарности — умолчу. (Исключение — «неизвестная», сообщившая, то есть создавшая вещь, которой бы без нее, в слове, не было — своего Рильке, еще одного Рильке.)
Сделали ли бы они это вчера? Весче, чем «бы», — не делали. Почему же они это делают сегодня? Что произошло между вчера и сегодня, вдохновившее и уполномочившее их на оглашение писем Рильке? — Смерть? — Значит они действительно в нее поверили, ее признали? Да, признали, и, признав, воспользовались. Дело не в целях — будем верить, самых благих. — «Поделиться». — Но почему же вчера, при жизни, не делился, хранил, берег?
— Это бы Рильке задело. — А сегодня? В чем, ради Бога, разница? Каким образом вещь, бывшая бы вчера — почти предательством доверия, сегодня, по отношению к тому же лицу, чуть ли не «священный долг»?
Вещь либо плоха, либо хороша, день — ничто, факт смерти — ничто, для Рильке — ничто, ничем никогда и не был. Опубликовывал ли он день спустя после их смерти письма своих друзей?
Дело не в целях, дело в сроках. Через пятьдесят лет, когда все это пройдет, совсем пройдет, и тела истлеют и чернила посветлеют, когда адресат давно уйдет к отправителю (я — вот первое письмо, которое дойдет!), когда письма Рильке станут просто письма Рильке — не мне — всем, когда я сама растворюсь во всем, и, — о, это главное — когда мне уже не нужны будут письма Рильке, раз у меня — весь Рильке.
Нельзя печатать без спросу. Без спросу, то есть — до сроку. Пока адресат здесь, а отправитель там, ответа быть не может. Его ответ на мой вопрос и будет срок. — Можно? — Пожалуйста. А будет это не раньше, чем — Богу ведомо.
Мне скажут (а не скажут — сама себе скажу, ибо наш худший (лучший) противник, самый зоркий и беспощадный — мы): «Но Рильке сам стоял за то, чтобы печатали его письма, в которых, наравне со стихами, жил весь»…
Рильке — да, а ты? Разрешение на печатание — пусть, но есть ли разрешение на желание? (“Позволь, чтобы мне хотелось»…) И если даже желание самого Рильке — как оно могло стать твоим? И если даже простое выполнение его желания, скажу больше, твоему вопреки — где же любовь? Ибо любовь не только повинуется — и диктует, не только отдает — но и отстаивает.
Так, разреши мне Рильке тысячу раз — мое дело отказаться. И проси меня Рильке в тысячный раз — мое дело отказать. Ибо воля моей любви выше его надо мной воли, иначе она не была бы любовь: то, что больше всего. (Беру худший для себя случай: многократной, настойчивой просьбы Рильке, которой, конечно, не было, было — обмолвка — если было.) Так, запросив: есть ли разрешение на желание? — утверждаю: есть разрешение на нежелание, не Рильке — мне — данное, моей любовью — у Рильке — взятое. — Позволь мне не только не печатать твоих писем, но этого и не хотеть.
И, от себя к другим: где же любовь? Или ты уже настолько дух, что тебе и листка не жалко? Откуда эта, со вчерашнего вечера, катастрофическая любовь к ближнему — «поделиться» — любовь, которой вчера не было, раз не делился вчера, любовь, которую вчера превышала любовь к Рильке — раз не «делился». Нет ли в этой поспешности еще и элемента безнаказанности — «не увидит» (старший — мертвый — Бог) и не есть ли то, о чем говорю, кроме признания смерти, еще и непризнание бессмертия (присутствия)?
Как можно, любя человека, отдавать его всем, «первому встречному, самому недостойному» [1]. Как можно это вынести — перевод его почерка на лино- или монотип? с бумаги той — на бумагу — эту?
Где же ревность, священная после смерти?
Дело не в ушах, уже потому не мешающих, что не слышат, не то слышат, свое слышат, а в направленности моей речи — от него (раз о нем!), в голом факте отвода речи, вне ее содержания. Ибо: не только хуля предают, и хваля предают — доверие тебе вверившегося, удостоившего тебя быть при тебе — собой. Но не только доверие — того, и доверие свое — к нему (не наши чувства в нас, а мы в них), предательство взаимного доверия, которое и есть тайна, которая и есть любовь.
Каждая мать, не устоявшая перед соблазном поделиться с другими, посторонними, каким-нибудь глубоким или любовным словом своего ребенка, и остерегавшее сжатие сердца облекающая, потом, в смутные слова: «Нехорошо… Зачем?.. Не надо бы»… мучится муками предательства. Он сказал мне (при мне), а я — всем. Пусть хорошее сказал (хорошее повторила), но я — предатель. Ибо предательство не в цели, вне цели, в простом факте передачи. Передать — предать, равно как в данном случае (печатание писем Рильке) — дать: предать.
Болевой аккомпанемент к каждому нашему слогу, болевое эхо, с той разницей, что опережает звук — вот сердце. Эхо-наоборот. Не отзвук, не призвук, до — звук. Я еще рта не раскрыла, а уже раскаиваюсь — ибо знаю, что раскрою — и рот и тайну. Раскрытие тайны есть просто раскрытие рта. Кто из нас этого не знал: «как с горы»…
Так, Иоанна до — олго не говорила дома о чуде голосов.
Была тайна. Тайны нету. Был союз. Союз распался. Брешью, проложенной типографским станком, вошли все.
Единственное разительное исключение, в которое не верю, ибо каждое исключение из — включение в (нельзя исключиться в пустоту), т. е. неминуемое попадение в другой закон — («для него закон не писан», да, ибо в данную минуту пишется им) — итак, единственное разительное исключение, т. е. — начало нового закона — знаменитые Briefwechsel [2] Беттины Брентано.
Поверим на секунду в «исключение», и —
Первое: Беттина давала не письма, а переписку, не один голос, а два. Если предательство — полное и цельное.
Второе: в переписке с Гёте (Goethes Briefwechsel mit einem Kinde [3]) Беттина, по собственному заявлению, ставит ему памятник. Памятник старцу, снизошедшему к ребенку, тому Гёте, которого вызвала она, создала она, знала только она. — Психея, играющая у ног не Амура, а Зевеса, Зевес, клонящийся не над Семелой, а над Психеей. — Прославить его по мере собственных (детских — как она думала) сил. Еще и так прославить. Вспомним Тайного Советника Гёте — и поймем Беттину.
Не забудем также, что последним гостем умирающего Гёте был старший сын Беттины, что Беттина отдавала давно-давно прошедшее, и свое — почти посмертное.
В другой книге: Gьnderode (переписка с подругой) — тот же памятник, там — старости и славе, здесь — юности и тени. Долгой жизни. Ранней смерти. Оживить бессмертие. Обессмертить раннюю смерть. Тот же долг любви. Прославить. Поставить.
Третье: Беттина переписку с близкими печатала и при жизни тех — с братом, например (Clemens Brentanos Jugendkranz [“Венок юности» Клеменса Брентано (нем.).]), с молодым другом, например, будучи уже старой женщиной (Julius Pamphilius), что уже снимает с нее всякую тень посмертного предательства.
И — все случаи в одном — Беттина, оглашая письма друзей, как бы говорит ими за бессловесных. Такого Гёте никто не знал, такой Gьnderode никто не знал, такого Клеменса, ныне мрачного фанатика церковности — забыли, такого Julius Pamphilius’a вообще не было, он весь внушен Беттиной и продержался в воздухе ровно столько, сколько она его в нем продержала.
А Рильке таким, как он в письмах, — знали все, ибо другого Рильке — «знаменитого» Рильке, «домашнего» — Рильке, «литератора» — Рильке, «человека общества» — Рильке — не было. Был один Рильке, т. е. всё, кроме упомянутого, в одном. Что прибавить к всему? — Еще — все?
Четвертое. Всякое отсутствие идеи дележа. Всякое отсутствие идеи другого (третьего). Насущное отсутствие, ибо Беттине и второго много — Ich will keine Gegenliebe! [4] — можно ли после этого вызова, брошенного в лицо Гёте, т. е. самой любви, заподозрить ее в сердобольном желании «поделиться» — тем любимым, которым и с любимым не делилась — с любым?
Любовь не терпит третьего. Беттина не терпит второго. Ей Гёте — помеха. Одна — любить. Сама — любить. Взять на себя всю гору любви и сама нести. Чтоб не было легче. Чтоб не было меньше.
Чту обратное дележу? Отдача! Беттина, в «Goethes Briefwechsel mit einem Kinde» свою безраздельную (и только посему неразделенную) любовь отдает — всю — не кому-нибудь, а во имя Твое. Так же отдает, как когда-то (сама!) брала. Так же всю, как когда-то всю — отстаивала.
Так сокровища бросают в костер.
Ни мысли о других. Ни мысли о себе. Du. Du. Du [5]. И — о чудо — кому же памятник? Kind’y, а не Гёте. Любящей, а не любимому. Беттине, не понятой Гёте. Беттине, не понятой Беттиной. Беттине, понятой Будущим: Р. -М. Рильке.
Хвастать, хвалиться, хвалить, восхвалять, славословить. Начнем с конца. Начнем с начала Беттины. «Всякое дыхание да хвалит Господа». Беттина хвалила Господа — каждым своим дыханием. Какой-то поздний толкователь Беттины: «Беттина Бога никогда не нашла, потому что никогда его не искала». Потому-то не искала, что отродясь нашла. Ищут ли леса — в лесу?
А если Беттина Бога Богом никогда не называла, — ему-то все равно, ибо он знает, что его не так зовут — никак не зовут — и так зовут. И не было ли в каждом ее «Du» больше, чем может вместить человек? И не отсылал ли ее Гёте своими отмахиваньями и отнекиваньями непосредственно к Богу? Если и доходила — не отсылал. «Я не Бог», — вот все, что Гёте сумел сказать Беттине. Рильке бы сказал: «Бог — не я».
Гёте Беттину Беттине возвращал.
Рильке бы Беттину направил — дальше.
Каждое дыхание Беттины — славословие: «Loben sollen wir» [6], — это Беттина сказала или Рильке сказал?
Письма Беттины (не Гёте — ей) — одна из самых любимых книг Рильке, как сама Беттина — одно из самых любимых, если не самое любимейшее из любимых им существ.
Еще — Беттина была первая. И, как первая — заплатила. Между приемом ее «Briefwechsel mit einem Kinde» и приемом появляющейся ныне переписки Рильке — пропасть, шириной в целый век и глубиной в целое новое людское сознание. Беттина знала, на что шла, иначе бы не предпослала своему шагу возгласа: «Dies Buch ist fur die Guten und nicht fur die Bosen!» [7] — и шла вопреки. Нынешние адресаты тоже знают, на что идут, — потому и идут.
Ничто не пример. И Беттина не пример. Беттина права безвозвратно и неповторно по тому жестокому закону исключительности, в который, родясь, вышагнула.
И, очутившись лицом к лицу с Рильке: может быть, он для всех писал? — Может быть. — Но «все» всегда будут, не данные все — будущие все. И дальние его, Рильке, с его Богом-потомком лучше услышат. Рильке то, что еще будет сбываться — века.
Те семь писем, лежащие у меня в ящике (делающие то же, что делает он, не он, а его тело, так же как и письма — не мысль, а тело мысли) — те семь писем, лежащие у меня в ящике, с его карточками и последней элегией отдаю будущим — не отдам, сейчас отдаю. Когда родятся — получат. А когда родятся — я уже пройду.
Это будет день воскресения его мысли во плоти. Пусть спят до поры, до — не Страшного, а — Светлого суда.
Так, верная и долгу и ревности, не предам и не утаю.
А сегодня мне хочется, чтобы Рильке говорил — через меня. Это, в просторечии, называется перевод. (Насколько у немцев лучше — nachdichten! Идя по следу поэта, заново прокладывать всю дорогу, которую прокладывал он. Ибо, пусть — nach (вслед), но — dichten! [8] — то, что всегда заново. Nachdichten — заново прокладывать дорогу по мгновенно зарастающим следам.) Но есть у перевода еще другое значение. Перевести не только на (русский язык, например), но и через (реку). Я Рильке перевожу на русскую речь, как он когда-нибудь переведет меня на тот свет.
За руку — через реку.
Статья о Рильке потому еще бесполезна, что он статей о других не писал, а о себе не читал. Не прочел бы (не прочтет) и моей. Рильке и статья (в Германии о нем даже пишут диссертации) — дикость. Вскрыть сущность нельзя, подходя со стороны. Сущность вскрывается только сущностью, изнутри — внутрь, — не исследование, а проникновение. Взаимопроникновение. Дать вещи проникнуть в себя и — тем — проникнуть в нее. Как река вливается в реку. Точка слияния вод — но оно никогда не бывает точкой, посему: встреча вод — встреча без расставанья, ибо Рейн — Майн принял в себя, как Майн — Рейн. И только Майн о Рейне правду и знает (свою, майнскую, как Мозель — мозельскую, вообще-Рейна, — вообще-Рильке — нам знать не дано). Как рука в руке, да, но еще больше: как река в реке.
Проникаясь, проникаю.
Всякий — подход — отход.
Рильке — миф, начало нового мифа о Боге-потомке. Рано изыскивать, дайте осуществиться.
Книгу о Рильке — да, когда-нибудь, к старости (возрасте, наравне с юностью особенно любимом Рильке), когда немножко до него дорасту. Не книгу статей, книгу бытия, но его бытия, бытия в нем.
Лиц, затронутых данными письмами и может быть немецкого языка не знающих (хорошего перевода на русский его стихов — нет), отвожу к его книге «Les Cahiers de Malte Laurids Brigge» [9] (в прекрасном переводе Maurice Betz’a, самим Рильке проверенном) и к маленькой, предсмертной, книжечке стихов «Vergers» [10], французской в подлиннике.
Медон, февраль 1929
Примечания
1. Кавычки из будущего (примеч. М. Цветаевой).
2. Переписка (нем.).
3. Переписка Гёте с ребенком (нем.).
4. Я не хочу взаимности! (нем.).
5. Ты. Ты. Ты (нем.).
6. «Хвалить должны мы» (нем.).
7. «Эта книга для добрых, а не для злых!» (нем.).
8. Петь? сказывать? сочинять? творить? — по-русски — нет (примеч. М. Цветаевой).
9. Записки Мальте Лауридса Бригге (фр.).
10. Сады (фр.).
Гегель (Georg-Friedrich-Wilhelm Hegel) может быть назван философом по преимуществу, ибо изо всех философов только для него одного философия была всё. У других мыслителей она есть старание постигнуть смысл сущего; у Гегеля, напротив, само сущее старается стать философией, превратиться в чистое мышление. Прочие философы подчиняли своё умозрение независимому от него объекту; для одних этот объект был Бог, для других – природа. Для Гегеля, напротив, сам Бог был лишь философствующий ум, который только в совершенной философии достигает и своего собственного абсолютного совершенства; на природу же в её эмпирических явлениях Гегель смотрел как на чешую, которую сбрасывает в своём движении змея абсолютной диалектики.
Вл. С. Соловьёв. Начало статьи Гегель в энциклопедическом словаре Бокгауза и Ефрона
Если помолишься от сердца о спасении, хотя и мало, - спасешься.
Преподобный Моисей Оптинский
«Автобус» . Апрель 1934 — июнь 1936 гг.
В Брюсселе Цветаева пробыла неделю — с 20 по 27 мая. Общалась там с Зинаидой Алексеевной Шаховской, сестрой Дмитрия Алексеевича Шаховского, десять лет назад напечатавшего в "Благонамеренном" ее "Цветник" и "Поэт о критике". Зинаида Алексеевна сотрудничала в бельгийском издательстве и периодическом "Журналь де Поэт". Она была значительно моложе Марины Ивановны; впервые увидела ее в начале тридцатых годов и, по собственным словам, всегда робела в ее присутствии. Много лет спустя она вспоминала Цветаеву
"в скромном, затрапезном платье с жидковатой челкой на лбу, волосы неопределенного цвета, блондинистые, пепельные с проседью, бледное лицо, слегка желтоватое. Серебряные браслеты и перстни на рабочих руках. Глаза зеленые, но не таинственно-зеленые, не поражающие красотою, смотрят вперед, как глаза ночной птицы, ослепленной светом… Я не встречала никого из выступающих перед публикой более свободного от желания понравиться… В частной жизни тоже было у Марины Цветаевой полное отсутствие женского шарма… Того, что можно назвать "бабьим", в ней не было ни крошки. Ни хитрости, ни лукавства…"
Жила Марина Ивановна в семье брата Ариадны Берг, Бориса Эмильевича Вольтерса, и его жены Ольги Николаевны. С Ольгой Николаевной (свояченицей Ариадны Берг) Цветаева познакомилась в марте, и та сразу же устроила ей поездку в Брюссель. Выступала Марина Ивановна дважды: первый раз читала французский "Отец и его музей", второй — русские "Нездешний вечер" и "Слово о Бальмонте", — все в том же "бельгийском доме" Вольтерсов.
Она привезла в Брюссель рукопись французских "Девяти писем…" и дала их прочесть некоему господину Люсьену де Нек, знакомому Вольтерсов, а впоследствии — близкому другу Ариадны Берг. Она хотела, чтобы Шаховская тоже познакомилась с ними (почему не отдала рукопись сразу ей, а совсем чужому человеку, непонятно). Мечтала присоединить к ним "Письмо к Амазонке" и напечатать отдельной книжкой в "Журналь де Поэт". Однако и месяц с лишним спустя она не добилась никакого толку; Шаховская никогда эту рукопись так и не получила. Ни одна из французских прозаических вещей Цветаевой не увидела свет, — как и поэма "Молодец". Поистине, судьба французских работ Цветаевой оказалась роковой… И тем не менее она твердо вознамерилась переводить на французский Пушкина, о чем, по-видимому, договорилась с Шаховской.
Но пока что вернулась к своему старому долгу: поэме "Автобус", начатой еще в апреле 1934 года в Кламаре; затем, после большого перерыва, недолго работала над нею в декабре 1935, вновь оставила и вот теперь, приехав из Брюсселя, пыталась ее завершить. Скажем о поэме словами Ариадны Эфрон в 60-е годы:
«"Автобус" — последняя поэма, созданная Мариной Цветаевой. Тема этого произведения, на первый взгляд несвойственная поэту — сугубо "частный" и малопримечательный случай (эпизод): загородная прогулка двух, по-видимому ничем друг с другом не связанных людей: "спутника" и "спутницы". Спутница всем существом своим радуется краскам и запахам весны, впивая их, сливаясь с ними; ликование пробудившейся земли заставляет ее забыть о бедах, обидах, заботах, о собственных седеющих волосах. Спутник же единственной небрежно брошенной фразой о цветущем дереве показывает свое отношение "потребителя" — гурмана и пошляка — к самой красоте, к земле, породившей ее, а значит и ко всему прекрасному в жизни, — к человеку, к любви — к самой жизни».
Эта, казалось бы, несложная тема маленькой поэмы потребовала колоссальной работы: черновики "Автобуса" занимают "более семидесяти рукописных страниц: отдельные строфы и строки насчитывают до 10–15 вариантов". Ибо это не просто поэма о прогулке; переживания героини на природе как бы пронизаны вселенским ходом вещей, сиюминутность — Вечностью…
Каждою жилою — как по желобу —
Влажный, надежный, зеленый дым.
Зелень земли ударяла в голову,
Переполняла ее — полны'м!..
Зазеленевшею хворостиной
Спутника я, как гуся, гнала.
Спутника белая парусина
Прямо-таки — паруса была!
По зеленя'м, где земля смеялась, —
Прежде была — океана дном! —
На парусах тех душа сбиралась
Плыть океана за окоём!
Но быт и бытие — враги; от их соприкосновения происходит "короткое замыкание". Бытийное состояние "спутницы" и бытовое — "спутника" вначале существовали параллельно; она радовалась жизни, он — молчал; о нем лишь — недоуменные строки: "Отяжелевшего без причины Спутника я, как дитя, вела". Прогулка продолжалась, покуда он не заговорил. И тут произошел взрыв:
И какое-то дерево облаком целым —
Сновиденный, на нас устремленный обвал…
"Как цветная капуста под соусом белым!" —
Улыбнувшись приятно, мой спутник сказал.
Этим словом — куда громовее, чем громом
Пораженная, прямо сраженная в грудь:
— С мародером, с воро'м, но не дай с гастрономом,
Боже, дело иметь, Боже, в сене уснуть!..
Таков безжалостный приговор эстету, потребителю, которому ведомы лишь вкусовые ощущения, — хотя, по воспоминаниям дочери, знакомый Марины Ивановны, вдохновивший ее на эти строки, не был в действительности таким приземленным "гурманом", а все дело было в художественной задаче:
Ты, который так царственно мог бы — любимым
Быть, бессмертно-зеленым (подобным плющу!) —
Неким цветно-капустным пройдешь анонимом
По устам: за цветущее дерево — мщу.
Поэма "Автобус" осталась незавершенной, а бесконечные варианты разных ее строф и строк являют собою истинный "цветник" поэзии, живое доказательство цветаевского утверждения:
"Мне нечего давать в печать, так как… в последнюю секунду — уверенность, что можно, или отчаяние, что должно — данную строку (иногда дело в слове!) сделать лучше".
После 16 июня Цветаева к поэме "Автобус" больше не возвращалась.
* * *
Теперь она увлеченно работала над переводами на французский стихотворений Пушкина — к предстоящей в феврале следующего года годовщине со дня его гибели. Денежные интересы за этой работой не стояли; часть Марина Ивановна предполагала бесплатно напечатать в "Журналь де Поэт" у Шаховской, а также составить для французов сборник из переводов своих любимых стихотворений (всего перевела четырнадцать). В сущности, все второе полугодие 1936-го ушло на эту адову работу, составившую, по словам самой Цветаевой, две черновые тетради "по двести страниц каждая — до четырнадцати вариантов некоторых стихотворений". Она преследовала высшую творческую задачу: внутренне — возможно ближе следовать Пушкину, не впадая вместе с тем в рабскую зависимость от него, убегая от слепого подражания. Увы, переводы эти, как и почти все французское у Цветаевой, постигла та же роковая участь: лишь малая их часть увидела свет…
Седьмого июля Марина Ивановна с сыном (Сергей Яковлевич собирался приехать позже) отбыла в Море' сюр Луан, средневековый маленький городок к югу от Парижа, под Фонтенбло. Городок был пуст; на улицах, кроме главной, торговой, — ни души; много стариков и… кошек. Так описывала Цветаева этот уголок, надеясь, что ее ждет спокойная работа над пушкинскими переводами. Жили они на втором этаже домика, примыкавшего к церкви двенадцатого века; сняли две комнаты; помогали с покупками хозяевам — старой матери и парализованной дочери. Маршруты прогулок были разнообразны: и к реке, и на холм, и в лес…
Однако непрерывные дожди заставили Марину Ивановну покинуть Море' сюр Луан 31 июля.
Саакянц Анна Александровна. «Марина Цветаева. Жизнь и творчество»
Я от природы очень веселая. (М. б. это — другое, но другого слова нет.) Мне очень мало нужно было, чтобы быть счастливой. Свой стол. Здоровье своих. Любая погода. Вся свобода. — Всё. — И вот — чтобы это несчастное счастье — тaк добывать, — в этом не только жестокость, но глупость. Счастливому человеку жизнь должна — радоваться, поощрять его в этом редком даре. Потому что от счастливого — идет счастье. От меня — шло. Здoрово шло. Я чужими тяжестями (взвaленными) играла, как атлет гирями. От меня шла — свобода. Человек — вдруг — знал, что выбросившись из окна — упадет вверх. На мне люди оживали как янтарь. Сами начинали играть. Я не в своей роли — скалы под водопадом: скалы, вместе с водопадом падающей на (совесть) человека… Попытки моих друзей меня растрагивают и расстраивают. Мне — совестно: что я еще жива. Тaк себя должны чувствовать столетние (умные) старухи…
Если бы я была на десять лет моложе: нет — нa пять! — часть этой тяжести была бы — с моей гордости — снята тем, что мы для скорости назовем — женской прелестью (говорю о своих мужских друзьях) — а тaк, с моей седой головой — у меня нет ни малейшей иллюзии: всё, что для меня делают — делают для меня — а, не для себя… И это — горько. Я тaк [2] привыкла — дарить!
_______
(NB! Вот куда завела — «комната».)
Моя беда в том, что для меня нет ни одной внешней вещи, всё-сердце и судьба.
Марина Цветаева - Меркурьевой В. А., 1940
* * *
Меркурьевой В. А.
20-ГО ФЕВРАЛЯ 1940 Г. ГОЛИЦЫНО, ДОМ ОТДЫХА ПИСАТЕЛЕЙ (БЕЛОРУССК‹ОЙ› Ж‹ЕЛЕЗНОЙ› Д‹ОРОГИ›)
Дорогая Вера Меркурьева,
(Простите, не знаю отчества)
Я Вас помню — это было в 1918 г., весной, мы с вами ранним рассветом возвращались из поздних гостей. И стихи Ваши помню — не строками, а интонацией, — мне кажется, вроде заклинаний?
Э‹ренбур›г мне говорил, что Вы — ведьма и что он, конечно, мог бы Вас любить.
…Мы все старые — потому что мы раньше родились! — и все-таки мы, в беседе с молодыми, моложе их, — какой-то неистребимой молодостью! — потому что на нашей молодости кончился старый мир, на ней — оборвался.
— Я редко бываю в Москве, возможно реже: ледяной ад поездов, и катящиеся лестницы, и путаница трамваев, — и у меня здесь в голицын-ской школе учится сын, от которого я не уезжаю, а — отрываюсь, и я как вол впряглась в переводную работу, на которую уходит весь день. И первое желание, попав в Москву-выбраться из нее. (У меня нет твердого места, есть — нора, вернее — четверть норы — без окна и без стола, и где — главное — нельзя курить.)
Но я все-таки приду к Вам — из благодарности, что вспомнили и окликнули.
МЦ.
ГОЛИЦЫНО, 10-ГО МАЯ 1940 Г.
Дорогая Вера Меркурьева,
Не объясните равнодушием: всю зиму болел — и сейчас еще хворает сын, всю зиму — каждый день — переводила грузин — огромные глыбы неисповедимых подстрочников — а теперь прибавилось хозяйство (раньше мы столовались в Доме отдыха, теперь таскаю сюда и весь день перемываю свои две кастрюльки и переливаю — из пустого в порожнее; если бы — из пустого в порожнее!) — кроме того, не потеряла, а погребла Ваше письмо с адресом, только помнила: Арбат, а Арбат — велик.
О Вашем знакомом. Я поняла, что писатель, приехавший в писательский дом — жить, и рассчитывала встретиться с ним вечером (мы иногда заходим туда по вечерам), а когда мы пришли — его там не оказалось, т. е. оказалось, что он нарочно приезжал от Вас и тотчас же уехал. Вышло очень неловко: я даже не предложила ему чаю.
Буду у Вас (т. е. — надеюсь быть) 12-го, в выходной день, часам к 11-ти — 12-ти утра, простите за такой негостевой час, но я в городе бываю редко и всегда намало, и всегда столько (маленьких!) дел.
10-го июня собираюсь перебраться поближе к Москве, тогда, авось, будем чаще встречаться — если Вам этого, после встречи со мной, захочется.
Итак, до послезавтра!
Сердечно обнимаю
МЦ.
Непременно передайте Вашему знакомому, что я очень жалею, что его тогда — тaк — отпустила, но мне было просто неловко задерживать его, думая, что он торопится раскладываться и устраиваться.
Объясните ему.
МОСКВА, 31-ГО АВГУСТА 1940 Г.
Дорогая Вера Александровна,
Книжка и письмо дошли, но меня к сожалению не было дома, так что я Вашей приятельницы не видела. Жаль. Для меня нет чужих: я с каждым — с конца, как во сне, где нет времени на предварительность.
Моя жизнь очень плохая. Моя нежизнь. Вчера ушла с ул‹ицы› Герцена, где нам было очень хорошо, во временно-пустующую крохотную комнатку в Мерзляковском пер‹еулке›. Весь груз (колоссальный, все еще непомерный, несмотря на полный месяц распродаж и раздач) оставили на ул‹ице› Герцена — до 15-го сентября, в пустой комнате одного из профессоров. — А дальше??? —
Обратилась к заместителю Фадеева — Павленко — очаровательный человек, вполне сочувствует, но дать ничего не может, у писателей в Москве нет ни метра, и я ему верю. Предлагал загород, я привела основной довод: собачьей тоски, и он понял и не настаивал. (Загородом можно жить большой дружной семьей, где один другого выручает, сменяет, и т. д. — а тaк — Мур в школе, а я с утра до утра — одна со своими мыслями (трезвыми, без иллюзий) — и чувствами (безумными: якобы-безумными, — вещими), — и переводами, — хватит с меня одной такой зимы.‹)›
Обратилась в Литфонд, обещали помочь мне приискать комнату, но предупредили, что «писательнице с сыном» каждый сдающий предпочтет одинокого мужчину без готовки, стирки и т. д. — Где мне тягаться с одиноким мужчиной!
Словом, Москва меня не вмещает.
Мне некого винить. И себя не виню, п. ч. это была моя судьба. Только — чем кончится??
Я свое написала. Могла бы, конечно, еще, но свободно могу не. Кстати, уже больше месяца не перевожу ничего, просто не притрагиваюсь к тетради: таможня, багаж, продажи, подарки (кому — чтo), беганье по объявлениям (дала четыре — и ничего не вышло) — сейчас — переезд… И — доколе?
Хорошо, не я одна… Да, но мой отец поставил Музей Изящных Искусств — один на всю страну — он основатель и собиратель, его труд — 14-ти лет, — о себе говорить не буду, нет, все-таки скажу — словом Шенье, его последним словом: — Et pourtant il у avait quelque chose la… [1] (указал на лоб) — я не могу, не кривя душой, отождествить себя с любым колхозником — или одесситом — на к‹оторо›го тоже не нашлось места в Москве.
Я не могу вытравить из себя чувства — права. Не говоря уже о том, что в бывшем Румянцевском Музее три наши библиотеки: деда: Александра Даниловича Мейна, матери: Марии Александровны Цветаевой, и отца: Ивана Владимировича Цветаева. Мы Москву — задарили. А она меня вышвыривает: извергает. И кто она такая, чтобы передо мной гордиться?
_______
У меня есть друзья, но они бессильны. И меня начинают жалеть (чтo меня уже смущает, наводит на мысли) — совершенно чужие люди. Это — хуже всего, потому что я от малейшего доброго слова — интонации — заливаюсь слезами, как скала водой водопада. И Мур впадает в гнев. Он не понимает, что плачет не женщина, а скала.
…Единственная моя радость — Вы будете смеяться — восточный мусульманский янтарь, который я купила 2 года назад, на парижском «толчке» — совершенно мертвым, восковым, обогретым плесенью, и который с каждым днем на мне живеет: оживает, — играет и сияет изнутри. Ношу его на теле, невидимо. Похож на рябину.
_______
Мур поступил в хорошую школу, нынче был уже на параде, а завтра первый день идет в класс.
…И если в сердечной пустыне,
Пустынной — до краю очей,
Чего-нибудь жалко — так сына:
Волчонка — еще поволчей…
(Это — старые стихи. Впрочем, все старые. Новых — нет.) С переменой мест я постепенно утрачиваю чувство реальности: меня — все меньше и меньше, вроде того стада, к‹отор›ое на каждой изгороди оставляло по клоку пуха… Остается только мое основное нет.
_______
Еще одно. Я от природы очень веселая. (М. б. это — другое, но другого слова нет.) Мне очень мало нужно было, чтобы быть счастливой. Свой стол. Здоровье своих. Любая погода. Вся свобода. — Всё. — И вот — чтобы это несчастное счастье — тaк добывать, — в этом не только жестокость, но глупость. Счастливому человеку жизнь должна — радоваться, поощрять его в этом редком даре. Потому что от счастливого — идет счастье. От меня — шло. Здoрово шло. Я чужими тяжестями (взвaленными) играла, как атлет гирями. От меня шла — свобода. Человек — вдруг — знал, что выбросившись из окна — упадет вверх. На мне люди оживали как янтарь. Сами начинали играть. Я не в своей роли — скалы под водопадом: скалы, вместе с водопадом падающей на (совесть) человека… Попытки моих друзей меня растрагивают и расстраивают. Мне — совестно: что я еще жива. Тaк себя должны чувствовать столетние (умные) старухи…
Если бы я была на десять лет моложе: нет — нa пять! — часть этой тяжести была бы — с моей гордости — снята тем, что мы для скорости назовем — женской прелестью (говорю о своих мужских друзьях) — а тaк, с моей седой головой — у меня нет ни малейшей иллюзии: всё, что для меня делают — делают для меня — а, не для себя… И это — горько. Я тaк [2] привыкла — дарить!
_______
(NB! Вот куда завела — «комната».)
Моя беда в том, что для меня нет ни одной внешней вещи, всё-сердце и судьба.
_______
Привет Вашим чудным тихим местам. У меня лета не было, но я не жалею, единственное, что во мне есть русского, это — совесть, и она не дала бы мне радоваться воздуху, тишине, синеве, зная, что, ни на секунду не забывая, что — другой в эту же секунду задыхается в жаре и камне.
Это было бы — лишнее терзание.
Лето хорошо прошло: дружила с 84-летней няней, живущей в этой семье 60 лет. И был чудный кот, мышиный, египтянин, на высоких ногах, урод, но божество. Я бы — душу отдала — за такую няню и такого кота.
_______
Завтра пойду в Литфонд («еще много-много раз») — справляться о комнате. Не верю. Пишите мне по адр‹есу›: Москва, Мерзляковский пер‹еулок›, д‹ом› 16, кв‹артира› 27
Елизавете Яковлевне Эфрон
(для М. И. Ц.)
Я здесь не прописана и лучше на меня не писать. Обнимаю Вас, сердечно благодарю за память, сердечный привет Инне Григорьевне.
МЦ.
______________________________________________________________________
1. А все же кое-что здесь было… (фр.).
2. Подчеркнуто три раза.
14 СЕНТ‹ЯБРЯ› 1940 Г.
Ответ на письмо поэтессе В. А. Меркурьевой
(меня давно знавшей)
— «В одном Вы ошибаетесь — насчет предков»…
Ответ: отец и мать — не предки. Отец и мать — исток: рукой подать. Даже дед — не предок. Предок ли прадед? Предки — давно и далёко, предки — череда, приведшая ко мне, …
Человек, не чувствующий себя отцом и матерью — подозрителен. «Мои предки» — понятие доисторическое, мгла (туман) веков, из к‹отор›ой наконец проясняются: дед и бабка, отец и мать, — я.
Отец и мать — те, без к‹отор›ых меня бы не было. Хорош — туман!
То, что я, всё, что я — от них (через них), и то, что они всё, что они — я.
Даже Гёте усыновил своего маниакального отца:
Von Vater hab ich die Statur,
Des Lebens ernstes Fuhren,
V‹on Mutterchen die Fohnatur›
U‹nd Lust zu fabulieren› [1].
А Марк Аврелий — тот просто начинает:
Отцу я обязан… — и т. д.
Без этой обязанности отцу, без гордости им, без ответственности за него, без связанности с ним, человек — СКОТ.
— Да, но сколько недостойных сыновей. Отец — собирал, сын — мот…
— Да, но разве это мой случай?
Я ничем не посрамила линию своего отца. (Он поставил) Он 30 лет управлял Музеем, в библиотеке к‹оторо›го — все мои книги. Преемственность — налицо.
— «Отец, мать, дед»… «Мы Москву задарили»… «Да Вы-то сами — чтo дали Москве?»
Начнем с общего. Человек, раз он родился, имеет право на каждую точку земного шара, ибо он родился не только в стране, городе, селе, но — в мире.
Или: ибо родившись в данной стране, городе, селе, он родился-то распространению — в мире.
Если же человек, родясь, не имеет права на каждую точку земного шара — то на какую же единственную) точку земного шара он имеет право? На ту, на к‹отор›ой он родился. На свою родину.
Итак я, в порядке каждого уроженца Москвы, имею на нее право, п. ч. я в ней родилась.
Что можно дать городу, кроме здания — и поэмы? (Канализацию, конечно, но никто меня не убедит, что канализация городу нужнее поэм. Обе нужны. По-иному — нужны.)
________
Перейдем к частному.
Что «я-то сама» дала Москве?
«Стихи о Москве» — «Москва, какой огромный странноприимный дом…» «У меня в Москве — купола горят»… «Купола — вокруг, облака — вокруг»… «Семь холмов — как семь колоколов»… — много еще! — не помню, и помнить — не мне.
Но даже — не напиши я Стихи о Москве — я имею право на нее в порядке русского поэта, в ней жившего и работавшего, книги к‹оторо›го в ее лучшей библиотеке. (Книжки нужны? а поэт — нет?! Эх вы, лизатели сливок!)
_______
Я ведь не на одноименную мне станцию метро и не на памятную доску (на доме, к‹отор›ый снесен) претендую — на письменный стол белого дерева, под к‹оторы›м пол, над к‹отор›ым потолок и вокруг к‹оторо›го 4 стены.
_______
Итак, у меня два права на Москву: право Рождения и право избрания. И в глубоком двойном смысле —
Я дала Москве то, что я в ней родилась.
Родись я в селе Талицы Шуйского уезда Владим‹ирской› губ‹ернии›, никто бы моего права на Талицы Шуйского уезда Владим‹ирской› губ‹ернии› не оспаривал.
Значит, всё дело в Москве — миров‹ом› городе.
А какая разница — Талицы и Москва?
Но «мировой город» — то она стала — потом, после меня, я — раньше нынешней, на целых 24 года, я родилась еще в «четвертом Риме» [Москву называли третьим Римом, хранителем православия, полагая что «четвертому не бывать». Автор этой теории — старец Филофей (XVI в.).] и в той, где
…пасут свои стада
Патриархальные деревни
У Патриаршего пруда
(моего пруда, пруда моего младенчества).
Оспаривая мое право на Москву, Вы оспариваете право киргиза на Киргизию, тунгуса на Тунгусию, зулуса на Зулусию.
Вы лучше спросите, что здесь делают 31/2 милл‹иона› немосквичей и что они Москве дали.
— Право уроженца — право русского поэта — право вообще — поэта, ибо если герм‹анский› поэт Р‹ильке›, сказавший‹:›
Als mich der grosse Ivan ans Herz schlug [2], на Москву не вправе… то у меня руки опускаются, как всегда — от всякой неправды — кроме случая, когда правая — в ударе — заносится.
Все права, милая В‹ера› Ал‹ександровна›, все права, а не одно.
Итак, тройное право, нет, четверное, нет, пятерное: право уроженца, право русского поэта, право поэта Стихов о Москве, право русского поэта и право вообще поэта:
Я — вселенной гость,
Мне — повсюду пир.
И мне дан в удел —
Весь подлунный мир!
И не только подлунный!
МЦ.
14 сент‹ября› 1940 г. (NB! чуть было не написала 30 г. А — хорошо бы!)
___________________________________________________________________
1. Отцу я обязан ростом,
Серьезной в жизни целью,
‹От матушки — любовь моя
К рассказам и веселью.› (Пер. с нем. Н. А. Холодковского.)
2. Когда Иван Великий ударил меня по сердцу… (нем.).
Жизнь и смерть давно беру в кавычки,
Как заведомо-пустые сплёты.
Марина Цветаева. Новогоднее, 1927
Одному человеку я задал хорошую взбучку! Видели бы вы, какое послушание оказывает ему жена, несмотря на то что она наделена многими способностями и дарованиями. Рядом с ней он всё равно что дитя малое. И вот эта женщина, оказывая мужу послушание, постоянно приемлет Божественную Благодать, откладывает Её на свой духовный счёт, тогда как её муж своим эгоизмом постоянно отгоняет от себя Божественную Благодать и становится всё более и более пустым. И кто в конечном итоге останется в выигрыше? Видишь: весь секрет в смирении. В нём – вся основа. Послушание, смирение. А вот если бы этот человек признавал свою слабость и просил помощи у Бога, то к нему тоже пришла бы Божественная Благодать.
Преподобный Паисий Святогорец
«Поэт, механик и геолог,
Врач, живописец и теолог,
Общины русской публицист,
Ты мудр, как змий, как голубь чист».
Мемуарист Д. Н. Свербеев о Хомякове
* * *
Хомяков, по словам о. Павла Флоренского, «самый чистый и самый благородный из великих людей новой русской истории»
Разумное развитие народа есть возведение до общечеловеческого значения того типа, который скрывается в самом корне народного бытия.
Алексей Степанович Хомяков
Церковь одна, несмотря на видимое ее деление для человека, еще живущего на земле. (...) Живущий на земле, совершивший земной путь, не созданный для земного пути (как ангелы), не начинавший еще земного пути (будущие поколения), все соединены в одной Церкви — в одной благодати Божией. (...) Церковь видимая, или земная, живет в совершенном общении и единстве со всем телом церковным, коего глава есть Христос. (...) Церковь живет даже на земле не земною, человеческой жизнью, но жизнью божественной и благодатною. (...) Ибо один Бог, и одна Церковь...
Алексей Хомяков. Церковь одна
Ежемесячный доход украинского политолога Вячеслава Ковтуна и американского журналиста Майкла Бома, участников политических ток-шоу на российских телеканалах, может достигать одного миллиона рублей. Об этом со ссылкой на осведомленный источник сообщает kp.ru.
- Часть экспертов ходит туда бесплатно, а часть - за деньги, - поделился собеседник «КП» . - Для кого-то это работа. Украинцы не приходят без оплаты. Политолог уровня Дмитрия Суворова обходится от 10 до 15 тысяч за эфир. Более раскрученным платят до 30 тысяч рублей. Самый дорогой - Вячеслав Ковтун. Его месячный заработок со всех шоу и каналов - от 500 до 700 тысяч рублей. Иногда до миллиона в месяц. Примерно столько же получает Майкл Бом. У американца вообще есть эксклюзивный контракт и ставка. Он обязан посещать определенное число эфиров. Поляк Якуб Корейба получает меньше 500 тысяч в месяц. Его проблема в том, что он недостаточно часто бывает в Москве. Все официально - оформляют договор, платят налоги.
Получается хорошая затравка для анекдота: «Как-то собрались американец, украинец и поляк поговорить политике. И все за русские деньги…» То есть эти люди кроют Россию последними словами на российском ТВ - и за это набивают свои карманы!
Зинаида Шаховская о Цветаевой:
«В скромном, затрапезном платье с жидковатой челкой на лбу, волосы неопределенного цвета, блондинистые, пепельные с проседью, бледное лицо, слегка желтоватое. Серебряные браслеты и перстни на рабочих руках. Глаза зеленые, но не таинственно-зеленые, не поражающие красотою, смотрят вперед, как глаза ночной птицы, ослепленной светом… Я не встречала никого из выступающих перед публикой более свободного от желания понравиться… В частной жизни тоже было у Марины Цветаевой полное отсутствие женского шарма… Того, что можно назвать "бабьим", в ней не было ни крошки. Ни хитрости, ни лукавства…»
Не было, потому что не интересовало её это. (С.К.)
* * *
В Брюсселе Цветаева пробыла неделю — с 20 по 27 мая. Общалась там с Зинаидой Алексеевной Шаховской, сестрой Дмитрия Алексеевича Шаховского, десять лет назад напечатавшего в "Благонамеренном" ее "Цветник" и "Поэт о критике". Зинаида Алексеевна сотрудничала в бельгийском издательстве и периодическом "Журналь де Поэт". Она была значительно моложе Марины Ивановны; впервые увидела ее в начале тридцатых годов и, по собственным словам, всегда робела в ее присутствии. Много лет спустя она вспоминала Цветаеву
"в скромном, затрапезном платье с жидковатой челкой на лбу, волосы неопределенного цвета, блондинистые, пепельные с проседью, бледное лицо, слегка желтоватое. Серебряные браслеты и перстни на рабочих руках. Глаза зеленые, но не таинственно-зеленые, не поражающие красотою, смотрят вперед, как глаза ночной птицы, ослепленной светом… Я не встречала никого из выступающих перед публикой более свободного от желания понравиться… В частной жизни тоже было у Марины Цветаевой полное отсутствие женского шарма… Того, что можно назвать "бабьим", в ней не было ни крошки. Ни хитрости, ни лукавства…"
Саакянц Анна Александровна. «Марина Цветаева. Жизнь и творчество»
…Константин Бальмонт, "Бальмонтик" голодной Москвы, старый и старинный друг. С годами виделись все реже, но дружба оставалась верной и нежной. О Бальмонте — трогательные цветаевские записи в тетрадях; он, в свою очередь, вспоминал о том, что когда у Марины в доме оставалось шесть картофелин, три она приносила ему. Цветаева находилась еще в Москве, когда Бальмонт уже приветствовал ее из Парижа со страниц "Современных записок", вспоминая их дружбу в тяжкие московские годы, — а главное, предварял ее стихотворения, которые сам же и устроил в журнал. Поэт уникальной эрудиции, владевший многими языками, неутомимый труженик, великий обожатель женщин, никогда не выходивший из роли коленопреклоненного Дон-Жуана. Но главное: поэт в чистом виде, олицетворение Поэзии, поэт и ничего больше, кроме Поэта. Одиннадцать лет назад Цветаева приветствовала Бальмонта со страниц чешского журнала "Своими путями" — в связи с тридцатипятилетием (или тридцатилетием?) его литературного творчества; деятельность поэта и впрямь была так велика, что и тогда, и теперь вышла путаница с окончательной датой: нынче уже считалось — полвека…
Вечер состоялся 24 апреля в зале Социального музея. Цветаевское "Слово о Бальмонте" прозвучало голосом самой души. Она говорила о том, что Бальмонт и Поэт — адекватны, что печать поэта на каждом его слове и жесте. Что он парит в своих высотах и не желает спускаться оттуда. И в то же время вспоминает его дружество, нежность, товарищество — в голодной Москве 1920 года, что Бальмонт всегда отдавал ей последнее: трубку, корку, спичку… Дает поэта в его неповторимой речи. Сообщает целый свод его трудов: тридцать пять книг стихов, двадцать — прозы, языки, страны, миры, в которые он погружался. О том, что помочь больному великому поэту — первейший долг эмиграции. Что помощь поэту — важнее собраний, договоров и войн. Вдохновенное, благодарственное слово, какое умела произносить лишь она…
"Слово" Марине Ивановне удастся напечатать лишь в сербском журнале "Русский архив", где работал В. И. Лебедев: к счастью, русский текст уцелеет…
Саакянц Анна Александровна. «Марина Цветаева. Жизнь и творчество»
С января по апрель Цветаева была занята поправками к "Поэме о Царской Семье". Взяла тетрадь 1935 года, где были пустые страницы, предназначавшиеся для поэмы "Певица", которую она так и не завершит; переписала названия глав и эпизодов внутри них, а также отрывки, в которые вносила поправки. (Обо всем этом мы упоминали, когда речь шла о работе над "Поэмой о Царской Семье" в 1930 году.) Эти страницы с поправками — все, что осталось от поэмы. И еще запись во время работы:
"Если бы мне на выбор — никогда не увидать России — или никогда не увидать своих черновых тетрадей (хотя бы этой, с вариантами Царской) — не задумываясь, сразу. И ясно — что.
Россия без меня обойдется, тетради — нет.
Я без России обойдусь, без тетрадей — нет.
П. ч. вовсе не: жить и писать, а жить = писать и: писать = жить. Т. е. всё осуществляется и даже живется <… > только в тетради…"
* * *
Наступила настоящая весна. Первого апреля Сергей Яковлевич, беспокоясь о здоровье любимой сестры, отправил в Москву с очередным отъезжавшим знакомым открытку с видом на Сите и Нотр-Дам? А за два дня до того Марина Ивановна, вероятно, несколько травмированная проблемой отъезда, повисшей над семьей, писала Тесковой:
"Живу под тучей — отъезда. Еще ничего реального, но мне — для чувств — реального не надо.
Чувствую, что моя жизнь переламывается пополам и что это ее — последний конец.
Завтра или через год — я всё равно уже не здесь… и всё равно уже не живу. Страх за рукописи — что-то с ними будет? Половину — нельзя везти!..
Та'к, тяжело дыша, живу (не-живу)…
С<ергея> Яковлевича) держать здесь дольше не могу — да и не держу — без меня не едет, чего-то выжидает (моего "прозрения"), не понимая, что я — такой умру.
Я бы, на его месте: либо — либо. Летом еду. Едете?
И я бы, конечно, сказала — да, ибо — не расставаться же. Кроме того, одна я здесь с Муром пропаду.
Но он этого на себя не берет, ждет чтобы я добровольно — сожгла корабли (по нему: распустила все паруса)".
Так и длилось это состояние — словно на качелях, с попеременным колебанием противоположных сторон… Впрочем, скорее всего именно в тот момент Сергей Яковлевич уехать бы и не мог: в "Союзе возвращения", тесными узами связанном с НКВД, было много работы, и его просто не отпустили бы. Вот и приходилось ему тянуть, вести себя неопределенно (Марина Ивановна ведь об этом не должна была знать!) и писать сестре в Москву "расплывчатые" письма…
Но здесь важно понять одно. Хотя, условно говоря, аргументы за и против отъезда более или менее уравновешивали друг друга, это не имело ровно никакого значения. Живу под тучей отъезда — этими словами сказано всё. Если уедет муж, уедет и она, хотя бы на верную смерть, — это было совершенно ясно…
Саакянц Анна Александровна. «Марина Цветаева. Жизнь и творчество»
Книга должна быть исполнена читателем как соната. Буквы — ноты. В воле читателя — осуществить или казнить.
Марина Цветаева
Цветаева М. И. - Штейгеру А. С., 30 сентября 1936
— Между первым моим письмом и последним нет никакой разницы…
— Да, но между Вашим первым письмом и последним была вся я к Вам — Вы скажете: два месяца! — но ведь это не людских два месяца, а моих, каждочасных, каждоминутных, со всем весом каждой минуты — и вообще не месяцы и не годы — а вся я. Вы же остались «мертвым» и — нехотящим воскреснуть. Это-то меня и убило. В другом письме, неотосланном, я писала Вам о мертвом грузе нехотения, который, один из всех, не могу поднять.
Я обещала никогда Вам не сделать больно, но разве может быть больно от того, что человек не может тебя видеть в ничтожестве, что он для тебя хочет — самого большого и трудного, что он в тебя верит — вопреки очевидности, что он требует с тебя — как с себя. Поверьте, что если бы я Вас только жалела — Вы бы правды от меня не услышали: чем бы дитя не тешилось, лишь бы…
Но я приняла Вас за своё дитя, которое лучше пусть — плачет, только не тешится. Только не тешится. В моем последнем письме была вся настойчивость моей веры в Вас, оно, единственное из всех, было не любимому, а — равному (и только потому — суровое) — и может быть в нем я Вас больше всего — любила. И об этом стих моих — тогда — 26-ти лет:
Бренные губы и бренные руки
Слепо разрушили вечность мою.
С вечной душою своею в разлуке —
Бренные губы и руки пою.
Рокот божественной Вечности — глуше.
Только порою, в предутренний час
С темного неба — таинственный глас:
— Женщина! Вспомни бессмертную душу!
В этом письме я с Вас хотела — как с себя.
Поймите меня: я Вам предлагала всю полноту родства, во всей ответственности этого слова. И получаю в ответ, что Вы — мертвый, и чтo единственное, что Вам нужно — дурман. Это был — удар в грудь (в которой были — Вы) и, если я не упала — то только потому что никакой человеческой силе меня уже не свалить, что этого людям надо мной уже не дано, что я умру — стoя.
Друг, я совершенно лишена самолюбия, но есть вещи, которые я не могу перенести, напр‹имер› — физически, на строке — себя и Адамовича вместе. Мой первый ответ: там, где нужен Адамович — не нужна я, упразднена я, возможен Адамович — невозможна я, — не потому что мы поэты разной силы, я Встану и становлюсь рядом с самым бедным, а перед некрасовским: Внимая ужасам войны — как встала на оба колена — так и осталась — но Адамович (и все ему подобные) — не бедный, и даже не нищий духом, а — немощный духом — и не хотящий мочь, и не верящий что можно мочь — и не хотящий в это поверить — это уже не нeмощь, а нeхоть, т. е. самое безнадежное и неизлечимое, ибо не с чего начать, — и в таких руках видеть мое чудо — и знать, что из этих рук (даже не держащих! уже заведомо — выронивших!) не вырвать — потому что другому в этих руках (которых — нет) — хорошо — бесполезное — и унизительное — и развращающее страдание. Тут только одно — отойти.
…Конечно, есть больше. Есть материнское — через всё и вопреки всему. Есть старая французская баллада — сердце матери, которое сын несет любимой, и которое, по дороге, споткнувшись — роняет, я которое:
— Et voila que le coeur lui dit:
— T’es-tu fait mal, mon petit?
— А сердце ему сказало:
— Не ушибся ли ты, малыш? (фр.)
Но — идете ли Вы на это, хотите ли Вы тaк быть любимым: жаленным? Ибо, если Вы этого хотите от меня, этого от меня — хотите, оно — будет, т. е. я в вашем отношении окончательно перестану быть, сразу сниму все требования (и первое из них — равенство), приму заранее и заведомо — всё: Бог с тобой — только живи…
Но не будучи в состоянии Вам дать — ничего, кроме материнского зализывания ран, звериного тепла души, — связанная по рукам и по ногам Вашим нежеланием другого себя, невмещением, невынесением другой (всей) меня — смогу ли я Вам быть радостью? — С зашитым — отказом — ртом.
Думайте.
Я Вас хотела (мечтала) большим, свободным, сильным, родным — тaк — чтобы на улице узнавали, шагающим в шаг.
Не можете — что же, буду стоять над Вами, клониться, когда холодно — греть, когда скучно и страшно — петь.
Я хотела — оба (и шагать, и греть). Вы хотите — одного, пусть будет тaк, пусть будет как Вам нужно, всё, что Вам нужно, то, что Вам нужно, тaк много — тaк мало — как Вам нужно. Во весь рост я живу в стихах, в людях — не дано, и меньше всего (как ни странно) дано в любимых — нам — быть и жить. Друзьям от нас не больно, мы можем им говорить всю правду, не страшась — живого мяса. Я хотела Вас не только сыном, не только любимым, а еще — другом: равным. Но пора понять, что для себя мы ничего не должны хотеть, даже нашей радости чужому росту, что и это — себялюбие («другому — как себе» — нет, другому — как ему) пора принять, что любовь — окончательное и единственное нам на земле данное небытие: не будь, иначе ты другого заставляешь быть — «не даешь ему жить» (небыть).
И — возвращаясь к Вашей боли: — мой друг, после Вашего письма о 3-м часе утра за 10-й чашкой кофе — у меня и мысли не могло быть, что что-нибудь — от меня Вам может сделать больно. Это письмо меня так предельно упраздняло. Я написала Вам — для очистки совести, воззвала — с последней и малой надеждой быть услышанной, сказала — потому что не могла не сказать. Вы мне в этом письме сказали, что Вы — после двух месяцев дружбы со мной и со всем будущим этой дружбы — мертвый, и я, как всегда, поверила, а мертвому больно быть не может, потому что ему уже было больно, тaк было — больно — что и стал мертвый. Гарантия. Думать о том, что я могу Вам сделать больно — после такого Вашего заявления — было бы самомнением, а если б Вы знали — как я от него далека!
* * *
Мой друг — совершенно уже по-иному — без той радости — но может быть еще глубже и мое —
Я Вас из сердца не вырвала и не вырву никогда.
Вы — моя боль, это был мой первый ответ на то Ваше письмо, я сразу поняла: — беда! И с тех пор — почти непрерывная боль: сначала Вы сам, потом операция и страх за жизнь — потом известие об ухудшении — потом известие о почти-приезде в С‹ен-›Пьер — потом разминовение с моей Швейцарией — потом конечный удар — последнее письмо: перспектива Вашего Монпарнаса и расписка в смерти… Потом — молчание на стихи, которого я не могла принять иначе, как оскорбления, в моем лице, всех поэтов… И, наконец, последняя боль — что невольно, невинно — только тем, что встала во весь рост — на секунду распрямила наклон своей нежности — и сказала во весь голос — на секунду вышла из того вполголоса нежности — Вам сделала больно: только тем, что на секунду была — всей собой.
* * *
Родной, неужели Вы думали, что это так просто: очаровалась — разочаровалась, померещилось — разглядела, неужели Вы правда поверили — в такую дешевку?
Конечно, не напиши Вы мне, я бы Вам не написала — никогда (я себя знаю) ибо в Вашем молчании было оскорблено бoльшее меня, то — за что жизнь отдам, — в моем лице (я — последняя моя забота!) — все тaк оскорбленные до меня: от Франца Шуберта, чья любовь не понадобилась — до le petit Marcel… в этом молчании было оскорблено всё мною на земле любимое — обычным оскорблением — незаслуженного презрения. И такое прощение было бы предательством.
Но, если бы Вы мне даже никогда не написали, и этим лишили меня возможности когда-либо окликнуть Вас — у меня навсегда, всюду, даже с очередной горячей головой на груди, в этой груди осталась бы трещина.
Не надо — другой головы. Ибо — верьте мне — я человек такой сердцевинной, рожденной верности, такого единства, что — вовсе не уверенная, что это другому нужно или хотя бы — радостно — одна, для себя, из-за себя, сама с собой, сама перед собой, в силу своей природы не могу раздвоить своего существа иначе чем та река в моих стихах: чтобы остров создать — и обнять. (Как я счастлива, что это точнейшее подобие мне дали — Вы! И как я Вам за него благодарна.)
Я ухожу от человека только когда воочию убедилась, что я (такая как я есть) ему не нужна — просто по бессмысленности положения. Но до этого — много еще воды утечет — и беды притечет!
Итак —
М.
ГОРОД АЛЕКСАНДРОВ ВЛАДИМИРСКОЙ ГУБЕРНИИ
Александров. 1916 год. Лето.
Город Александров Владимирской губернии, он же Александровская Слобода, где Грозный убил сына.
Красные овраги, зеленые косогоры, с красными на них телятами. Городок в черемухе, в плетнях, в шинелях. Шестнадцатый год. Народ идет на войну.
* * *
Город Александров Владимирской губернии, моей губернии, Ильи Муромца губернии. Оттуда — из села Талицы, близ города Шуи, наш цветаевский род. Священнический. Оттуда — Музей Александра III на Волхонке (деньги Мальцева, замысел и четырнадцатилетний безвозмездный труд отца), оттуда мои поэмы по две тысячи строк и черновики к ним — в двадцать тысяч, оттуда у моего сына голова, не вмещающаяся ни в один головной убор. Большеголовые всé. Наша примета.
Оттуда — лучше, больше чем стихи (стихи от матери, как и остальные мои беды) — воля к ним и ко всему другому — от четверостишия до четырехпудового мешка, который нужно поднять — чтó! — донесть.
Оттуда — сердце, не аллегория, а анатомия, орган, сплошной мускул, сердце, несущее меня вскачь в гору две версты подряд — и больше, если нужно, оно же, падающее и опрокидывающее меня при первом вираже автомобиля. Сердце не поэта, а пешехода. Пешее сердце только потому не мрущее на катящихся лестницах и лифтах, что их обскакивающее. Пешее сердце всех моих лесных предков от деда о. Владимира до прапращура Ильи.
Оттуда — ноги, но здесь свидетельство очевидца. Вандея, рыбный рынок, я с рыбного рынка, две рыбачки. «Comme elle court, mais comme elle court, cette dame» — «Laisse-la done courir, elle finira bien par s’arrêter!»[97 - «Нет, ты только посмотри, как бежит эта дама!» — «Пусть себе бежит, когда-нибудь да остановится!» (фр.)]
— С сердцем. —
Оттуда (село Талицы Владимирской губернии, где я никогда не была), оттуда — всё.
Город Александров Владимирской губернии. Домок на закраине, лицом, крыльцом в овраг. Домок деревянный, бабь-ягинский. Зимой — сплошная печь (с ухватами, с шестками!), летом — сплошная дичь: зелени, прущей в окна.
Балкон (так напоминающий плетень!), на балконе на розовой скатерти — скатерке — громадное блюдо клубники и тетрадь с двумя локтями. Клубника, тетрадь, локти — мои.
1916 год. Лето. Пишу стихи к Блоку и впервые читаю Ахматову.
Перед домом, за лохмами сада, площадка. На ней солдаты учатся — стрельбе.
Вот стихи того лета:
Белое солнце и низкие, низкие тучи,
Вдоль огородов — за белой стеною — погост.
И на песке вереницы соломенных чучел
Под перекладинами в человеческий рост.
И, перевесившись через заборные колья,
Вижу: дороги, деревья, солдаты вразброд.
Старая баба — посыпанный крупною солью
Черный ломоть у калитки жует и жует…
Чем прогневили тебя эти серые хаты,
Господи! — и для чего стольким простреливать грудь?
Поезд прошел и завыл, и завыли солдаты,
И запылил, запылил отступающий путь…
Нет, умереть! Никогда не родиться бы лучше,
Чем этот жалобный, жалостный, каторжный вой
О чернобровых красавицах. — Ох, и поют же
Нынче солдаты! О, господи боже ты мой!
(Александров, 3 июля 1916 года)
Так, с тем же чувством, другая женщина, полтора года спустя, с высоты собственного сердца и детской ледяной горки, провожала народ на войну.
* * *
Махали, мы — платками, нам — фуражками. Песенный вой с дымом паровоза ударяли в лицо, когда последний вагон давно уже скрылся из глаз.
Помню, меньше чем год спустя (март 1917 года), в том же Александрове, денщик — мне:
— Читал я вашу книжку, барыня. Все про аллеи да про любовь, а вы бы про нашу жизнь написали. Солдатскую. Крестьянскую.
— Но я не солдат и не крестьянин. Я пишу про что знаю, и вы пишите — про что знаете. Сами живете, сами и пишите.
Денщик Павел — из молодых, да ранний. («Про аллеи да про любовь» — не весь ли социальный упрек Советов?)
А я тогда сказала глупость — не мужик был Некрасов, а Коробушку по сей день поют. Просто огрызнулась — отгрызнулась — на угрозу заказа. Кстати и вкратце. Социальный заказ. И социальный заказ не беда, и заказ не беда.
Беда социального заказа в том, что он всегда приказ.
В том же Александрове меня застала весть об убийстве Распутина.
Не: «два слова о Распутине», а: в двух словах — Распутин. Есть у Гумилева стих — «Мужик» — благополучно просмотренный в свое время царской цензурой — с таким четверостишием:
В гордую нашу столицу
Входит он — Боже спаси! —
Обворожает Царицу
Необозримой Руси…
Вот, в двух словах, четырех строках, все о Распутине, Царице, всей той туче. Что в этом четверостишии? Любовь? Нет. Ненависть? Нет. Суд? Нет. Оправдание? Нет. Судьба. Шаг судьбы.
Вчитайтесь, вчитайтесь внимательно. Здесь каждое слово на вес — крови.
В гордую нашу столицу (две славных, одна гордая: не Петербург встать не может) входит он (пешая и лешая судьба России!) — Боже спаси! — (знает: не спасет!), обворожает Царицу (не обвораживает, а именно, по-деревенски: обворожает) необозримой Руси — не знаю, как других, меня это «необозримой» (со всеми звенящими в нем зорями) пронзает — ножом.
Еще одно: эта заглавная буква Царицы. Не раболепство, нет! (писать другого с большой еще не значит быть маленьким), ибо вызвана величием страны, здесь страна дарует титул, заглавное Ц — силой вещей и верст. Четыре строки — и все дано: и судьба, и чара, и кара.
Объяснять стихи? Растворять (убивать) формулу, мнить у своего простого слова силу бóльшую, чем у певчего— сильнее которого силы нет, описывать — песню! (Как в школе: «своими словами», лермонтовского «Ангела», да чтоб именно своими, без ни одного лермонтовского — и что получалось, Господи! до чего ничего не получалось, кроме несомненности: иными словами — нельзя. Что поэт хотел сказать этими стихами? Да именно то, что сказал.)
Не объясняю, а славословлю, не доказую, а указую: указательным на страницу под названием «Мужик», стихо-творение, читателем и печатью, как тогда цензурой и по той же причине — незамеченное. А если есть в стихах судьба — так именно в этих, чара — так именно в этих. История, на которой и «сверху» (правительство) и «сбоку» (попутчики) так настаивают сейчас в Советской литературе — так именно в этих. Ведь это и Гумилева судьба в тот день и час входила — в сапогах или валенках (красных сибирских «пимах»), пешая и неслышная по пыли или снегу.
Надпиши «Распутин», всé бы знали (наизусть), а «Мужик» — ну, еще один мужик. Кстати, заметила: лучшие поэты (особенно немцы: вообще-лучшие из поэтов) часто, беря эпиграф, не проставляют откуда, живописуя — не проставляют — кого, чтобы, помимо исконной сокровенности любви и говорения вещи самой за себя, дать лучшему читателю эту — по себе знаю! — несравненную радость: в сокрытии — открытия.
* * *
Дорогой Гумилев, породивший своими теориями стихосложения ряд разлагающихся стихотворцев, своими стихами о тропиках — ряд тропических последователей —
Дорогой Гумилев, бессмертные попугаи которого с маниакальной, то есть неразумной, то есть именно попугайной неизменностью, повторяют ваши — двадцать лет назад! — молодого «мэтра» сентенции, так бесследно разлетевшиеся под колесами вашего же «Трамвая» —
Дорогой Гумилев, есть тот свет или нет, услышьте мою, от лица всей Поэзии, благодарность за двойной урок: поэтам — как писать стихи, историкам — как писать историю.
Чувство Истории — только чувство Судьбы.
Не «мэтр» был Гумилев, а мастер: боговдохновенный и в этих стихах уже безымянный мастер, скошенный в самое утро своего мастерства-ученичества, до которого в «Костре» и окружающем костре России так чудесно — древесно! — дорос.
* * *
Город Александров. 1916 год. Лето. Наискосок от дома, под гору, кладбище. Любимая прогулка детей, трехлетних Али и Андрюши. Точка притяжения — проваленный склеп с из земли глядящими иконами.
— Хочу в ту яму, где Боженька живет!
Любимая детей и нелюбимая — Осипа Мандельштама. От этого склепа так скоро из Александрова и уехал. (Хотел — «всю жизнь!»)
— Зачем вы меня сюда привели? Мне страшно. Мандельштам—мой гость, но я и сама гость. Гощу у сестры, уехавшей в Москву, пасу ее сына. Муж сестры весь день на службе. семья—я, Аля, Андрюша, нянька Надя и Осип Мандельштам.
Мандельштаму в Александрове, после первых восторгов, не можется. Петербуржец и крымец — к моим косогорам не привык. Слишком много коров (дважды в день мимо-идущих, мимо-мычащих), слишком много крестов (слишком вечно стоящих). Корова может забодать. Мертвец встать. — Взбеситься. — Присниться. — На кладбище я, по его словам, «рассеянная какая-то», забываю о нем, Мандельштаме, и думаю о покойниках, читаю надписи (вместо стихов!), высчитываю, сколько лет — лежащим и над ними растущим; словом: гляжу либо вверх, либо вниз… но неизменно от. Отвлекаюсь.
— Хорошо лежать!
— Совсем не хорошо: вы будете лежать, а я по вас ходить.
— А при жизни не ходили?
— Метафора! я о ногах, даже сапогах говорю.
— Да не по вас же! Вы будете — душа.
— Этого-то и боюсь! Из двух: голой души и разлагающегося тела еще неизвестно чтó страшней.
— Чего же вы хотите? Жить вечно? Даже без надежды на конец?
— Ах, я не знаю! Знаю только, что мне страшно и что хочу домой.
Бедные мертвые! Никто о вас не думает! Думают о себе, который бы мог лежать здесь и будет лежать там. О себе. лежащем здесь. Мало, что у вас Богом отнята жизнь, людьми — Мандельштамом с его «страшно» и мною с моим «хорошо» — отнимается еще и смерть! Мало того, что Богом — вся земля, нами еще и три ваших последних ее аршина.
Одни на кладбище приходят — учиться, другие — бояться, третьи (я) — утешаться. Всé — примерять. Мало нам всей земли со всеми ее холмами и домами, нужен еще и ваш холм, наш дом. Свыкаться, учиться, бояться, спасаться… Всé — примерять. А потом невинно дивимся, когда на повороте дороги или коридора…
Если чему-нибудь дивиться, так это редкости ваших посещений, скромности их, совестливости их… Будь я на вашем месте…
Тихий ответ: «Будь мы на твоем…»
* * *
Вспоминаю другое слово, тоже поэта, тоже с Востока, тоже впервые видевшего со мною Москву — на кладбище Новодевичьего монастыря, под божественным его сводом:
— Стоит умереть, чтобы быть погребенным здесь. Дома — чай, приветственный визг Али и Андрюши. Монашка пришла — с рубашками. Мандельштам шепотом:
— Почему она такая черная? Я, так же:
— Потому что они такие белые!
Каждый раз, когда вижу монашку (монаха, священника, какое бы то ни было духовное лицо) — стыжусь. Стихов, вихров, окурков, обручального кольца — себя. Собственной низости (мирскости). И не монах, а я опускаю глаза.
У Мандельштама глаза всегда опущены: робость? величие? тяжесть век? веков? Глаза опущены, а голова отброшена. Учитывая длину шеи, головная посадка верблюда. Трехлетний Андрюша — ему: «Дядя Ося, кто тебе так голову отвернул?» А хозяйка одного дома, куда впервые его привела, мне: «Бедный молодой человек! Такой молодой и уже ослеп?»
Но на монашку (у страха глаза велики!) покашивает. Даже, пользуясь ее наклоном над рубашечной гладью, глаза распахивает. Распахнутые глаза у Мандельштама — звезды, с завитками ресниц, доходящими до бровей.
— А скоро она уйдет? Ведь это неуютно, наконец. Я совершенно достоверно ощущаю запах ладана.
— Мандельштам, это вам кажется!
— И обвалившийся склеп с костями — кажется? Я, наконец, хочу просто выпить чаю!
Монашка над рубашкой, как над покойником:
— А эту — венчиком…
Мандельштам за спиной монашки шипящим шепотом:
— А вам не страшно будет носить эти рубашки?
— Подождите, дружочек! Вот помру и именно в этой — благо что ночная — к вам и явлюсь!
За чаем Мандельштам оттаивал.
— Может быть, это совсем уже не так страшно? Может быть, если каждый день ходить — привыкнешь? Но лучше завтра туда не пойдем…
Но завтра неотвратимо шли опять.
* * *
А однажды за нами погнался теленок.
На косогоре. Красный бычок.
Гуляли: дети, Мандельштам, я. Я вела Алю и Андрюшу, Мандельштам шел сам. Сначала все было хорошо, лежали на траве, копали глину. Норы. Прокапывались друг к другу и когда руки сходились — хохотали, — собственно, он один. Я, как всегда, играла для него.
Солнце выедало у меня — русость, у него — темность. — Солнце, единственная краска, для волос мною признаваемая! — Дети, пользуясь игрой взрослых, стягивали с голов полотняные грибы и устраивали ими ветер. Андрюша заезжал в лицо Але. Аля тихонько ныла. Тогда Андрюша, желая загладить, размазывал глиняными руками у нее по щекам голубоглазые слезы. Я, нахлобучив шапки, рассаживала. Мандельштам остервенело рыл очередной туннель и возмущался, что я не играю. Солнце жгло.
— До-о-мой!
Нужно сказать, что Мандельштаму, с кладбища ли, с прогулки ли, с ярмарки ли, всегда отовсюду хотелось домой. И всегда раньше, чем другому (мне). А из дому — непреложно — гулять. Думаю, юмор в сторону, что когда не писал (а не-писал — всегда, то есть раз в три месяца по стиху) — томился. Мандельштаму, без стихов, на свете не сиделось, не ходилось — не жилось.
Итак, домой. И вдруг — галоп. Оглядываюсь — бычок. Красный. Хвост — молнией, белая звезда во лбу. На нас.
Страх быков — древний страх. Быков и коров, без различия, боюсь дико, за остановившуюся кротость глаз. И все-таки, тоже, за рога.
«Возьмет да поднимет тебя на рога!» — кто из нас этим припевом не баюкан? А рассказы про мальчика — или мужика — или чьего-то деда — которого бык взял да и поднял? Русская колыбель — под бычьим рогом!
Но у меня сейчас на руках две колыбели! Дети не испугались вовсе, принимают за игру, летят на моих вытянутых руках, как на канатах гигантских шагов, не по земле, а над. Скок усиливается, близится, настигает. Не вынеся — оглядываюсь. Это Мандельштам скачет. Бычок давно отстал. Может — не гнался вовсе?
Теперь знаю: весь мой «Красный бычок» оттуда, с той погони. Спал во мне с мая 1916 года и воскрес в 1929 году в Париже в предсмертном бреду добровольца. Знаю, что его бычок был именно мой — наш — александровский. И смех, которым он, умирающий, бычку смеялся — тот же смех Али и Андрюши: чистая радость бегу, игре, быку.
Смеясь, не знал, что смерть. И не 30-летним осколком несуществующей Армии, гражданином несуществующего государства, не на чужой земле столицы мира — нет! на своей, моей! — под всей защитой матери и родины — смеясь! — трехлетним — на бегу — умер.
— Барыня! чего это у нас Осип Емельич такие чудные? Кормлю нынче Андрюшу кашей, а они мне: «Счастливый у вас, Надя, Андрюша, завсегда ему каша готова, и все дырки на носках перештопаны. А меня — говорят — никто кашей не кормит, а мне — говорят — никто носков не штопает». И так тяжело-о вздохнули, сирота горькая.
Это Надя говорит, Андрюшина няня, тоже владимирская. Об этой Наде надо бы целую книгу, пока же от сестры, уехавшей и не взявшей, перешла ко мне и ушла от меня только в 1920 году, ушла насильно, кровохаркая от голода (преданность) и обворовывая (традиция), заочно звала сестру Асей, меня Мариной, гордилась нами, ни у кого больше служить не могла. Приручившаяся волчиха. К мужчинам, независимо от сословия, относилась с высокомерной жалостью, все у нее были «жа-алкие какие-то».
Восемнадцать лет, волчий оскал, брови углом, глаза угли. Сестру, из-за этого и не вынесшую, любила с такой страстью ревности, что нарочно выдумывала у Андрюши всякие болезни, чтобы удержать дома. «Надя, я сейчас иду, вернусь поздно». — «Хорошо, барыня, а что Андрюше дать, если опять градусник подымется?» — «Как подымется? Почему?» — «А разве я вам не говорила, он всю прогулку на головку жаловался…» И т. д. Ася, естественно, остается. Надя торжествует. И не благородная, часто бывающая ревность няни к благополучию ребенка («что за барыня такая, ребенка бросает» и т. д.), самая неблагородная преступная ревность женщины — к тому, кого любит. Исступление, последний шаг которого — преступление. Врала или нет (врала — всегда, бесполезно и исступленно), но уходя от меня (все равно — терять нечего! третьей сестры не было!), призналась, что часто кормила Андрюшу толченым стеклом (!) и нарочно, в Крыму, в эпидемию, поила сырой водой, чтобы заболел и этим Асю прикрепил. Асю, говоря со мной, всегда звала «наша барыня», колола мне ею глаза, — «а у нашей барыни» то-то так-то делается, иногда только, в порыве умиления: «Ба-а-рыня! Я одну вещь заметила: как стирать — вы все с себя сымаете! Аккурат наша барыня!» Ко мне, на явный голод и холод, вопреки моим остережениям (ни дровни хлеба — ни-ни —) поступила исключительно из любви к сестре. Так вдовцы, не любя, любя ту, на сестре покойной женятся. И потом — всю жизнь — пока в гроб не вгонят — на не-той вымещают.
В заключение — картинка. Тот же Александров. Сижу, после купанья, на песке. Рядом огромный неправдоподобно лохматый пес. Надя: «Барыня, чуднó на вас смотреть: на одном как будто слишком много надето, а другому не хватает!»
Даровитость — то, за что ничего прощать не следовало бы, то, за что прощаешь все.
— …А я им: а вы бы, Осип Емельич, женились. Ведь любая за вас барышня замуж пойдет. Хотите, сосватаю? Поповну одну. Я:
— И вы серьезно, Надя, думаете, что любая барышня?..
— Да что вы, барыня, это я им для утехи, уж очень меня разжалобили. Не только что любая, а ни одна даже, разве уж сухоручка какая. Чудён больно!
— Что это у вас за Надя такая? (Это Мандельштам говорит.) Няня, а глаза волчьи. Я бы ей ни за что — не только ребенка, котенка бы не доверил! Стирает, а сама хохочет, одна в пустой кухне. Попросил ее чаю — вы тогда уходили с Алей — говорит, весь вышел. «Купите!» — «Не могу от Андрюши отойти». —«Со мной оставьте». — «С ва-ами?» И этот оскорбительный хохот. Глаза-щели, зубы громадные — Волк!
— Налила я им тогда, барыня, стакан типятку, и несу. А они мне так жа-алобно: «Надя! А шоколадику нет?» — «Нет, — говорю, — варенье есть». А они как застонут: «Варенье, варенье, весь день варенье ем, не хочу я вашего варенья. Что за дом такой — шоколада нет!» — «Есть, Осип Емельич, плиточка, только Андрюшина».-«Андрюшина! Андрюшина! Печенье — Андрюшино, шоколад — Андрюшин, вчера хотел в кресло сесть — тоже Андрюшино!.. А вы отломите». — «Отломить не отломлю, а вареньица принесу». Так и выпили типятку — с вареньем.
* * *
Отъезд произошел неожиданно — если не для меня с моим четырехмесячным опытом — с февраля по июнь — мандельштамовских приездов и отъездов (наездов и бегств), то для него, с его детской тоской по дому, от которого всегда бежал. Если человек говорит навек месту или другому смертному — это только значит, что ему здесь — или со мной, например — сейчас очень хорошо. Так, а не иначе, должно слушать обеты. Так, а не иначе, по ним взыскивать. Словом, в одно — именно прекрасное! — утро к чаю вышел — готовый.
Ломая баранку, барственно:
— А когда у нас поезд?
— Поезд? У нас? Куда?
— В Крым. Необходимо сегодня же.
— Почему?
— Я-я-я здесь больше не могу. И вообще пора все это прекратить.
Зная отъезжающего, уговаривать не стала. Помогла собраться: бритва и пустая тетрадка, кажется.
— Осип Емельич! Как же вы поедете? Белье сырое!
С великолепной беспечностью отъезжающего:
— Высохнет на крымском солнце! — Мне: — Вы, конечно, проводите меня на вокзал?
Вокзал. Слева, у меня над ухом, на верблюжьей шее взволнованный кадык — Александровом подавился, как яблоком. Андрюша из рук Нади рвется под паровоз — «колесики». Лирическая Аля, видя, что уезжают, терпеливо катит слезы.
— Он вернется? Он не насовсем уезжает? Он только так? Нянька Надя, блеща слезами и зубами, причитает:
— Сказали бы с вечера, Осип Емельич, я бы вам на дорогу носки выштопала… пирог спекла…
Звонок. Первый. Второй. Третий. Нога на подножке. Оборот.
— Марина Ивановна! Я, может быть, глупость делаю, что уезжаю?
— Конечно (спохватившись)… конечно—нет! Подумайте:
Макс, Карадаг, Пра… И вы всегда же можете вернуться…
— Марина Ивановна! (паровоз уже трогается) — я, наверное. глупость делаю! Мне здесь (иду вдоль движущихся колес), мне у вас было так, так… (вагон прибавляет ходу, прибавляю и я) — мне никогда ни с…
Бросив Мандельштама, бегу, опережая ход поезда и фразы. Конец платформы. Столб. Столбенею и я. Мимовые вагоны: не он, не он, — он. Машу — как вчера еще с ним солдатам. Машет. Не одной — двумя. Отмахивается! С паровозной гривой относимый крик:
— Мне так не хочется в Крым!
На другом конце платформы сиротливая кучка: плачущая Аля: «Я знала, что он не вернется!» — плачущая сквозь улыбку Надя — так и не выштопала ему носков! — ревущий Андрюша — уехали его колесики!
ЗАЩИТА БЫВШЕГО
Медон. 1931 год. Весна. Разбор бумаг. В руке чуть было не уничтоженная газетная вырезка.
…Где обрывается Россия
Над морем черным и чужим.
То есть как — чужим? Глухим! Мне ли не знать. И, закрыв глаза:
Не веря воскресенья чуду,
На кладбище гуляли мы.
Ты знаешь, мне земля повсюду
Напоминает те холмы.
(Выпадают две строки)
Где обрывается Россия
Над морем черным и глухим.
От монастырских косогоров
Широкий убегает луг.
Мне от владимирских просторов
Так не хотелося на юг.
Но в этой темной деревянной
И юродивой слободе
С такой монашкою туманной
Остаться—значит быть беде.
Целую локоть загорелый
И лба кусочек восковой.
Я знаю, он остался белый
Под смуглой прядью золотой.
От бирюзового браслета*
Еще белеет полоса.
Тавриды огненное лето
Творит такие чудеса.
Как скоро ты смуглянкой стала
И к Спасу бедному пришла.
Не отрываясь целовала,
А гордою в Москве была!
Нам остается только имя,
Чудесный звук, на долгий срок.
Прими ж ладонями моими
Пересыпаемый песок.[98 - * Впоследствии неудачно замененное: «Целую кисть, где от браслета» (примеч. М. Цветаевой).]
Стихи ко мне Мандельштама, то есть первое от него после тех проводов.
Столь памятный моим ладоням песок Коктебеля! Не песок даже — радужные камешки, между которыми и аметист, и сердолик, — так что не таков уж нищ подарок! Коктебельские камешки, целый мешок которых хранится здесь в семье Кедровых, тоже коктебельцев.
1911 год. Я после кори стриженая. Лежу на берегу, рою, рядом роет Волошин Макс.
— Макс, я выйду замуж только за того, кто из всего побережья угадает, какой мой любимый камень.
— Марина! (вкрадчивый голос Макса) — влюбленные, как тебе, может быть, уже известно, — глупеют. И когда тот, кого ты полюбишь, принесет тебе (сладчайшим голосом)… булыжник, ты совершенно искренно поверишь, что это твой любимый камень!
— Макс! Я от всего умнею! Даже от любви!
А с камешком — сбылось, ибо С. Я. Эфрон, за которого я, дождавшись его восемнадцатилетия, через полгода вышла замуж, чуть ли не в первый день знакомства отрыл и вручил мне — величайшая редкость! — генуэзскую сердоликовую бусу, которая и по сей день со мной.
А с Мандельштамом мы впервые встретились летом 1915 года в том же Коктебеле, то есть за год до описанной мною гостьбы. Я шла к морю, он с моря. В калитке Волошинского сада — разминулись.
Читаю дальше: «Так вот — это написано в Крыму, написано до беспамятства влюбленным поэтом».
До беспамятства? Не сказала бы.
«Но поклонники Мандельштама, вообразив по этим данным (Крым, море, любовь, поэзия) картину, достойную кисти Айвазовского (есть, кстати, у Айвазовского такая картина, и прескверная, „Пушкин прощается с морем“) — поклонники эти несколько ошибутся».
Настороженная «влюбленным до беспамятства», читаю дальше:
«Мандельштам жил в Крыму. И так как он не платил за пансион и несмотря на требования хозяев съехать или уплатить…»
Стой! Стой! Это каких хозяев — требования, когда хозяевами были Макс Волошин и его мать, замечательная старуха с профилем Гёте, в детстве любимица ссыльного Шамиля. И какие требования, когда сдавали за гроши и им годами должали?
«…несмотря на требования хозяев съехать или заплатить, выезжать тоже не желал, то к нему применялась особого рода пытка, возможная только в этом живописном уголке Крыма — ему не давали воды». (Макс и Елена Оттобальдовна — кому-нибудь не давали воды? Да еще поэту?!)
«Вода в Коктебель привозилась издалека и продавалась бочками — ни реки, ни колодца не было — и Мандельштам хитростями и угрозами с трудом добивался от сурового хозяина или мегеры-служанки…»
— Да в Коктебеле, жила в нем с 11-го года по 17-й год, отродясь служанки не было, был полоумный сухорукий слуга, собственник дырявой лодки «Сократ», по ней и звавшийся, — всю дачу бы по первому требованию отдавший!..
«Кормили его объедками…»
Кто? Макс? Макс вообще никого не кормил, сам где мог подкармливался, кормила добродушнейшая женщина в мире, державшая за две версты от дачи на пустыре столовую. Что же касается «объедков» — в Коктебеле было только одно блюдо: баран, природный объедок и даже оглодок. Так что можно сказать: в Коктебеле не-объедков не было. Коктебель, до всяких революций, — голодное место, там и объедков не оставалось из-за угрожающего количества бродячих собак. Если же «объедками» — так всех.
«Когда на воскресенье в Коктебель приезжали гости, Мандельштама выселяли из его комнаты — он ночевал в чулане…»
Не в чулане, а в мастерской у Макса с чудесами со всех сторон света, то есть месте, о котором иные и мечтать не смели!
«Простудившись однажды на такой ночевке…»
Это в Коктебеле-то, с его кипящим морем и трескающейся от жары землей! В Коктебеле, где все спали на воле, а чаще вовсе не спали: смотрели на красный столб встающего Юпитера в воде или на башне у Макса читали стихи. От восхода Юпитера до захода Венеры…
«…на такой ночевке он схватил ужасный флюс и ходил весь обвязанный, вымазанный йодом, сопровождаемый улюлюканьем местных мальчишек и улыбками остального населения „живописного уголка“…»
Живописный — да, если вести от живописцев: художников, друзей Макса, там живших (Богаевский, Лентулов, Кандауров, Нахман, Лев Бруни, Оболенская). Но живописный в кавычках — нет. Голые скалы, морена берега, ни кустка, ни ростка, зелень только высоко в горах (огромные, с детскую голову, пионы), а так — ковыль, полынь, море, пустыня. Пустырь. Автор, очевидно, Коктебель (Восточный Крым, Киммерия, родина амазонок, вторая Греция) принял за Алупку, дачу поэта Волошина, за «профессорский уголок», где по вечерам Вяльцева в граммофон: «Наш уголок я убрала цвета-ами…» Коктебель — никаких цветов. И сплошной острый угол скалы. (Там, по преданию, в одной из скал, досягаемой только вплавь, — вход в Аид. Подплывала. Входила.)
«Особенно, кстати, потешалась над ним „она“, та, которой он предлагал принять в залог вечной любви „ладонями моими пересыпаемый песок“».
Потешалась? Я? Над поэтом — я? Я, которой и в Коктебеле-то не было, от которой он уехал в Крым!
«Она, очень хорошенькая (что?), немного вульгарная (что??), брюнетка (???), по профессии женщина-врач» (что-о-о???)…
«…вряд ли была расположена принимать подарки такого рода: в Коктебель привез ее содержатель, армянский купец, жирный, масляный, черномазый. Привез и был очень доволен: наконец-то нашел место, где ее было не к кому, кроме Мандельштама, ревновать…»
Женщина-врач на содержании у армянского купца — (помимо того, что этой данной женщины никогда не было) — не наши нравы! Еврейская, то есть русская, женщина-врач, то есть интеллигентка, сама зарабатывающая. У нас не так-то легко шли на содержание, особенно врачи! Да еще в 1916 году, в войну… Вот что значит — 10 лет эмиграции. Не только Мандельштама забыл, но и Россию.
«С флюсом, обиженный, некормленый Мандельштам выходил из дому, стараясь не попасться лишний раз на глаза хозяину или злой служанке. Всклокоченный, в сандалиях на босу ногу, он шел по берегу, встречные мальчишки фыркали ему в лицо и делали из полы свиное ухо…»
Кстати, забавная ассоциация: пола — свиное ухо. Еврей в долгополом сюртуке, которому показывают свиное ухо. Но у автора воспоминаний мальчишки из полы делают свиное ухо. Из какой это полы? Мальчишки — в рубашках, а у рубашки полы нет, есть подол. Пола у сюртука, у пальто, у чего-то длинного, что распахивается. Пола — это половина. Автор и крымских мальчишек, и крымское (50 градусов) лето, и просто мальчишек, и просто лето — забыл!
«Он шел к ларьку, где старушка-еврейка торговала спичками, папиросами, булками, молоком…» (которое, в скобках, в Коктебеле, как по всему Крыму, было величайшей редкостью. Бузой — да, ситро — да, «паша-тепе» — да, молоком — нет). «Эта старушка…»
И не старушка-еврейка, а цветущих лет грек — единственная во всем Коктебеле кофейня: барак «Бубны», расписанный приезжими художниками и поэтами — даже стишок помню — изображен белоштанный дачник с тростью и моноклем и мы всё: кто в чем, а кто и ни в чем —
Я скромный дачник, друг природы,
Стыдитесь, голые уроды!
Бубны, нищая кофейня «Бубны», с великодержавной, над бревенчатой дверью надписью:
Славны Бубны за горами!
С Коктебелем-местом у автора воспоминаний произошло то же, что у Игоря Северянина с Коктебелем-словом: Игорь Северянин в дни молодости, прочтя у Волошина под стихами подпись: Коктебель, — принял название места за название стихотворного размера (рондо, газель, ритурнель) и произвел от него «коктебли», нечто среднее между коктейлем и констеблем. Автор воспоминаний дикий Коктебель подменяет то дачной Алупкой, то местечком Западного края с его лотками, старушками, долгополыми мальчишками и т. д.
«Эта старушка, единственное существо во всем Коктебеле, относилась к нему по-человечески…»
Позвольте, а мы все? Всегда уступавшие ему главное место на арбе и последний глоток из фляжки? Макс и его мать, я, сестра Ася, поэтесса Майя — что ни женщина, то нянька, что ни мужчина, то дядька — всё женщины, жалевшие, всё мужчины, восхищавшиеся, — все мы и жалевшие и восхищавшиеся, с утра до ночи нянчившиеся и дядьчившиеся… Мандельштам в Коктебеле был общим баловнем, может быть, единственный, может быть, раз в жизни, когда поэту повезло, ибо он был окружен ушами— на стихи и сердцами — на слабости.
«Старушка (может быть, он ей напоминал собственного внука, какого-нибудь Янкеля или Осипа) по доброте сердечной оказывала Мандельштаму „кредит“: разрешала брать каждое утро булочку и стакан молока „на книжку“. Она знала, конечно, что ни копейки не получит — но надо же поддержать молодого человека — такой симпатичный, и должно быть, больной: на прошлой неделе все кашлял и теперь вот — флюс. Иногда Мандельштам получал от нее и пачку папирос 2-го сорта, спичек, почтовую марку. Если же он, потеряв чувствительность, рассеянно тянулся к чему-нибудь более ценному — коробке печенья или плитке шоколада — добрая старушка, вежливо отстранив его руку, говорила грустно, но твердо: „Извините, господин Мандельштам, это вам не по средствам“».
А вот мой вариант, очевидно неизвестный повествователю. Поздней осенью 1915 года Мандельштам выехал из Коктебеля в собственном пальто хозяина «Бубен», ибо по беспечности или иному чему заложил или потерял свое. И когда год спустя, в тех же «Бубнах» грек — поэту: «А помните, господин Мандельштам, когда вы уезжали, шел дождь и я вам предложил свое пальто», поэт — греку: «Вы можете быть счастливы, ваше пальто весь год служило поэту».
Не говоря уже о непрерывном шоколаде в кредит — шоколаде баснословном. Тáк одного из лучших русских поэтов любило одно из лучших мест на земле: от поэта Максимилиана Волошина до полуграмотного хозяина нищей кофейни.
«Мандельштам шел по берегу, выжженному солнцем и выметенному постоянным унылым коктебельским ветром. Недовольный, голодный, гордый, смешной, безнадежно влюбленный в женщину-врача, подругу армянина, которая сидит теперь на своей веранде в розовом прелестном капоте и пьет кофе — вкусный жирный кофе, — и ест горячие домашние булки, сколько угодно булок…»
Товарищ пишущий, я никогда не ходила в розовых прелестных капотах, я никогда не была ни очень хорошенькой, ни просто хорошенькой, ни немного, ни много вульгарной, я никогда не была женщиной-врачом, никогда меня не содержал черномазый армянин, в такую «меня» никогда не был до беспамятства влюблен поэт Осип Мандельштам.
Кроме того, повторяю, Коктебель — место пусто, в нем никогда не было жирных сливок, только худосочное (с ковыля!) и горьковатое (с полыни!) козье молоко, никогда в нем не было и горячих домашних булок, вовсе не было булок, одни только сухие турецкие бублики, да и то не сколько угодно. И если поэт был голоден — виноват не «злой хозяин» Максимилиан Волошин, а наша общая хозяйка — земля. Здесь — земля Восточного Крыма, где ваша, автора воспоминаний, нога никогда не была.
Вы, провозгласив эти стихи Мандельштама одними из лучших в русской литературе, в них ничего не поняли. «Крымские» стихи написаны в Крыму, да, но по существу своему — Владимирские. Какие же в Крыму — «темные деревянные юродивые слободы»? Какие — «туманные монашки?»? Стихи написаны фактически в Крыму, по существу же — изнутри владимирских просторов. Давайте по строкам:
Не веря воскресенья чуду,
На кладбище гуляли мы.
Ты знаешь, мне земля повсюду
Напоминает те холмы.
Какие холмы? Так как две последующие строки выпадают — в тексте просто заменены точками — два возможных случая: либо он и здесь, на русском кладбище, вспоминает — с натяжкой — холмы Крыма, либо — что гораздо вероятнее — и здесь, в Крыму, не может забыть холмы Александрова. (За последнюю догадку двойная холмистость Александрова: холмы почвы и холмы кладбища.)
Дальше, черным по белому:
От монастырских косогоров
Широкий убегает луг.
Мне от владимирских просторов
Так не хотелося на юг.
Но в этой темной, деревянной
И юродивой слободе
С такой монашкою туманной
Остаться — значит быть беде.
Монашка, думается мне, составная: нянька Надя с ее юродивым смехом, настоящая монашка с рубашками и, наконец, я с моими вождениями на кладбище. От троящегося лица — туман. Но так или иначе — от этой монашки и уезжает в Крым.
Целую локоть загорелый
И лба кусочек восковой.
Я знаю, он остался белый
Под смуглой прядью золотой.
От бирюзового браслета
Еще белеет полоса.
Тавриды огненное лето
Творит такие чудеса.
Еще белеет полоса, то есть от прошлого лета в Коктебеле (1915 год). Таково солнце Крыма, что жжет на целый год. Если бы говорилось о крымской руке — при чем тут еще и какое бы чудо?
Как скоро ты смуглянкой стала
И к Спасу бедному пришла,
Не отрываясь целовала,
А строгою в Москве была.
Не «строгою», а гордою (см. «Tristia»). He отрываясь целовала — что? — распятие, конечно, перед которым в Москве, предположим, гордилась. Гордой по молодой глупости перед Богом еще можно быть, но строгой? Всякая монашка строга. В данной транскрипции получается, что «она» целовала не икону, а человека, что совершенно обессмысливает упоминание о Спасе и все четверостишие. Точно достаточно прийти к Богу, чтобы не отрываясь зацеловать человека.
Нам остается только имя,
Блаженный звук, короткий срок.
Не «блаженный звук, короткий срок», а (см. книгу «Tristia»):
Чудесный звук, на долгий срок.
Автор воспоминаний, очевидно, вместо «на долгий» прочел «недолгий» и сделал из него «короткий». У поэтов не так-то коротка память! — Но можно ли так цитировать, когда «Tristia» продается в каждом книжном магазине? Кончается фельетон цитатой:
Где обрывается Россия
Над морем черным и чужим.
Это пишущему, очевидно, — чужим, нам с Мандельштамом родным. Коктебель для всех, кто в нем жил, — вторая родина, для многих — месторождение духа. В данном же стихотворении:
Где обрывается Россия
Над морем черным и глухим, —
глухо-шумящим, тем же из гениального стихотворения Мандельштама:
Бессонница, Гомер, тугие паруса.
Я список кораблей прочел до середины:
Сей длинный выводок, сей поезд журавлиный,
Что над Элладою когда-то поднялся —
Как журавлиный клин в чужие рубежи!
На головах царей божественная пена —
Куда плывете вы? Когда бы не Елена,
Что Троя вам одна, ахейские мужи!
И море и Гомер — все движется любовью.
Кого же слушать мне?
И вот, Гомер молчит,
И море Черное, витийствуя, шумит
И с тяжким грохотом подходит к изголовью.
Во избежание могущих повториться недоразумений оповещаю автора фельетона, что в книге «Tristia» стихи «В разноголосице девического хора», «Не веря воскресенья чуду…» («Нам остается только имя — чудесный звук, на долгий срок!»), «На розвальнях, уложенных соломой» принадлежат мне, стихи же «Соломинка» и ряд последующих — Саломее Николаевне Гальперн, рожденной кн. Андрониковой, ныне здравствующей в Париже и столь же похожей на ту женщину-врача, как и я.
Что весь тот период — от Германско-Славянского льна до «На кладбище гуляли мы» — мой, чудесные дни с февраля по июнь 1916 года, дни, когда я Мандельштаму дарила Москву. Не так много мне в жизни писали хороших стихов, а главное: не так часто поэт вдохновляется поэтом, чтобы так даром зря уступать это вдохновение первой небывшей подруге небывшего армянина.
Эту собственность — отстаиваю.
* * *
Но не о мне одной речь, мне — чтó; что эта брюнетка с армянином — я — никто не поверит. Что эти стихи ей, а не мне — если даже поверят — мне что! В конце-то концов! Знает Мандельштам, и знаю я.
И касайся это только меня, я бы только смеялась. А сейчас не смеюсь вовсе. Ибо дело, во-первых — в друге (моем и, как выясняется из фельетона, и автора. NB! Если так помнят друзья, то как же помнят враги?), во-вторых, в большом поэте, которого выводят пошляком (Мандельштам не только данной женщины не любил, но любить не мог), в-третьих, в другом поэте — Волошине — которого выводят скрягой и извергом (не давать воды), и в-четвертых, — в том, что все это преподносится в виде поучения молодым поэтам.
Закончим началом фельетона, вскрывающим повод, причину и цель его написания:
«На одном из собраний парижской литературной молодежи я слышал по своему адресу упрек: „Зачем вы искажаете образ Мандельштама, нашего любимого поэта? Зачем вы представляете его в своих воспоминаниях каким-то комическим чудаком? Разве он мог быть таким?“
Именно таким он и был. Ни одного слова о Мандельштаме я не выдумывал…»
В данном фельетоне, как доказано, выдуманы всё.
«Я очень рад за Мандельштама, что молодые парижские стихотворцы его любят и еще больше рад за них: эта любовь многих из них больше приближает к поэзии, чем их собственные стихи. Но и я, право, чрезвычайно люблю поэзию Мандельштама, и, кроме того, на моей стороне есть еще то преимущество, что и его самого, чудаковатого, смешного, странного — неотделимого от его стихов — люблю не меньше и очень давно, очень близко знаю. Были времена, когда мы были настолько неразлучны, что у нас имелась, должно быть, единственная в мире визитная карточка: такой-то[99 - Имя автора воспоминаний (примеч. М. Цветаевой).] и О. Мандельштам.
И разве не слышали наши „молодые поэты“, что высокое и смешное, самое высокое и самое смешное, часто бывают переплетены тáк, что не разобрать, где начинается одно и кончается другое».
Высокое и смешное — да, высокое и пошлое — никогда.
«…Приведу, для наглядности, пример из жизни того же „чудака“, „ангела“, „комического персонажа“ — из жизни поэта Мандельштама…»
Цену примеру — мы знаем.
Большой фельетон у литераторов зовется подвал. Здесь — правильно. Киммерийские утесы и мои Александровские холмы, весь Коктебель с его высоким ладом, весь Мандельштам с его высокой тоской здесь низведены до подвала — быта (никогда не бывшего!).
Не знаю, нужны ли вообще бытовые подстрочники к стихам: кто — когда — где—с кем—при каких обстоятельствах—и т. д., как во всем известной гимназической игре. Стихи быт перемололи и отбросили, и вот из уцелевших отсевков, за которыми ползает вроде как на коленках, биограф тщится воссоздать бывшее. К чему? Приблизить к нам живого поэта. Да разве он не знает, что поэт в стихах — живой, по существу — далекий?
Но — спорить не буду — официальное право у биографа на быль (протокол) есть. И уж наше дело извлечь из этого протокола соответствующий урок. Важно одно: чтобы протокол был бы именно протоколом.
Если хочешь писать быль, знай ее, если хочешь писать пасквиль — меняй имена или жди сто лет. Не померли же мы все на самом деле! Живи автор фельетона на одной территории со своим героем — фельетона не было бы. А так… за тридевять земель… да, может, никогда больше и еще не встретимся… А тут — соблазн анекдота, легкого успеха у тех, кто чтению стихов поэта предпочитает — сплетни о нем.
Безответственность разлуки и безнаказанность расстояния.
* * *
— А зачем же, не признавая бытового подстрочника, взяли да все это нам и рассказали? Зачем нам знать, как великий поэт Мандельштам по зеленому косогору скакал от невинного теленка?
На это отвечу:
На быль о Мандельштаме летом 1916 года я была вызвана вымыслом о Мандельштаме летом 1916 года. На свой подстрочник к стихотворению — подстрочником тем. Ведь никогда (1916–1931 годы) я не утверждала этой собственности, пока на нее не напали. — Оборона! — Когда у меня в Революцию отняли деньги в банке, я их не оспаривала, ибо не чувствовала их своими. — Ограбили дедов! — Эти стихи я — хотя бы одной своей заботой о поэте — заработала.
Еще одно: ограничившись одним опровержением вымысла, то есть просто уличив, я бы оказалась в самой ненавистной мне роли — прокурора. Противопоставив вымыслу — живую жизнь, — и не обаятелен ли мой Мандельштам, несмотря на страх покойников и страсть к шоколаду, а быть может, и благодаря им? — утвердив жизнь, которая сама есть утверждение, я не выхожу из рожденного состояния поэта — защитника.
Медон, апрель — май 1931
…Если огонь дикарь, то и мы дикари. Огонь огнепоклонника уподобляет себе.
* * *
Не знаю — она, я — цинически жгу. «Глядите, Е. А., красота какая! Венеция?» И не дав ей взглянуть — в печь. Целые связки писем, в лентах («favours»). А счетов! А чековых книжек! А корректур, тщательных, где каждое слово значило, где в данную секунду значило только оно.
— Да мы с вами сейчас, Е. А., знаете кто?
— Варвары? Вандалы?
— Куды там! Семнадцатого года солдаты в наших собственных усадьбах.
— Нет, — ее спокойный голос, — просто парсы.
— Проще парсов есть: те, что в скитах горят!
Рывки, швырки, сине-красная свистопляска пламени, нырок вниз, за очередным довольством Бога, пустеющие папки, невмещающая решетка и —
— Который час? Как? Да ведь мне год как нужно быть дома!
Насилу оторвавшись (тот же дикарь от миссионера), бегу, огненных дел мастер — нет, с вертела сорвавшаяся дичь! — копчено-оленьими коленями и лососинными ладонями, в дыму, пламени, золе и пепле чужой — чужих жизней — ибо три поколения жжем (здесь — жгем!) — слепая от огня и ликующая, как он сам — бегу по — когда белому, когда черному, был день по лунно-затменному — Медону — домой, к тетрадям, к детям — к строительству жизни.
Но — чего-то явно не хватает. Рукам не хватает. (И глазам! И ноздрям!) Что-то нужно сделать, скорей сделать, сейчас сделать. Писать? Отскок от стола. Обед варить? Тот же отскок от стола другого.
И — знаю!
* * *
Ибо не дано безнаказанно жечь чужую жизнь. Ибо — чужой жизни — нет.
* * *
Мои папки, ящики, связки, корзинки, полки. То на полу, на коленях и локтях, то на столе, на носках, «пуантах». Руки то вгребаются, то, вытянутые, удерживают неудержимо ползущее в них сверху. Держу подбородком и коленом, потяжелевшая на пуд бумаги соскакиваю с двухаршинной высоты как в пропасть.
Мой советник, мой тайный советник—дочь.
— Мама, не жгите!
— Пусть, пусть горит!
— Мама, вы что-то нужное жжете. Вырезка какая-то. Может быть, о вас?
— О мне так долго не пишут. Фельетон целый. Что это может быть?
Подношу к глазам. Двустишие. Губы, опережая глаза, произносят:
Где обрывается Россия
Над морем черным и глухим.
48 лет непрерывной души — так говорила о своей жизни Цветаева.
Ο себе. Меня все считают мужественной. Я не знаю человека робче себя. Боюсь — всего. Глаз, черноты, шага, а больше всего — себя, своей головы — если это голова — так преданно мне служившая в тетради и так убивающая меня — в жизни. Никто не видит — не знает, — что я год уже (приблизительно) ищу глазами — крюк, но его нет, потому что везде электричество. Никаких «люстр»… Я год примеряю — смерть. Все — уродливо и — страшно. Проглотить — мерзость, прыгнуть — враждебность, исконная отвратительность воды. Я не хочу пугать (посмертно), мне кажется, что я себя уже — посмертно — боюсь. Я не хочу — умереть, я. хочу — не быть. Вздор. Пока я нужна… Но, Господи, как я мало, как я ничего не могу!
Доживать — дожевывать
Горькую полынь —
Сколько строк, миновавших! Ничего не записываю. С этим — кончено. Николай Николаевич) принес немецкие переводы. Самое любимое, что есть: немецкие народные песни. Песенки. О, как все это я любила!
Сентябрь 1940
…Тарасенков, например, дрожит над каждым моим листком. Библиофил. А то, что я, источник (всем листочкам!), — как бродяга с вытянутой рукой хожу по Москве: — Пода-айте, Христа ради, комнату! — и стою в толкучих очередях — и одна возвращаюсь темными ночами, темными дворами — об этом он не думает…
… — Господа! Вы слишком заняты своей жизнью, вам некогда подумать о моей, а — стоило бы… (Ну не «господа», — «граждане»…)* * *
Сегодня, 26-е сентября по старому (Иоанн Богослов), мне 48 лет. Поздравляю себя: 1) (тьфу, тьфу тьфу!) с уцелением, 2) (а может быть 1) с 48-ю годами непрерывной души.
* * *Моя трудность (для меня — писания стихов и, может быть, для других — понимания) в невозможности моей задачи. Например, словами (то есть смыслами) сказать стон: á — а — а. Словами (смыслами) сказать звук. Чтобы в ушах осталось одно á — а — а.
Зачем (такие задачи?).
Октябрь 1940 г.Нынче, 3-го, наконец, принимаюсь за составление книги, подсчет строк, ибо 1-го ноября все-таки нужно что-то отдать писателям, хотя бы каждому — половину. (ΝB! Мой Бодлер появится только в январской книге, придется отложить — жаль.)
…Да, вчера прочла — перечла — почти всю книгу Ахматовой и — старо, слабо. Часто (плохая и верная примета) совсем слабые концы; сходящие (и сводящие) на нет. Испорчено стихотворение о жене Лота. Нужно было дать либо себя — ею, либо ее — собою, но — не двух (тогда была бы одна: она).
…Но сердце мое никогда не забудет
Отдавшую жизнь за единственный взгляд.
Такая строка (формула) должна была даться в именительном падеже, а не в винительном. И что значит: сердце мое никогда не забудет… — кому до этого дело? — важно, чтобы мы не забыли, в наших очах осталась —
Отдавшая жизнь за единственный взгляд…
Этой строке должно было предшествовать видение: Та, бывшая!.. та, ставшая солью, отдавшая жизнь за единственный взгляд — Соляной столб, от которого мы остолбенели. Да, еще и важное: будь я — ею, я бы эту последнюю книгу озаглавила: «Соляной столб». И жена Лота, и перекличка с Огненным (высокая вечная верность) в двух словах вся беда и судьба.
Ну, ладно…
Просто, был 1916 год, и у меня было безмерное сердце, и была Александровская Слобода, и была малина (чýдная рифма — Марина), и была книжка Ахматовой… Была сначала любовь, потом — стихи…
А сейчас: я — и книга.
А хорошие были строки:…Непоправимо-белая страница… Но что она делала: с 1914 г. по 1940 г.? Внутри себя. Эта книга и есть «непоправимо-белая страница»…
Говорят, — Ива. Да, но одна строка Пастернака (1917 г.):
Об иве, иве разрыдалась, —
и одна моя (1916 г.) — к ней:
Не этих ивовых плавающих ветвей
Касаюсь истово, а руки твоей… —
и чтó остаётся от ахматовской ивы, кроме — ее рассказа, как она любит иву, то есть — содержания?
Жаль.
Ну, с Богом, — за свое. (Оно ведь тоже и посмертное.) Но —
Εt ma cendre sera plus chaude que leur vie.[25 - И прах мой будет жарче их жизни (фр.).]
24-го октября 1940 г.
Вот, составляю книгу, вставляю, проверяю, плачу деньги за перепечатку, опять правлю, и — почти уверена, что не возьмут, диву далась бы — если бы взяли. Нý, я свое сделала, проявила полную добрую волю (послушалась — я знаю, что стихи — хорошие и кому-то — нужные (может быть даже — как хлеб).
Ну — не выйдет, буду переводить, зажму рот тем, которые говорят: — Почему Вы не пишете? — Потому что время — одно, и его мало, и писать себе в тетрадку — Luxe.[26 - Роскошь (нем.).] Потому что за переводы платят, а за свое — нет.
По крайней мере — постаралась.
26-го (кажется!) октября 1940 г. — перед лицом огромного стылого окна.
Я, кажется, больше всего в жизни любила — уют (sécurité[27 - Обеспеченность, гарантия (фр.).]). Он безвозвратно ушел из моей жизни.* * *
25-го декабря 1940 г…Иду в Интернациональную, в коридоре… встречаю Живова — мил, сердечен — чуть ли не плачу. — «Вас все так любят. Неужели это — только слова?» И в ответ на мой рассказ, что моя книга в Гослитиздате зарезана словом (Зелинского, я всегда за авторство) формализм: — У меня есть все Ваши книги, — наверное, больше, чем у Вас, и я объявляю, что у Вас с самого начала до нынешних дней не было и нет ни одной строки, которая бы не была продиктована… (Я: — Внутренней необходимостью) какой-нибудь мыслью или чувством.
Вот — аттестация читателя.* * *
Поэт (подлинник) к двум данным (ему Господом Богом строкам) ищет — находит — две зáданные. Ищет их в арсенале возможного, направляемый роковой необходимостью рифм — тех, Господом данных, являющихся — императивом.
Переводчик к двум данным (ему поэтом) основным: поэтовым богоданным строкам — ищет — находит — две заданные, ищет в арсенале возможного, направляемый роковой необходимостью рифмы — к тем, первым. Господам (поэтом) данным, являющимся — императивом.
Рифмы — к тем же вещам — на разных языках — разные.* * *
Уточнение: Рифма всюду может быть заменена физикой (стиха). Так, например, я строку, кончающуюся на amour[28 - Любовь (фр.).] и рифмующую с toujours[29 - Всегда (фр.).] не непременно — переведу: любовь — и кровь, но работу я найду с лучших основных строк двустишия и, дав их адекватно, то есть абсолютно κ моей, русской, их транскрипции, буду искать — уже в моем, русском, арсенале, пытаясь дать — второй (посильный) абсолют.
* * *
Что нам дано в начале каждой работы и в течение каждой ее строки: полное сознание — не то, то есть неузнавание настоящего: этого берегись (звучащего слова, образа), берегись: заведет! и каждое то сопутствуется радостью узнавания: та — строка — эта из всех человеческих лиц — то самое, да что лица — в лицах ошибаешься, в строках — нет! (А здесь работа с неудачным подстрочником Этери…) Мы должны бороться с зафиксированными (в звуках и в образах) неудачами автора.
Октябрь — декабрь 1940 г.
…Да, мысль:
Одиноко — как собака…
— гарантия поэта… óко — áка…
— может быть, наводящее (и никогда не случайное) созвучие, настойчивость созвучия, уже дающее смысл: одинóко — как собáка — ведь эта строка — уже целая поэма, и, может быть, правы японцы и тысячелетия, дающие — первые — и оставляющие — вторые — только одну строку, всё в одной строке — и представляющие дальнейшее — тебе…
Может быть, наше малодушие — дописывать — то есть богоданной строке (чаще двум) приписывать — начало, достигнутой цели — дорогу? (уже пройденную внутри, может быть, в течение всей жизни (она и была — дорога!), может быть — в молнию сна…)* * *
Господи! Как хорошо, что есть два слова: aube и aurore (рассвет и заря) и как я этим счастлива, и насколько aube лучше aurore, которая (и вещь, и звук) тоже чудесна, и как обе — сразу, для слуха уже, звучат женскими именами и пишутся (слышатся) с большой буквы!
Aube-Aude — (по-моему — любимая Роланда: — la belle Aude, которая конечно походила на aube, да и была ею — настолько в Chanson de Roland ее — нет). И как хорошо, что у нас рассвет — он, а заря — она (откровенная)…* * *
Я, любя природу, кажется, больше всего на свете, без ее описаний обошлась: я ее только упоминала: видение дерева. Вся она была фоном κ моей душе. Еще: я ее иносказывала: Березовое серебро! Ручьи живые!
* * *
Во мне — таинственно! — уцелела невинность: первого дня, весь первый день с его восхищением — изумлением и доверием. Для меня всякий — хорош (а плохой — больной)…
Декабрь 1940 г.
Потом видела во сне С. Я. Парнок, о которой не думаю никогда и о смерти которой не пожалела ни секунды, — просто — тогда все чисто выгорело — словом, ее, с глупой подругой и очень наивными стихами, от которых — подруги и стихов — я ушла в какой- то вагон III класса и даже — четвертого.
6-го января 1941 г.
— нынче тащу поляков в Гослитиздат. Среди них один — замечательный (по усилию точно сказать — несказанное) — Юлиан Пшибось.
Большой поэт целиком уцелевает в подстрочнике.
Не большой — целиком пропадает: распадается на случайности рифм и созвучий.
И это я — «формалист»!!!
(О, сволочь: 3елинский!)
27-го января 1941 г., понедельник.
Мне 48 лет, а пишу я — 40 лет и даже 41, если не сорок два (честное слово) и я, конечно, по природе своей — выдающийся филолог, и — нынче, в крохотном словарчике, и даже в трех, узнаю, что ПАЖИТЬ—pacage — пастбище, а вовсе не поле, нива: сжатое: отдыхающее — поле. Итак, я всю жизнь считала (и, о ужас может быть писала) пажить — полем, а это луг, луговина. Но — вопреки трем словарям (несговорившимся: один французский — старый, другой — советский, третий — немецкий) все еще не верю. Пажить — звучит: жать, жатва.
Вчера, по радио, Прокофьев (пишет очередную оперу. Опера у него — функция) собственным голосом:
— Эту оперу нужно будет написать очень быстро, потому что театр приступает к постановке уже в мае (может быть, в апреле — неважно).
— Сергей Сергеевич! А как Вы делаете — чтобы писать быстро? Написать — быстро? Разве это от Вас (нас) зависит? Разве Вы — списываете?
Еще:
— Театр приступает к постановке — уже в мае.
К постановке ненаписанной, несуществующей оперы. — Прокофьева. — Это единственная достоверность.
Быстро. Можно писать — не отрываясь, спины не разгибая и — за целый день — ничего. Можно не, к столу не присесть — и вдруг — все четверостишие, готовое, во время выжимки последней рубашки, или лихорадочно роясь в сумке, набирая ровно 50 копеек, думая о: 20 и 20 и 10. И т. д.
Писать каждый день. Да. Я это делаю всю (сознательную) жизнь. На авось. Авось да. — Но от: каждый день — до: написать быстро… Откуда у Вас уверенность? Опыт? (Удач.) У меня тоже — опыт. Тот же, Крысолов, начатый за месяц до рождения Мура, сданный в журнал, и требовавший — по главе в месяц. Но — разве я когда-нибудь знала — что допишу к сроку? Разве я знала — длину главы: когда глава кончится? Глава — вдруг — кончилась, сама, на нужном ей слове (тогда — слоге). На нужном вещи — слоге. Можно — впадать в отчаяние — что так медленно, но от этого — до писать быстро…
— Все расстояние между совестливостью — и бессовестностью, совестью — отсутствием ее.
Да, да, так наживаются дачи, машины, так — может быть (поверим в злостное чудо!) пишутся, получаются, оказываются гениальные оперы, но этими словами роняется достоинство творца.
Никакие театры, гонорары, никакая нужда не заставит меня сдать рукописи до последней проставленной точки, а срок этой точки — известен только Богу.
— С Богом! (или:) — Господи, дай! — так начиналась каждая моя вещь, так начинается каждый мой, даже самый жалкий, перевод (Франко, например).
Я никогда не просила у Бога — рифмы (это — мое дело), я просила у Бога — силы найти ее, силы на это мучение.
Не: — Дай, Господи, рифму! — а: — Дай, Господи, силы найти эту рифму, силы — на эту муку. И это мне Бог — давал, подавал.
Вот сейчас (белорусские евреи). Два дня билась над (подстрочник):
«А я — полный всех даров — Науками, искусствами, все же сантиментален, готов сказать глупость банальную:
Такая тоска ноет в сердце
От полей только что сжатых!»
(Только что сжатых полей не влезало в размер.) Вертела, перефразировала, иносказывала, ум-за-раз-ум заходил, — важна, здесь, простота возгласа. И когда, наконец, отчаявшись (и замерзши, — около 30-ти градусов и все выдувает), влезла на кровать под вязаное львиное одеяло — вдруг — сразу — строки:
— Какая на сердце пустота
От снятого урожая!
И это мне — от Бога — в награду за старание. Удача — (сразу, само приходящее) — дар, а такое (после стольких мучений) — награда.
Недаром меня никогда не влекло к Прокофьеву. Слишком благополучен. Ни приметы — избранничества. (Мы все — клейменые, а Гёте — сам был Бог.) Иногда и красота — как клеймо. (Тавро — на арабских конях.) Но — загадка — либо Прокофьев, действительно, сам, как Маяковский — сам (но Маяковский был фетишист), — либо сам — нет (кроме самообмана), и, в последнюю минуту, Прокофьеву подает — все-таки Бог.
Верующая? — Нет. — Знающая из опыта.* * *
Февраль 1941
Я отродясь — как вся наша семья — была избавлена от этих двух понятий: слава и деньги. Ибо для чего же я так стараюсь нынче над… вчера над… завтра над… и вообще над слабыми, несуществующими поэтами — так же, как над существующими, над Кнапгейсом? — как над Бодлером?
Первое: невозможность. Невозможность иначе. Привычка — всей жизни. Не только моей: отца и матери. В крови. Второе: мое доброе имя. Ведь я же буду — подписывать. Мое доброе имя, то есть: моя добрая слава. — «Как Цветаева могла сделать такую гадость?» невозможность обмануть — доверие.
(Добрая слава, с просто — славой — незнакома.) Слава: чтобы обо мне говорили. Добрая слава: чтобы обо мне не говорили — плохого. Добрая слава: один из видов нашей скромности — и вся наша честность.
Деньги? — Да плевать мне на них. Я их чувствую только, когда их — нет. Есть — естественно, ибо есть естественно (ибо естественно — есть). Ведь я могла бы зарабатывать вдвое больше. Ну — и? Ну, вдвое больше бумажек в конверте. Но у меня-то что останется? Если взять эту мою последнюю спокойную… радость.
Ведь нужно быть мертвым, чтобы предпочесть деньги.
ЦВЕТАЕВА. Записные книжки
Там, где ты поставлен Богом, там можешь быть и святым. Если ты учитель — будь святым учителем, если ты мастеровой — будь святым мастеровым, если ты монах — будь святым монахом.
Прп. Иустин (Попович)
Интересное попалось. Скотина - от слова «цена», это сокращение от «сколько цена». Осталось в белорусском – скоцíна. Скоко цена.
Выходит, что обзывая кого-то скотиной, мы называем его товаром, предметом?
2015