Е. Ф. Юнге - Достоевскому. Достоевский - Е. Ф. Юнге
( из Предисловия к изданию 1914 г, написанного профессором А.П. Новицким)
Не могу тоже не привести для её характеристики начало переписки с Ф.М. Достоевским, как нельзя лучше обрисовывающее её духовный образ. Это было время, когда только ещё печатались в журнале «Братья Карамазовы». Прочтя их ещё не до конца, она пришла в такое восхищение, что не спала всю ночь, хотела сейчас же писать письмо автору, но пока написала своей матери: «Эта вещь, – пишет она, – совсем разбередила меня, в ночи я не могла спать и горячие слёзы проливала; но это наслаждение – проливать слёзы над произведением искусства. Ещё Пушкин выставил, как одну из причин, почему он жить хочет, – это, может быть, «над вымыслом слезами обольюсь». Если б знал Достоевский, сколько он мне доставил этих слёз и сколько утешения своими произведениями, ему бы, верно, было приятно. Ещё во время войны, когда бывало на душе так тяжело, что сил нет, один «Дневник писателя» утешал меня. Бывало, читаешь и думаешь: утопия всё это, а между тем в душу входит что-то утешающе-сладкое, потому что видно там любящее сердце, душу, понимающую всё, понимающее и веру. Уж если есть хоть один человек убеждённый, верующий, любящий, не эгоист – какое это в тяжёлые минуты огромное утешение, а он ещё так прямо, так громко, такими жгучими словами говорит о своей вере! Мне тогда много раз хотелось поехать к нему, написать ему, но, конечно, при моей застенчивости не сделала. Думала, посмеётся только человек надо мной, что ему за дело до моих восторгов и мнений? Если бы все его поклонники со всей России стали бы ездить к нему с выражением чувств?! Но теперь, если б я была в Петербурге, я бы пошла к нему, и он уже сам был бы виноват. Разве не описал он, как было приятно старцу Зосиме, когда к нему пришла простая русская глупая баба со своим русским простым спасибо?! И я бы пришла и сказала «спасибо» – спасибо, что он думал и высказал вещи, которые без слов наполняли душу и мучили меня; спасибо, что он не гнушается войти в скверное, преступное сердце и выкопать там нечто прекрасное, за то, что любит деток, за художественное наслаждение его образами, за слёзы, за то, что с ним я забыла повседневные заботы и мелочи и как-то вознеслась над ними. Невольно сравниваешь Достоевского с европейскими романистами, я беру лучших из них, французов Золя, Гонкур, Доде – они все честные, желают лучшего; но, Боже мой, как мелко плавают! А этот… и реалист, такой реалист, как никто из них! Его лица – совсем живые люди! Вам кажется, будто вы знавали их, или видели где-то, будто знаете тембр их голоса. Ещё более реальности придаёт этим людям высокохудожественный приём: не описывать их, а давать читателю знакомиться с ними постепенно, как это бывает в жизни. Наблюдатель Достоевский такой тонкий и глубокий, что можно только поражаться ,– это, конечно, не новость. И вместе с этим крайним реализмом можно ли на свете найти ещё такого поэта и идеалиста?! Ведь это почти достижение идеала искусства – человек, который реалист, точный исследователь, психолог, идеалист и философ! Да, он ещё и философ, – у него совсем философский ум, а между тем он, вероятно, не получил философского образования; видно, философы бывают врождённые, как гении. Говорить ли тебе, что я ревела, читая рассказ бабы об умершем ребёнке?! И как он так знает женское сердце?! Должно быть, и это врождённое – сила его любви дала ему понять женское и детское сердце. А какое впечатление всего хода романа? Как перед грозой собираются, собираются тучи, и ты видишь – неминуема уже гроза, так и тут: собираются события, воздух становится всё гуще и невыносимее, и так сильно впечатление, что хочется, чтоб он уж убил его поскорее, чтобы уже было кончено. Прочла вчера вечером об <истязании> детей и Великого инквизитора, не могла больше читать, да и провалялась до утра, думая об этом всём и сочиняя письмо к Достоевскому. Мне так вдруг захотелось исповедоваться ему и услышать от него какое-нибудь нужное мне слово. Захотела исповедоваться ему потому именно, что он всё поймёт и никем не гнушается. Я бы, может быть, была действительно способна это сделать, если б он позволил. Право, я какая-то сумасшедшая! Всё-таки, если увидишь его, передай ему моё спасибо».
Мать, получив это письмо, действительно поехала с ним к Достоевскому. «Я нашла его ,– писала она после того дочери, – чем-то расстроенным, больным, донельзя бледным… Недаром мне хотелось прочесть Достоевскому твоё письмо: по мере того, как жена его читала ( читает она превосходно и с большой осмысленностью и чувством), лицо его прояснялось, покрылось жизненной краской, глаза блестели удовольствием, часто блестели слёзы. По прочтении письма мне казалось, что он помолодел. Он спросил, пишешь ли ты? На отрицательный ответ сказал: «Судя по её письму, она так же может писать, как и я». Когда я уходила, он просил меня передать тебе его глубокую признательность за твою оценку к его труду, прибавив, что в письме твоём полная научная критика и лучшая, какая <когда>-либо была и будет, и которая доставила ему невыразимое удовольствие. Это уж я сама видела. Всё время, покуда я одевалась в прихожей, он только и твердил, чтобы я не забыла передать тебе его благодарность за то, что так глубоко разбираешь его роман, Карамазовых, и сказать тебе, что никто так осмысленно его не читал. Ты сама бы порадовалась, увидев, какое наслаждение доставило твоё письмо благородному труженику… Что же касается до того, что ты пишешь о своей конфузливости, то он находит это ненатуральным и не твоим по слогу<складу?> твоего ума и чувства, но что это чужое, привитое к тебе, которое со временем пройдёт… Достоевский говорит, что был бы очень рад получить от тебя письмо, но просить об этом не может, чтобы не было чего-нибудь затруднительного для тебя, как обязательного».
Получивши это сообщение, Екатерина Фёдоровна действительно написала Ф.М. Достоевскому письмо, искрящееся умом, тонким пониманием души человеческой и необычайною скромностью. Привожу его почти целиком:
«Вы позволили писать вам, многоуважаемый Фёдор Михайлович, как же противостоять такому искушению! Но только, если вы смеётесь надо мной, то не делайте этого – вы видите перед собой больную душу, которая имеет духовника. Не могу выразить вам, как сильно я ценю вас как писателя и мыслителя, т.е. не ценю –«ценю» не слово это было бы слишком дерзко с моей стороны делать вам оценку), но как сильно я благодарна вам, именно благодарна. Не смейтесь над моими утрировками – но, право, это чувство однородное с тем, как чувствуешь в детстве, когда восторгаешься природой или наслаждаешься каким-нибудь удовольствием и в душе рождается какая-то горячая благодарность Создателю. Я часто оставляла ёлку, чтобы побежать помолиться, а потом часто перед красотой заката падала на землю в восторге и немой молитве. А теперь, когда я читаю что-нибудь хорошее, у меня является непреодолимое желание пойти и высказать Создателю того, что так глубоко потрясает меня, мою благодарность. Не такое ли чувство заставляло Марию припадать к коленам своего дивного Учителя и следовать за ним до самого подножия креста? Вот почему в год войны я часто была на пороге, чтобы идти к вам, но никогда не могла решиться и просто мучилась этим, особенно в то время, когда вы прекратили «Дневник», – мне так хотелось упросить вас продолжить нам это утешение. Вы посвятили своё время не менее прекрасному труду. Много бы мне хотелось сказать про Карамазовых, много мыслей и чувств пробудила во мне эта чудесная повесть, но боюсь надоесть вам. Кстати, о моей застенчивости. Вы отчасти правы были, когда сказали, что это во мне привитое. Хотя застенчивость у меня есть от природы, но она усилилась от сильной близорукости и отчасти благодаря одному обстоятельству… Мне и теперь кажется, что я говорю очень глупо, и только глубокая вера, что вы человек, в душе которого такая бездна снисходительности и всепрощения, заставляет меня исполнить моё давнишнее желание , если не пойти, то написать к вам – на бумаге как-то менее совестно. С одной стороны, я теперь рада, что моей маме вздумалось показать вам моё письмо. Вы, вероятно, увидели из него, что оно не предназначалось для ваших ушей, и это гораздо лучше. Если бы я прямо написала вам, я, конечно, не высказалась бы так откровенно, искала бы фраз, и вышло бы не то. Моя мама передала мне, что вы говорили, что я могла бы писать, и хвалили моё письмо. Я не помню, в каких чертах я изливала в нём свои чувства, но скажу одно: это письмо не я писала, а моё непосредственное чувство, само дело говорило за себя, сама правда непосредственно и без моего ведома вылилась. У меня так часто бывает: в каком-нибудь письме неожиданно выдаются страницы, которые люди называли поэтическими. Я ведь всегда сочиняю, лежу ли без сна ночью, гуляю ли, шью ли, все мысли у меня складываются в образы, и я сама не знаю, что иногда недурные; но совсем другое дело, когда сядешь с намерением написать что-нибудь,… всё смешивается, всё улетучивается. К тому же я очень ленива, техника написания сердит меня. Я потому предпочитаю живопись – там прямо творишь, а тут между твоей мыслью и бумагой это противное, неуклюжее перо! От одного макания в чернила можно с ума сойти. Вот если б можно было диктовать или стенографировать, если б фонограф как-нибудь приспособить… было бы другое дело. Кроме моего желания высказать вам, что я, насколько могу, понимаю вас и благодарна вам всем сердцем за те хорошие чувства, которые вы заставляете шевелиться, за то утешение, которое проливаете в душу; высказать вам не от моего только ничтожного имени, а как одна из тысяч, что вы недаром писали и мыслили… Кроме этого, главного, ещё одна мысль всё напрашивалась мне в голову, и именно – мне кажется, что я принадлежу к таким типам, в которых вы только можете разобраться и кое-что объяснить и которые могут даже вас занять не по своему совершенству и выдающимся чертам, но, скорее, именно по своему несовершенству и по психологической задаче, в них заключающейся. Во-первых, мне кажется, я заключаю в себе, в миниатюре, все недостатки русского народа: крайняя восприимчивость и недостаток выдержки, постоянные увлечения в ту или другую сторону, талантливость, не ведущая к желаемым результатам, самые высокие стремления, приводящие к фиаско! Во-вторых, у меня двойственность в характере, доведённая до постыдной степени. Двойственность эта заставляет меня всегда делать то, что я вполне сознаю, что не должна бы делать, и это каким-то самым роковым образом, будто все обстоятельства слагаются так, чтоб я это сделала. Особенно в мелочах это проявляется очень интересно. Все эти разнообразные чувства, которые вытекают из этой двойственности, которые волнуют и терзают меня, устраивают около меня такой лабиринт, что только рука опытного психолога может вывести меня на свет Божий. Вот у меня и является желание исповедаться такому психологу. Я сама себе удивляюсь: неужели я бы могла Вам, почти незнакомому человеку, высказать откровенно то, что скрываю от своих близких. Откуда такое доверие? С людьми, с которыми тысячи уз связывают меня, молчу, а тут – явился посторонний человек, вылил свою душу на бумагу. Бумага эта попала мне на глаза и, как волшебный ключ, открыла тайник моего сердца, и стал этот чудный человек мне другом, в которого верю и которого не стыжусь!.. . К сожалению, почти немыслимо написать свою исповедь, как бы мне не полегчало от этого, так как говорить правду об настоящем нельзя… Простите мне, добрейший Фёдор Михайлович, это длинное бессвязное письмо. Вы, вероятно, его распутали настолько, что поняли самое главное, что я бесконечно благодарна вам вообще всегда и в частности теперь, когда вы отнеслись ко мне ласково, и что я была бы счастлива, если б мои, быть может, глупые, но искренние, правдивые слова доставили вам самое малейшее удовольствие».
Ф.М. Достоевский ответил ей на это следующим письмом (от 1 апреля 1880 года): «Простите, что слишком долго промедлил вам отвечать на прекрасное и столь дружественное письмо ваше: не сочтите за небрежность. Хотелось ответить вам что-нибудь искреннее и задушевное. А, ей-богу, моя жизнь проходит в таком беспорядочном кипении , и даже в такой суете, что, право, я редко принадлежу весь себе, да и теперь, когда я, наконец, выбрал минуту, чтоб написать вам, – вряд ли, однако, я в состоянии буду написать хоть малую долю из того, что сердце бы хотело вам сообщить. Мнение ваше обо мне я не могу не ценить: те строки, которые показала мне из вашего письма к ней ваша матушка, слишком тронули и даже поразили меня: я знаю, что во мне как в писателе есть много недостатков, потому что я сам, первый, собою всегда недоволен. Можете вообразить, что в иные минуты внутреннего отчёта я часто с болью сознаю, что не выразил и двадцатой доли того, что хотел бы, а может быть и мог выразить. Спасает при этом меня всегда надежда, что когда-нибудь пошлёт Бог настолько вдохновения и силы, что я выражусь полнее, одним словом, что выскажу всё, что у меня заключено в сердце и фантазии. На недавнем здесь диспуте молодого философа Владимира Соловьёва (сына историка) на доктора философии я услышал от него одну глубокую фразу: «Человечество, по моему глубокому убеждению, – сказал он, – знает гораздо более, чем до сих пор успело высказать в своей науке и в своём искусстве». Ну, вот так и со мною: я чувствую, что во мне гораздо более скрыто, чем сколько я мог до сих пор выразить, как писатель! Но всё ж, без ложной скромности говоря, я ведь чувствую же, что и выраженном уже мной было нечто, сказанное от сердца и правдиво. И вот, клянусь вам, сочувствия встретил я много, может быть, даже более, чем заслуживал, но критика, печатная литературная критика, даже если хвалила меня (что было редко), говорила обо мне до того легко и поверхностно, что, казалось, совсем не заметила того, что решительно родилось у меня с болью сердца и вылилось правдиво из души. А потому можете заключить, как приятно должна была подействовать такая тонкая, такая глубокая оценка меня, как писателя, которую прочёл я в вашем письме к вашей матушке. Но я всё о себе, хотя трудно не говорить о себе с таким глубоким и симпатичным мне критиком моим, какого вижу в вас. Вы пишете о себе, о душевном настроении вашем в настоящую минуту. Я знаю, что вы художник, занимаетесь живописью. Позвольте вам дать совет: не покидайте искусства и даже ещё более предайтесь ему, чем доселе. Я знаю, я слышал (простите меня) , что вы не очень счастливы. Живя в уединении и растравляя душу воспоминаниями, вы можете сделать свою жизнь слишком мрачной. Одно убежище, одно лекарство: искусство и творчество. Исповедь же вашу теперь по крайней мере не решайтесь писать – это будет, быть может, вам очень тяжело. Простите за советы, но я бы очень желал вас увидеть и сказать вам хоть два слова изустно. После такого письма, которое вы мне написали, вы, конечно, для меня дорогой человек, близкое душе моей существо, родная сестра по сердцу – и не могу же я вам не сочувствовать! Что вы пишете о вашей двойственности? Но это – самая обыкновенная черта у людей…не совсем, впрочем, обыкновенных, – черта, свойственная человеческой природе вообще, но далеко-далеко не во всякой природе человеческой встречающаяся в такой силе, как у вас. Вот и поэтому вы мне родная, потому что это раздвоение в вас точь-в-точь, как и во мне, и всю жизнь во мне было. Это – большая мука, но в то же время и большое наслаждение. Это – сильное сознание, потребность самоотчёта и присутствие в природе вашей потребности нравственного долга к самому себе и к человечеству. Вот что значит эта двойственность. Были бы вы не столь развиты умом, были бы ограниченнее, то были бы менее совестливы, и не было бы этой двойственности, напротив, родилось бы великое самомнение. Но всё-таки эта двойственность – большая мука. Милая, глубокоуважаемая Катерина Фёдоровна, верите ли вы во Христа и в Его обеты? Если верите ( или хотите верить очень), то предайтесь Ему вполне, и муки от этой двойственности сильно смягчатся, и вы получите исход душевный, а это главное. Простите, что написал такое беспорядочное письмо. Но если б вы знали, до какой степени я не умею писать писем и тягощусь писать их! Но вам всегда буду отвечать, если вы ещё напишете… Нажив такого друга, как вы, не захочу потерять его. А пока прощайте. Всем сердцем преданный вам друг ваш и родной по душе Ф. Достоевский».
Сайт Светланы Анатольевны Коппел-Ковтун
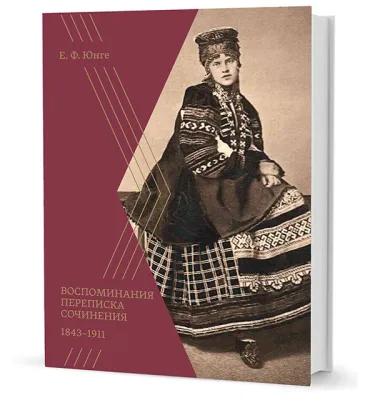


Оставить комментарий