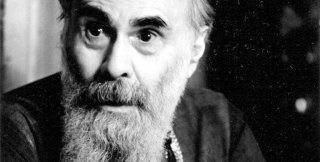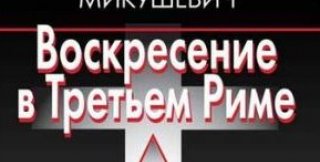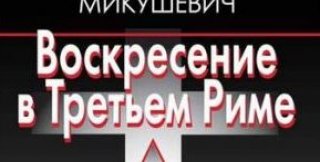Дневник
В американском штате Колорадо олениха пришла в магазин на автозаправке и, получив шоколадку, вернулась туда за добавкой с другими оленями. Об этом сообщает CBS Denver.
Продавщица Лори Джонс (Lori Jones) утверждает, что не раз видела животных на улице перед магазином, но в этот раз олениха осмелела и вошла внутрь. «Она совершенно не обращала на меня внимания, — рассказывает Джонс. — Сначала разглядывала солнечные очки, потом мороженое и чипсы».
Чтобы выпроводить олениху, продавщице пришлось отдать ей шоколадку. Она вернулась к работе, однако через несколько минут снова увидела в магазине животное. Перед ней стояла та же олениха, а в дверь магазина заглядывали ее детеныши.
Джонс пришлось пожертвовать еще одной шоколадкой. Теперь она считает, что это было ошибкой. «Нельзя кормить оленей, иначе они так и будут возвращаться», — говорит продавщица.
Помимо уже знакомой ей оленихи с оленятами, в магазин стали наведываться другие самки, а иногда приходят и самцы.
Навеяло некоторыми коментариями о женской независимости:
Мария Ивановна Арбатова встала утром, села в автомобиль, придуманный и собранный мужчинами, сделанный из металла, вылитого мужчинами из руды, добытой мужчинами; налила бензин из нефти, добытой и переработанной мужчинами; поехала по дороге, построенной мужчинами; зашла в дом, построенный мужчинами из бетона, залитого мужчинами и кирпича, положенного мужчинами, отапливаемый котельной, построенной мужчинами; поднялась на лифте, смонтированном мужчинами; включила свет от сети, проложенной мужчинами от электростанции, построенной мужчинами; залила кипятком, подогретом на газе, добытом мужчинами и полученном из водопровода, проложенного мужчинами, кофе, привезенный мужчинами самолетом, изобретенном и построенном мужчинами, выращенный на плантациях, обрабатываемых мужчинами; взяла булочку из пшеницы, посаженной и собранной мужчинами, привезенной мужчинами в магазин, построенный мужчинами; нажала на кнопку компьютера, изобретенного и собранного мужчинами; открыла программы, созданные мужчинами; зашла в Интернет, созданный мужчинами и написала буквами из алфавита, созданного мужчинами:
«Я – независимая женщина. Зачем мне эти алкоголики?»
Irina Brovin
Мы должны помнить, что всякий человек, кого мы встретим в течение нашей жизни, даже случайно, даже находясь в метро, в автобусе, на улице, на кого мы посмотрели с сочувствием, с серьезностью, с чистотой, даже не сказав ни слова, может в одно мгновение получить надежду и силу жить.
Есть люди, которые проходят через годы, никем не опознанные, проходят через годы, будто они ни для кого не существуют. И вдруг они оказались перед лицом неизвестного им человека, который на них посмотрел с глубиной, для которого этот человек, отверженный, забытый, несуществующий — существует. И это начало новой жизни. Об этом мы должны помнить.
Митрополит Антоний Сурожский
«Русь родилась на Куликовом поле», — писал Василий Ключевский. «На Куликово поле пришли москвичи, владимирцы и так далее, в том числе и литовцы, а вернулись с Куликова поля русские», — напомнил Лев Гумилев.
Впереди нам столько всего предстоит, что пережить это мы сможем, только став русскими.
Роман Носиков
Слово о непогибели земли Русской
О ДОРЕВОЛЮЦИОННОМ УРОВНЕ ГРАМОТНОСТИ В РОССИИ
«Россия старая, дореволюционная Россия, славилась своей темнотой и неграмотностью. К этой горькой славе так привыкли, что уже начинали ею кокетничать (из года в год печатая в календарях резко контрастные цифры о грамотности в Германии, в Бельгии и у нас). Констатировать нашу темноту сделалось чуть ли не хорошим тоном. После революции 1905 г. таким же хорошим тоном считалось помечтать о повышении грамотности, и такая мечта стала необходимым признаком либерального мышления. В Государственной думе не только кадеты, но и октябристы произносили горячие речи о необходимости поднять народную грамотность и на таких речах зарабатывали и добрую славу, и прогрессивное лицо.
В этих мечтаниях сказывалось не только ханжество. Для русской буржуазии действительно необходим был более грамотный рабочий, в своих речах она в иные исторические периоды была искренней. Искренность была и в пределах мечты: добивались или пытались добиваться именно грамотности, а не чего-либо большего. Рабочий, умеющий читать и писать, — приятный и практически приемлемый идеал, позволяющий надеяться на подъем промышленности, а следовательно, и на подъем кривых прибылей и накоплений. Правда, даже этот грамотный рабочий заключал в себе большие опасности: грамотность позволяет человеку читать не только деловые записки и чертежи, но и революционные газеты и прокламации, она приносит ему расширение кругозора, которое угрожает прежде всего прибылям и накоплениям. Широкое народное образование нечто большее, чем простая грамотность, и оно тем более не могло увлекать ни русское правительство, ни русскую буржуазию.
Цели царского просветительного ведомства не могли идти дальше осторожного распространения техники чтения и письма. При этом всегда подразумевалось стремление сохранить по возможности патриархальную темноту и прославленную непосредственность русского мужика. Но даже такая программа вызывала бешеное сопротивление дворянских и дворцовых кругов, курских, волынских и иных зубров, князей Мещерских, газеты «Новое время», всей романовской фамильной коллекции ничтожеств. Темнота и мракобесие были стилем последнего Романова. Недаром курсом его царствования была распутинщина — дикая и темная возня с прощелыгой, возведенным в звание пророка.
Неудивительно потому, что даже та первоначальная грамотность, о которой мечтали либеральные ораторы, находилась в очень печальном состоянии. Она достигалась при помощи самых дешевых казенных способов и в подавляющем большинстве случаев не превышала того, что теперь мы обычно называем полуграмотностью. «Статистическое» убожество русского императорского просвещения, само по себе достаточно выразительное, открыто для всех дополнялось качественной его примитивностью.
Октябрьская революция получила в наследство весьма жалкое «просвещение» народа — результат многолетней позорной и преступной политики Романовых и их клики. Толчки к просвещению, проделанные Петром Первым в начале 18 в., не выросли в большое государственное дело, и на протяжении двух столетий они были заторможены на удивление однообразной, на удивление тупой политикой охранения, охранения народа от крамолы и, разумеется, от знания.
Образовательный «актив» царской России, если не выходить за пределы цифр, был такой:
учащихся во всех школах, не считая высшей — 7 800 600
Вот это и все, что было достигнуто за триста лет романовского царствования, — 7 миллионов детей в школах. Чему учились эти дети, какое они получили образование? Об образовании можно и не говорить — они получали ту самую грамотность, необходимость которой так красноречиво обосновывали в своих речах кадеты и октябристы. Если спросить, сколько же из этих 7 миллионов детей не пошли дальше начальной школы, ответ в круглых цифрах останется тот же: 7 миллионов. Более точный ответ очень незначительно изменяет картину:
всего учащихся — 7 800 600,
в том числе в начальных школах — 7 015 000.
Следовательно, в начальной школе получали законченное образование 90 процентов всего учащихся. В этом и заключалась политика «грамотности». Так говорят голые цифры.
Еще выразительнее язык исторических воспоминаний. Добрая половина начальных школ была школами церковноприходскими — одно из самых «светлых» достижений последних Романовых, — гениальное творчество знаменитого Победоносцева. Эти школы меньше всего беспокоились о грамотности, перед ними стояла более высокая цель — воспитание народа в духе православия. На наше счастье, даже на достижение такой светлой цели царское правительство жалело средств — оно было поручено ленивым и невежественным людям: попам, псаломщикам и дешевым малограмотным учителям.
Воспитать в школах христианские доблести и главную из них — долготерпение так и не удалось, но зато, промучившись три года за изучением мертвого церковнославянского языка, ученик из этой школы выходил таким же темным, каким и входил в нее. Та незначительная грамотность, которую он уносил с собой из школы и которая позволяла статистикам что-то показывать в сравнительных таблицах, эта «грамотность» обречена была на медленное умирание.
Преобладающее в стране крестьянское население, а впрочем, и вообще все население провинции жило без книг и газет. Этим грамотным «статистам» читать было нечего. В этом «организационном моменте» крылись корни явления, которое нашими публицистами именовалось столь выразительно — «рецидив». Через несколько лет по окончании школы «грамотный» еле-еле умел брести по печатной странице, а потом вовсе терял эту способность.
Единственное знание, которое у него оставалось, — это умение нацарапать свою фамилию в случаях официальных. Подобная грамотность в подавляющем большинстве случаев была тем особым видом косноязычия, комических и жалких потуг выражаться по-книжному, которое еще так недавно привлекало внимание наших юмористов. Но и таких «ученых» людей было немного. Большинство же даже в официальных случаях ставило кресты — обычай поистине христианский».
А.С. Макаренко
Воспитание детей начинается с того возраста, когда никакие логические доказательства и предъявление общественных прав вообще невозможны, а между тем без авторитета невозможен воспитатель.
Наконец, самый смысл авторитета в том и заключается, что он не требует никаких доказательств, что он принимается как несомненное достоинство старшего, как его сила и ценность, видимая, так сказать, простым детским глазом.
Отец и мать в глазах ребёнка должны иметь этот авторитет. Часто приходится слышать вопрос: что делать с ребёнком, если он не слушается? Вот это самое «не слушается» и есть признак того, что родители в его глазах не имеют авторитета.
Откуда берётся родительский авторитет, как он организуется?
Те родители, у которых дети «не слушаются», склонны иногда думать, что авторитет даётся от природы, что это ─ особый талант. Если таланта нет, то и поделать ничего нельзя, остаётся только позавидовать тому, у которого такой талант есть. Эти #родители ошибаются. Авторитет может быть организован в каждой семье, и это даже не очень трудное дело.
К сожалению, встречаются родители, которые организуют такой авторитет на ложных основаниях. Они стремятся к тому, чтобы дети их слушались, это составляет их цель. А на самом деле это ошибка. Авторитет и послушание не могут быть целью. Цель может быть только одна: правильное воспитание. Только к этой одной цели и нужно стремиться. Детское послушание может быть только одним из путей к этой цели. Как раз те родители, которые о настоящих целях воспитания не думают, добиваются послушания для самого послушания. Если дети послушны, родителям живётся спокойнее. Вот это самое спокойствие и является их настоящей целью. На поверку всегда выходит, что ни спокойствие, ни послушание не сохраняются долго. Авторитет, построенный на ложных основаниях, только на очень короткое время помогает, скоро всё разрушается, не остаётся ни авторитета, ни послушания. Бывает и так, что родители добиваются послушания, но зато все остальные цели воспитываются в загоне: вырастают, правда, послушные, но слабые дети. Есть много сортов такого ложного авторитета.
Антон Семенович Макаренко
Возможна только одна биография — автобиография; перечень же чужих поступков и эмоций — не биография, а зоология, описание повадок диковинного зверя.
Если вы не поняли человека, вы не имеете права осуждать его, а если поняли, то, вполне возможно, не пожелаете этого делать.
Г.К. Честертон
ЗАКОН И БЛАГОДАТЬ
То, что противопоставляется закону, не есть «иго», «бремя» («бремена неудобоносимые») , приказ (императив), устрашение, — а есть, напротив, облегчение, освобождение, приглашение на пир, радость и блаженство. Царство Божие есть блаженство, как это возвещается в «заповедях блаженства» , оно есть радость, даруемая человеку, спасение, высшая красота и «очарование», gratia или благодать.
Совершенно неправильно было бы думать, что противоположность закона и благодати установлена только ап. Павлом и что христианство Павла есть какое–то особое христианство. Ап. Павел есть первый христианский философ, всего более давший для христианского гнозиса, для постижения Откровения, но он всецело верен этому Откровению. Противопоставление закона и благодати, закона и любви, закона и Царства Божия проходит чрез все Евангелия и точно формулируется, как основной принцип христианства, в Прологе Ев. Иоанна: «закон дан чрез Моисея; благодать же и истина произошли чрез Иисуса Христа» (Ин. 1:16, 17).
Христос утверждает, что законом спастись нельзя: праведность от закона, праведность «книжников и фарисеев» затворяет вход в Царствие Божие (Мф. 23:13). А если бы можно было спастись законом, то Спаситель был бы не нужен! Наибольший праведник религии закона и пророков — Иоанн — меньше последнего в Царствии Божьем (Мф. 11:11—13). Посему горе законникам, налагающим на людей бремена неудобоносимые! (Лк. 11; 46). Здесь, следовательно, лежит порог абсолютного противопоставления: Царствие Божие есть нечто совсем иное, качественное иное и новое. В беседе с самарянкою дано самое глубокое и, быть может, самое радикальное противупоставление религии закона и иной религии «духа и истины». Религия закона разделяет людей на чистых и нечистых в силу соблюдения внешних норм, норм о времени и месте; норм, определяющих, где, как и когда ив каких формах поклоняться Богу. Но существует иное поклонение: поклонение Отцу в духе и истине; и оно прямо противополагается первому: «не на горе сей… и не в Иерусалиме»… а в духе и истине. Сама проблема религии закона со всеми ее спорами и контраверзами, разделяющими людей, прямо устраняется и снимается в силу ее недуховности. Это проблема неистинных поклонников и неистинной религии; не таких Отец ищет себе: «Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине» (Ин. 4:7—27) *.
Философия ап. Павла с ее диалектическим противопоставлением Закона и Благодати есть только стремление раскрыть полноту этого открытия, этого «Откровения», воспринятого от Учителя.
---
* На это одно место мог бы опираться протестантизм со своим «протестом» против всяких внешних «дел закона» и против всяких внешних форм позитивной религии. Не у Павла мы находим впервые этот парадокс, это новое Откровение религии духа и благодати. Карл Барт строит на нем свой радикальный протест против всякой позитивной религии, неизбежно принимающей форму «Закона». Он истолковывает «Закон» у ап. Павла в этом широчайшем смысле, как совокупность всех религиозных установлений и учреждений, и релятивирует их все.
ПОКРЫВАЛО НА СЕРДЦЕ И ЖИЗНЬ В ДУХЕ
То, что здесь противопоставляется религии, признающей высшей ценностью «Закон», — есть иная и совсем иная ценность непосредственного мистического общения с Абсолютом, с Богом, со Св. Троицею; это то самое «вещей обличение невидимых» и «гипостазирование надежд», которое an. Павел определяет, как веру. «Закону» противопоставляется «вера», как непосредственное отношение между Богом и человеком, не через посредство приказов и запретов Закона, а в интимно–сердечном соприкосновении любви; с нею связано ответное воздействие Божества, дарующего радость, «благодать» и утешение Духа Св., творящего Царство Божие при сотворчестве, при «кооперации» человека. Таким образом, «закону» можно противопоставлять веру, благодать, стяжание Духа Св., любовь, Царство Божие. Система этих понятий, переходящих одно в другое, выражает новую систему ценностей.
«Закон» преграждает путь в Царство Божие, он есть преграда между людьми и преграда между Богом и человеком. На путях «Закона» невозможно то интимно–сердечное взаимоотношение любви, взаимоотношение Богосыновства, которое спасает, преображает, «обоживает» человека и создает Царство Божие сначала «внутри нас», а затем и везде. Оно невозможно потому, что Закон есть «покрывало, лежащее на сердце», которое и «доныне остается неясным» для тех, кто еще всецело живет в Ветхом Завете (а таких и в наши дни большинство). Бог закрыт для сердца человека, отделен завесою Закона. Нет отношений дружбы и сыновства, а есть отношение Законодателя и подданного, Владыки и раба. Раб боится взирать на Господина и лишь слышит его голос в императивах Закона.
Существует такое понимание отношения между человеком и Богом, при котором вся религиозная связь, все «почитание» и «благоговение» выражается исключительно в изучении Торы, в изучении, толковании и соблюдении «заповедей человеческих». Уже у пророка Исайи мы находим яркий протест против законничества и Торы: «благоговение», которое выражается в «изучении заповедей человеческих» (Ис. 29:13), в нагромождении «заповеди на заповедь и правила на правило», есть ложное благоговение: оно губит и запутывает «в сетях» законничества (Ис. 28:10, 13).
Исайя здесь предвидит то, что впоследствии выскажет Христос, подтверждая слова пророка: такое почитание — тщетно (Мк. 7:7—13). Сердце при этом «далеко отстоит» от Бога, оно отделено от Бога сетью правил, завесою закона. Это и есть то «покрывало на сердце», о котором говорит ап. Павел.
Покрывало закона снимается с сердца Христом. Сердце начинает жить в Духе и дышать духом свободы: «но когда обращается к Господу, тогда это покрывало снимается. Господь есть Дух; а где Дух Господень, там свобода». Мы, христиане, не отделены завесою Закона от Бога, «мы взираем на славу Господню… открытым лицем» и «преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа» (2 Кор. 3; 14—18).
РАБСТВО ЗАКОНА И БЛАГОДАТЬ СВОБОДЫ
Далее пребывание под Законом определяется как рабство, а благодать Христова как свобода. Есть два завета, говорит ап. Павел, «один от горы Синайской, рождающий в рабство», — это «нынешний Иерусалим, ибо он с детьми своими в рабстве»: другой: «вышний Иерусалим, он свободен, он матерь всем нам» «, мы дети свободной. «Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства». «К свободе призваны вы, братья», а потому не возвращайтесь снова под иго закона: вы уже не рабы, но сыны (см. гл. 4 и 5 к Гал.). Нынешний Иерусалим, о котором говорит Апостол, есть сфера подзаконная, сфера права и государства и общества (народного этоса), то, что Августин называет civitas terrena, но «вышний Иерусалим» — это civitas Dei, это Царство Божие, это Новый Иерусалим, изображенный в последней главе Апокалипсиса, это прославленная и царствующая Церковь, она свободна и она «матерь всем нам». Здесь сфера не подзаконная, а сверхзаконная, метаюридическая, сфера благодати, любви и свободы: «На таковых нет закона!».
ЗАКОН ДЕЛ И ДУХ ЛЮБВИ
Закон Моисеев (и, в сущности, всякий закон) касается всех сфер человеческого поведения и человеческой деятельности — религиозно–ритуальной, моральной и правовой. В нем есть важное и неважное, ценное и неценное, божественное и небожественное. Самое ценное в нем — это борьба со злом и запрещение преступления («не убий», «не укради», «не прелюбо сотвори»). Однако и в этой борьбе, как увидим далее, закон постоянно терпит неудачу. Происходит это оттого, что радикальное преодоление зла с христианской точки зрения достигается не внешним пресечением зла (не negatio negationes Гегеля), не обратным злом, а положительным созиданием добра. Но закон не есть высшая творческая сила. Высшая творческая сила есть любовь. Больше того, любовь есть высшая ценность и святость, венец достижений, ибо «Бог есть любовь». Конечная «цель» евангельского провозвестия, говорит ап. Павел, «есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры» (1 Тим. 1:5). Вот чего закон принципиально достигнуть не может, ибо в этих сферах Закон не действует, императив не действует: нельзя приказать или запретить любить; нельзя приказать или запретить «нелицемерно верить», ибо вынудить можно только лицемерие. Сфера чистого сердца — метаномична. Императивы закона касаются лишь внешних поступков и деяний. Вот почему ап. Павел постоянно употребляет выражение: «дела закона». И вот почему он непрерывно утверждает, что «спасение не от дел» и что «человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа» (Гал. 2:16, 3:11). Причина лежит в том, что чрез дела закона нельзя стяжать Духа (Гал. 3:2—10, 14). Но что значит быть в духе, жить духовно? Это значит, обладать тем «совершенством в совести» (Евр. 9:9, 14), тем преображением сердца, которое нельзя приказать законом, нельзя вынудить никакими императивами: «плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание». Если этих даров духа нет — их нельзя вынудить никаким законом; если они есть — закон не нужен; «на таковых нет закона» (Гал. 5:22, 23).
В законе, как сказано, есть важное и неважное, есть правда и неправда. Абсолютное соблюдение закона может в конкретном случае превратить summum ius в summa iniuria. Христос показал, что оно может противоречить любви (напр., соблюдение субботы как абсолютного запрета что–либо делать и, след., делать добро, лечить, спасать упавшую овцу (Мф. 12:1—13; Лк. 6:1—12; Мк. 3:1—7), и потому сам с учениками своими на каждом шагу нарушал Закон, утверждая, что «не человек для субботы, а суббота для человека» и «Сын человеческий есть господин и субботы». Эти нарушения строгости закона постоянно ставились Ему в вину фарисеями, а затем и церковной властью. Он не соблюдал субботы, омовений, постов, он присутствовал на пирах, пил вино, он общался с нечистыми, беседовал с мытарями, грешниками, блудницами, самарянами, — и то же делали его ученики! Наконец, он не осудил женщину, которая по закону должна была быть осуждена и побита камнями.
Конечно, все эти нарушения закона являются нарушениями не ради «беззакония», а во имя любви. Но для того чтобы решать, когда в конкретном случае нужно исполнить закон и когда нарушить — нужна высшая инстанция, совершенно независимая от закона и стоящая выше закона. Такой инстанцией является вера, как предвосхищение идеалов Царствия Божия, и любовь, связанная с нею, любовь, как непосредственная интуиция Богосыновства. В этом смысле человек выше закона и должен оставаться господином закона.
* * *
Итак, существуют два пути, противоположных и взаимно исключающих друг друга: путь закона, как путь проклятия и осуждения, — и путь веры во Христа и обновления Святым Духом, как путь, снимающий «клятву» и дающий спасение; «служение осуждения» противополагается «служению оправдания», «служение смертоносным буквам» противополагается «служению духа», ибо «буква убивает, а дух животворит» (2 Кор. 3:6-9).
Противопоставление закона и благодати все более обостряется у ап. Павла и достигает антиномического, контрадикторного отношения между ними «, с особой силою выраженного в Послании к Галатам: закон и благодать Христова несовместимы, как несовместимо проклятие и спасение, рабство и свобода, надежда на плоть («закон заповеди плотской») — и надежда «не на плоть», а на дух **; как несовместимо, наконец, «покрывало на сердце» и сердце, открытое Богу.
Эту несовместимость ап. Павел еще раз нарочито подчеркивает и показывает с двух сторон:
1) Со стороны закона. Пребывание в законе исключает благодать: «Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати»; «если вы обрезываетесь (а обрезание здесь прямо определяется, как символ закона во всем его объеме), не будет вам никакой пользы от Христа» (Гал. 5:2—5).
2) Со стороны благодати. Пребывание в благодати исключает закон: «Вы не под законом, а под благодатью» (Рим. 6:14—15). «Во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни необрезание (иначе говоря, не имеет силы никакой закон), но вера, действующая любовью» (Гал. 5:6) — «ни обрезание, ни необрезание, ? новая тварь» (Гал. 6:15). Благодать духовного обновления исключает подзаконное состояние: «если же вы духом водитесь, то вы не под законом» (Гал. 5:18)… «на таковых нет закона» (Гал. 5:22, 23).
Тезис «закона» исключает антитезис «благодати»; и антитезис «благодати» исключает тезис «закона». Получаем настоящую антиномию двух великих систем ценностей двух религиозных святынь: антиномию закона и благодати. Первое решение, которое встает с диалектической необходимостью, есть решение, односторонне утверждающее антитезис «благодати»; и через него необходимо пройти: в нем выражается трагическое столкновение двух систем ценностей и победа высшей системы ценностей, открытой Христом.
Гал. 2, 3: Тит. 3:4—7; 1:9; Еф. 2, 8, 9: Рим. 3:19. 20. Гал. 3:10 —14: 4:2I; 5:8. 12. 13; Флп. 3:3—4: Гал. 4:9-10.
Всякое смешение и наивное совмещение этих систем должно быть отвергнуто. Всякую попытку соблюдения «Закона», всякое возвращение в состояние подзаконности ап. Павел рассматривает как падение, как измену Христу, как потерю свободы, как возвращение к рабскому состоянию: «для чего возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам и хотите еще снова поработить себя им? Наблюдаете дни, месяцы, времена и годы. Боюсь за вас, не напрасно ли я трудился у вас» (Гал. 4:9—11; Кол. 2:16). «Стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства» *. Иными словами, бойтесь впасть в «закон». Так и говорит апостол: «берегитесь обрезания» (Флп. 3:2). И так же думали о законе и другие апостолы (Деян. 15:10). Нужно «умереть для закона, которым были связаны, освободиться от него, чтобы служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве» (Рим. 7:4, 6). Чтобы жить для Бога — нужно умереть для закона (Гал. 2:19). Трудно сильнее выразить отвержение закона.
В Евангелии и в Посланиях развертывается ряд отрицательных суждений о «Законе», возрастающих в силе: закон — «не без недостатка», он «ничего не доводит до совершенства», им нельзя оправдаться, он «служение осуждения», «ветхая буква», «ветхая одежда», «ветхие мехи», «ветшающее и стареющее, близкое к уничтожению»; он есть «заповедь и предание человеческое», надежда на плоть, суеверие, «тщета», «сор», «заднее», «покрывало на сердце», рабство, «смертоносная буква», он «производит гнев», разделяет людей, «отчуждает», воздвигает «преграду», создает «вражду». Наконец, Христос «разрушает» эту преграду закона; устанавливается, что закон есть «заповедь, отменяющаяся по причине ее немощи и бесполезности»; а потому: «горе вам, законники!» **
Несовместимость закона и веры, закона и благодати выражается в том, что закон помещается в прошлое, а благодать в настоящее и будущее! Две системы ценностей исключают друг друга во времени, одна сменяет другую: закон есть «заповедь, прежде бывшая», а теперь отменяющаяся. Новый Завет показывает ветхость старого (Евр. 7:18; 8:13). «Кто во Христе — тот новая тварь; древнее прошло, теперь все новое» (2 Кор. 5:17), надо забыть то, что позади, и устремляться вперед (Флп. 3:13; Гал. 6:15). Все это точное выражение той самой мысли, которая высказана в евангельских словах: «закон и пророки до Иоанна, — отныне Царствие Божие возвещается», и «озирающийся назад не благонадежен для Царствия Божия» (Лк. 9:60—62).
* Гал. 5:1. Это «иго рабства», как видно из предыдущей главы, есть закон Моисеев.
** В добавление к уже цитированному выше см.: Евр. 10:1; 7:19; 8:13; Флп. 3:7; 8:13; Рим. 4:15; Еф. 2:11—20.
Здесь становится возможным то историософское оправдание и относительное признание закона, которое мы встречаем у ап. Павла. Старая система ценностей сменяется новой, но она могла иметь ценность в свое время.
Закон дан «до времени», до пришествия некоторого нового (совсем нового!) высшего состояния, которое было обещано еще Аврааму, составляло предмет «обетования» (Гал. 3:16—18): «для чего же закон? Он дан после по причине преступлений, до времени пришествия семени, к которому относится обетование» (Гал. 3:19). Это обетование есть вера в Иисуса Христа (Гал. 3:22) и то новое состояние человечества и мира, которое с этою верою возникает: новая тварь; «а до пришествия веры мы заключены были под стражею закона, до того времени, как надлежало открыться вере» (Гал. 3:23).
«Заключение под стражею закона» «по причине преступлений» имело смысл в свое время, в другом историческом возрасте человечества: закон имел смысл как низшая форма борьбы с преступлением, но он потерял этот смысл. Закон есть «преходящее», а преходящее теряет смысл пред лицом вечного и пребывающего (ср. 2 Кор. 3:11). В свете этой мысли нам как бы дается первое и простейшее объяснение того относительного признания «закона», которое повсюду присутствует у ап. Павла, несмотря на полемику с законом. Старая система ценностей затмевается новой и потому отходит в прошлое: «то прославленное даже не оказывается славным с сей стороны, по причине преимущественной славы» (2 Кор. 3:10). Закон преходящ, и Христос есть конец закона.
То решение антиномии закона и благодати, которое было доселе установлено, вырастает пред нами с диалектической необходимостью. Через него прошел Лютер, и в этом его громадная заслуга. И мы чувствуем, что это решение нельзя обойти, но вместе с тем чувствуем, что на нем нельзя остановиться: диалектическая цепь идет дальше.
То, что ценно в этом первом решении, — это сознание трагической несовместимости двух систем ценностей, закона и благодати. И Лютер эту несовместимость сознавал. Но спасение только верою, при полном устранении «дел закона», есть решение слишком легкое и потому иллюзорное. Не так легко избавиться от «Закона», ибо вся наша жизнь состоит из дел и опутана законами. Сознание трагической несовместимости ветхого и нового Адама должно еще оставаться. Антиномия еще не решена, и ее решение нельзя себе представлять столь легким. Решение в одну сторону (в сторону антитезиса) есть рассудочное решение, недиалектическое, т. е. обрывающее цепь мысли, идущую далее.
ТРАГИЧЕСКИЙ КОНФЛИКТ ЗАКОНА И БЛАГОДАТИ
Несовместимость закона и благодати совсем не есть только теоретическая антиномия, философская, этическая и нравственно–богословская; нет, это жизненный трагизм, развертывающийся в истории и, быть может, повторяющийся в жизни каждого из нас. Столкновение несовместимых ценностей есть трагизм. Каждая великая система ценностей имеет своих поклонников и они вступают в борьбу друг с другом. Служители «закона» всегда гнали и будут гнать поклонников свободы и духа: пророков, мудрецов и святых. Рожденный в рабстве гнал и будет гнать свободнорожденного. Ап. Павел выражает этот вечный трагизм в своей ветхозаветной «аллегории»: «но, как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне». Эти два брата не могут жить рядом и вместе. Что же делать? «Изгони рабу и сына ее, ибо сын рабы не будет наследником вместе с сыном свободной» (Гал. 4:29—30) *. Конфликт ценностей превращается в трагическое столкновение их носителей. Оно предсказано Христом и высказано сильнее, чем в этом «иносказании» ап. Павла: горе вам, законники, налагающие бремена неудобоносимые, ибо к вам будут посланы пророки и мудрецы и апостолы и праведники, «и вы иных убьете и распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город»; «да взыщется от рода сего кровь всех пророков, пролитая от создания мира». Кто же «род сей»? Дважды повторяется, в конце и в начале обличения, что это законники, взявшие ключ разумения (Лк. 11:44—52; Мф. 23:29—37); закон через своих служителей, носителей и истолкователей гонит пророческий дух, свободу и благодать. И пределом этого гонения является распятие Христа: «мы имеем закон, и по закону нашему Он должен умереть, ибо сделал Себя Сыном Божиим» (Ин. 19: 7).
Вот где выявлена трагическая несовместимость закона и благодати, как основная трагедия жизни, трагедия креста, трагедия Голгофы. Закон признал свою несовместимость со Христом, осудил Христа и проклял Христа, «ибо написано: проклят всяк, висящий на древе» (Гал. 3:13; Втор. 21:23). Распятие есть, таким образом, проклятие закона, обращенное против Христа, позорная казнь, присужденная ему законом и по закону. Но зато Христос освободил нас, искупил нас «из проклятия закона», «подвергшись за нас его проклятию» (Гал. 3). Так всегда было и будет, в этом есть вечный трагизм: всякий, кто захочет освобождать от «проклятия закона», подвергнется сам проклятию закона.
Трагическое столкновение религии закона и сверхзаконной религии благодати повторилось в душе, в жизни, в судьбе ап. Павла. В этом его жизненная драма и вместе с тем основная тема его посланий. Смерть Сократа, по слову Вл. Соловьева, была «жизненной драмой Платона». Она выражает столкновение «законов» и свободной философии **. Платон преодолевал трагизм посредством изменения «законов», посредством облагороженного законничества: свободная философия должна стать суверенным законодателем. Внехристианский и дохристианский мир иного решения не знает .
* Значит, благодать должна изгнать законничество, иначе законничество изгонит благодать.
** «Антигона» выражала столкновение человеческого закона (декрета) и религиозной традиции.
Распятие Христа было «жизненной драмой» ап. Павла, тем более трагичной, что он сам продолжал Его распинать («Савл! что ты гонишь Меня?» 36). Столкновение Савла и Павла в единой душе человеческой есть одна из мощнейших трагедий. Она разрешается принципиальным преодолением «законничества» во всех его видах, сублимацией души, ее поднятием на новую, высшую ступень благодати, открытием новых святынь и ценностей.
ПРИНЦИП ЗАКОНА У ГРЕКОВ И РИМЛЯН
Но не только система ценностей еврейского народа объемлется формой «закона», а совершенно так же система ценностей римской и греческой культуры. Закон есть основная святыня всего античного мира, основной принцип всей дохристианской и внехристианской этики. Жизнь в законе, в праве и государстве есть совершенная жизнь. Это убеждение живет в народном сознании, выражается в поговорках, в изречениях популярной морали и педагогики, вроде следующих:
Кир, спрошенный, кого он назовет несправедливым, отвечал: не применяющего закон.
Солон, спрошенный, как наилучшим образом живут в государствах, ответил: если граждане повинуются властям, а власти законам.
Демосфен говорил, что законы — душа государства.
Демадий говорит: для рабов — необходимость есть закон; а для свободных — закон есть необходимость.
Тот же принцип закона лежит в основе всей философской античной этики.
Сократ был мучеником закона: лучше умереть, соблюдая закон, чем жить, нарушив закон, такова тема Платонова «Критона». Сократ в темнице видит, как приходят к нему «Законы» и говорят: мы вскормили тебя и вспоили, мы дали тебе жизнь, отечество и все ценности, которыми ты жил; неужели ты можешь помыслить о том, чтобы нас попрать? Вот обожание «закона», как живой святыни, апофеоз самой формы закона даже и тогда, когда она облекает собою несправедливость.
Этический идеал расцвета греко–римской культуры есть идеал государства, идеал законодательного совершенства, идеал справедливости, как гармонии всех струн (Платон), как светила, более прекрасного, нежели вечерняя и утренняя звезда (Аристотель). Но справедливость есть идеальная закономерность, «естественный закон». И если Платон назвал «Законами» свое последнее произведение, то, в сущности, и «Государство» свое он мог бы назвать «Законами», ибо для него государство есть воплощение закона, порядка, меры («симфонии» и «симметрии»). И для Аристотеля совершенное государство есть то, в котором властвует закон. А вне государства нет жизни для человека: «вне государства — или животные, или боги». Человеческое совершенство есть совершенство государства и совершенство законов *.
* Аристотель не подозревал, конечно, что христианство будет утверждать именно этот, им исключаемый, парадокс: «А я говорю вам: вы боги и сыны Всевышнего все». Поскольку мы «боги» и сыны Всевышнего — мы живем вне государства и вне закона. Царство благодати, сфера обожения — сверхприродна, сверхзаконна, метаполитична.
Евреи, несомненно, самый трагический народ и сходны в антиномичности своей души с русским народом — это душа Савла и Павла. Душа еврейского народа рождает из себя позитивную «религию» законников, взявших ключ разумения, т. е. религию официальной церковной иерархии и ею признанной теологии; и вместе с тем рождает ее противоположность: «религиозность» пророков, мистиков и духовидцев. Бубер отлично видит эту антиномию, но решает ее слишком просто; существует и другая антиномия еврейского народа, которую можно выразить так: евреи самый исторический и вместе с тем самый неисторический (консервативно–бытовой) народ. Их историчность не нуждается в доказательствах: их судьбы определяют начало истории и летосчисление, их взор всегда устремлен в мессианское будущее, к концу времен, они полны желания делать историю, самый беспокойный и революционный народ, и притом народ, который все время присутствует на сцене истории, когда многие другие великие народы давно уже сошли с нее. Но с другой стороны, их неисторичность, их бытовая неподвижность, выраженная в законе, — тоже очевидна. Это фундаментальная антиномия закона и веры, закона и благодати. Все мистические течения в еврействе — и Филон, и каббала, и хасидизм, и Бубер — представляют собою настойчивые искания «благодати», удивительно подтверждающие недостаточность религии закона.
ИДЕЯ ЕСТЕСТВЕННОГО ЗАКОНА
Если поздний античный мир на закате своем разочаровался во всех формах государства, то он все же никогда не потерял веру в принцип Закона. Только на место положительного Закона (национального «Полиса») как высшей ценности стал естественный закон, naturae, как высший принцип добродетели, как идеал мудреца, имеющий универсальное, сверхнациональное, всеобщеобязательное значение.
Стоическая философия делает закон универсальным космическим принципом: это порядок мира, порядок природы, божественный закон, который есть вместе с тем закон нашего разума и сообразование с которым есть добродетель. Естественный закон есть выражение божественного порядка (ordo) и Провидения, управляющего миром. Значимость положительных законов для стоиков определяется тем, насколько в них выражен естественный закон. На этой же точке зрения стояли философствующие римские юристы. Рим не имел своей философии, он питался отчасти Стоей, отчасти эпикурейством. Но он имел свое право и свой юридический гений, которым, в свою очередь, питались и еще питаются народы. Стоическое обожествление закона и справедливости было всего ближе сердцу римских юристов и вообще сердцу римского народа **.
** Таким образом, «законничество» вовсе не составляет особенности еврейского нравственного сознания. Римляне тоже законники. И все, что Христос говорит о «законниках», относится ко всей внехристианской и дохристианской этике. И понятие «союза» и «общественного договора» занимает в греко–римском сознании столь же важное место, как понятие «Завета» (Berit) в древнееврейском сознании. Власть императора конструировалась посредством общественного договора. Но в эллинском сознании, так же как и в еврейском, всегда существовало подпочвенное духовное течение, устремленное к сверхполитическому, сверхъюридическому общению с ближними и с Богом. Оно выражается в культе дружбы и в мистике платонизма и неоплатонизма. Однако это течение, как и у евреев, остается эсотерическим. Всякая этика и религия закона имеет некоторое предчувствие этики и религии благодати. В этом подтверждение полноты и истинности христианской системы ценностей.
Учение о естественном праве, о lex naturae, о «неписаном» законе или о законе, «написанном в сердцах», — расширило сферу действия принципа «закона», объем понятия закона до последних пределов и вознесло ценность такого «божественного» закона до предельной высоты. Естественный закон стоит над законом еврейским, римским и греческим и объемлет их, как свои более или менее совершенные выражения *. Возникает соблазн признать естественный закон имеющим значение «для всех времен и народов» и понять всякую этику и всякую добродетель как соблюдение естественного закона совести, закона, написанного в сердцах.
«Этика преображенного Эроса» Борис Вышеславцев
Декарт, как мы видели, вводит различение потенциальной и актуальной бесконечности, чтобы отстоять свою аксиому зависимости и отвергнуть человекобожество. Его аргументация такова: человек и человечество потенциально бесконечны; они отделены принципиально (hiatus) от актуальной бесконечности Бога, и вместе с тем фундированы в ней, зависят от нее. Фундированность категории потенциально–бесконечного в категории актуально–бесконечного подтверждена Лейбницем, Гегелем, Кантором, и не опровергнута еще никем. Соображения Декарта незыблемы.
Но в них есть один недостаток: указанная опасность отождествления Бога со всеединством. Опасность, однако, устраняется признанием иррациональности и трансцендентности Абсолютного. Бог не меньше,а больше актуальной бесконечности. Он ее трансцендирует. Он «скрывается за стеною актуально–бесконечного» (так можно перефразировать слова Ник. Кузанского: «intra murum coincidentiae oppositorum».
Поэтому, если человек фундирован в актуально–бесконечном, то он вместе с тем фундирован в Боге, ибо Бог держит мир и все кольцом актуальной бесконечности; иначе говоря, актуальная бесконечность фундирована в Боге.
Но далее, если Бог более чем актуальная бесконечность, то, может быть, и человек более чем потенциальная бесконечность? Разве он не поднимается над временем и не смотрит в вечность? Если бы это и было так, то все же аксиома зависимости осталась бы непоколебленной: актуально–бесконечное ego осталось бы фундированным в Абсолютном. Ибо актуально–бесконечное ego трансформирует само себя, открывая беспредельно–иррациональный простор Абсолютного.
Однако человек существо антиномичное: он «на пороге как бы двойного бытия» (Ф. Тютчев: «О, вещая душа моя!») , он всегда в конце концов конечен (на этом особенно настаивает Гейдеггер); порою кажется, что даже «бесконечная потенция» есть преувеличение сущности человека. Эрос — антиномичен. Поэтому все виды зависимости присутствуют в нашем существе, все виды фундированности: фундированность в потенциально–бесконечном, в актуально–бесконечном и в Абсолютном. Ибо в нас самих есть и конечность, и потенциальная бесконечность, и актуальная бесконечность, и, наконец, последний транс в Абсолютное — просвет в Абсолютное, или (для иных) «тьма» Абсолютного.
Последняя база аксиомы зависимости есть свобода транса, последнего транса в Абсолютное. Зависимость доказывает возможность транса и наоборот: они тождественны. И удивительным образом как раз свобода транса открывает тот свободный простор Абсолютного, в котором мы фундированы и от которого зависим, которым дышим. Напротив, если бы не было никакой зависимости от другого (das ganz Andere), то это означало бы нашу закованность в самом себе, нашу пойманность в заколдованном круге самосознания, иначе говоря, невозможность свободного транса, свободного выхода в последний простор Абсолютного.
Таким образом, последняя и высшая мистическая «зависимость» есть единственная в своем роде и ни с чем не сравнимая свободная зависимость. В некотором подобии она присутствует во всякой любви; в своей подлинной сущности она открывается Эросу в его последнем трансе.
* * *
Трансцендентальная сфера «идей», смыслов, сущностей, категорий есть всеединство, актуально–бесконечная система; даже преимущественный и чистейший образец последней, как это показывает Плотин, называющий эту систему «ума». Именно в силу этого последний трансцензус в сферу трансцендентного Абсолюта тоже есть актуально–бесконечный транс, ибо он оставляет за собою некоторое высшее, идеальное всеединство, которое очень легко смешать с Абсолютным, ибо оно есть последняя ступень «ума»
«Этика преображенного Эроса» Борис Вышеславцев
Я знаю, что все, что есть хорошего и бесценного (литература, любовь, искренняя идея), все это вырастает на основании страдания и одиночества.
Андрей Платонов
Преподаватели, подменявшие других преподавателей, обычно студентам не представлялись. Не представился нам и Чудотворцев, хотя отодвинул стул и сел за преподавательский стол как-то многозначительно, как мне, во всяком случае, показалось. Я подумал, может быть, он полагает, что его и так все знают. Конечно, я бы мог обратиться к нему по имени-отчеству: Платон Демьянович, но то ли повода не представилось, то ли я счел это неуместным, то ли просто не решился или решил не подводить его, если это действительно опальный Чудотворцев. С другой стороны, может быть, он приступил к занятиям слишком энергично, так что чуть ли не застиг врасплох нас, привыкших к мягким манерам нашей римской бабушки Нины Павловны. Чудотворцев предложил нам читать и переводить очередной текст из учебника, начинавшийся словами: «Roma condita est in Latio, in sinistra ripa fluvii Tiberis…» Когда первая же вызванная студентка перевела эту фразу: «Рим был основан в Лациуме на левом берегу реки Тибр», Чудотворцев покачал головой, то ли одобрительно, то ли скептически, то ли голова у него просто тряслась. Однако одним переводом Чудотворцев не удовлетворился. Он попросил студентку определить, какая форма какого глагола «condita» и улыбнулся уже явно иронически, когда она сказала: conditeo, conditi, condita. «Видите ли, милочка, – любезно отозвался Чудотворцев, – в латинском языке действительно имеется слово „conditio“, но означает оно „сдабривание“, то есть добавление приправ к тому или иному кушанью. От этого слова, если вам угодно, происходит слово „кондитер“, а латинское слово „conditor“, основатель или родоначальник, происходит от глагола „condo-condidi-conditum“. Отсюда и „condita“ (основана), так как „Roma“ по-латыни женского рода, скажем… ну скажем, как „Россия“». После этого работа над текстом шла своим чередом. Когда я прочитал и перевел свою фразу, Чудотворцев индифферентно кивнул головой. Но когда занятие уже близилось к концу, преподаватель вдруг встал, резко отодвинул стул, шагнул к доске, взял мел и крупными, несколько корявыми буквами написал на доске слово «Roma». «Будьте любезны, прочтите», – обратился он к нам. «Roma», – прочитали мы нестройным хором. «Что вы можете сказать об этом слове?» – спросил Чудотворцев. «„Roma“ значит „Рим“», – откликнулось несколько голосов. «А конкретнее», – продолжал спрашивать Чудотворцев. «Существительное женского рода», – откликнулась первая спрошенная студентка. «Прочтите это слово с конца», – предложил нам Чудотворцев. «Amor», – неуверенно протянул нестройный хор. «То-то и оно», – отозвался Чудотворцев, с непонятным удовлетворением потирая руки. «А кто мне переведет это слово?» – с вызывающей настоятельностью обратился к нам профессор. «Amor – бог любви», – ответил я почему-то неуверенно. «Или просто любовь, хотя это совсем не просто, никогда не просто, – подтвердил Чудотворцев с таинственной торжественностью. – Вот в этом, пожалуй, и заключается тайна римской истории, тайна, которую рекомендую вам запомнить. В некоторых семитских языках, а также… в древнебиблейском слова читаются справа налево, а не слева направо, как по-латыни. Название, вернее, имя Вечного города означает „любовь“. Это опять-таки просто и непросто. Древнее сказание, обновленное Вергилием, связывает судьбу Рима с Энеем, который был сыном троянца Анхиза и богини Афродиты, она же Венера, богиня любви. Через любовь nomen Roma возводится к Верховному Богу, а Бог, как известно, есть Любовь. (На этих словах Чудотворцев слегка осекся.) Обратите внимание: по-латыни „Roma“ женского рода, „Amor“ же мужского, а по-русски наоборот, „Рим“ мужского рода, а „любовь“ женского».
– Но позвольте! – вскинулся я, забыв поднять, как полагается, руку. – Но ведь по-русски «Рим» как раз мужского рода. Значит ли это, что с любовью соотносился лишь первый Рим Roma, а Третий Рим никакого отношения к любви не имеет? Не потому ли поэт сказал: «Смирится в трепете и страхе, кто мог завет любви забыть»? (Я вовремя спохватился и не процитировал дальнейшего: «И Третий Рим лежит во прахе, а уж четвертому не быть», так как Чудотворцев приметно вздрогнул.) Разумеется, рядовому советскому преподавателю неоткуда было знать эти строки Владимира Соловьева. Но Чудотворцев не удержался и ответил мне:
– А вы вслушайтесь в слово «смирится». Какой, по-вашему, главный компонент в этом слове?
– Мир, – ответил я.
– Верно. А вы знаете, как пишется… как писалось слово «Рим» по старой орфографии?
Мне сразу вспомнилось название повести Гоголя «Римъ» в моем дореволюционном однотомнике, и я неуверенно ответил:
– Мне кажется, знаю.
– Тогда выйдите, пожалуйста, к доске и потрудитесь написать, – предложил мне Чудотворцев.
Неумение писать мелом на доске причиняло мне нестерпимые мучения еще в школе, а в институте мне постоянно напоминали, что я не смогу работать учителем, если не выучусь писать на доске. Тем не менее я написал еще корявее, чем Чудотворцев, но по возможности крупно, чтобы он мог прочесть: «Римъ». Помнится, я даже твердого знака не забыл. Чудотворцев одобрительно улыбнулся:
– Вот и славно. А теперь прочтите справа налево то, что вы написали.
– «Мир», – прочел я.
– Совершенно верно. Вот и ответ на ваш вопрос. Если «Roma» втайне обозначает «любовь», «Рим» обозначает «мир», не мip как вселенную, а мир как состояние народов, отсутствие войны. Заметьте, что такое значение слова мы находим в латинском «Рах Romana», мировое пространство, мiръ, если хотите (он накорябал это слово с «i» на доске), мip, говорю я, где установлен мир властью любви, то есть Рима. Итак, Третий Рим смиряется, смиряет, усмиряет. Чтобы установился мир во всем Mipe, нужно, чтобы Третий Рим распространился на весь мир. Заметьте, что между «мiром» и «миром» в произношении нет никакой разницы. Не в этом ли неосознанный, но тем более глубокий смысл орфографической реформы: мир во всем мире – это Третий Рим, который стоит, а четвертому не быть…
В это время зазвенел звонок. Занятия кончились, и студенты повскакали со своих мест. Разговор профессора со мной должен был казаться им заумной тарабарщиной, как сама латынь. В коридоре я подошел к Чудотворцеву и, все еще не отваживаясь назвать его по имени и отчеству, ни к селу ни к городу брякнул:
– Извините, но я читал «Бессмертие в музыке».
Чудотворцев пристально вгляделся в меня сквозь очки:
– А позвольте узнать, как ваша фамилия?
– Фавстов, – ответил я.
– Душевно рад вас видеть. – Чудотворцев сердечно пожал мне руку, как будто мы были давно знакомы, но не виделись много лет. Он удалился поспешно, насколько ему позволяла шаркающая старческая походка. Не заподозрил ли он в моих вопросах опасную для себя провокацию? Или, напротив, счел разговор со мной и вообще мое появление знамением новых либеральных времен, чему боялся поверить? Общаясь впоследствии с ним, я так и не добился ответа на эти вопросы.
«Похоже, это он», – сказала моя тетя Маша, когда поздно вечером я подробно описал ей нашего эпизодического преподавателя латыни. «Ты-таки встретился с ним», – добавила она, резким движением поправив пенсне, судорожно поджав губы и потянувшись к папироске, как будто без нее она уже не смогла бы разомкнуть губ. Все это означало, что я вторгся в область семейных тайн, а они делились на две категории: некоторые из них я должен был знать, но ни с кем никогда ни под каким видом не говорить о них. Так, например, категорически запрещалось говорить о том, что у меня дедушка расстрелян во время красного террора. Большую же часть семейных тайн не полагалось знать мне самому, и давнишнее знакомство тети Маши, как вообще нашей семьи, с профессором Чудотворцевым было из числа этих тайн. Тайны второй категории, наиважнейшие, открывались мне постепенно, иногда случайно, кое о чем я, в конце концов, догадывался сам, что иногда поощрялось, но чаще всего долго, а то и никогда не получало подтверждения. Так лишь перед тем, как подать бумаги в институт, я узнал, что моя тетя Маша, тетя Мамаша, как я все еще иногда называл ее, – собственно говоря, не тетя мне, а двоюродная бабушка, тетка моей матери, а судьба моих родителей неизвестна. Отца я вообще не помнил, а мать едва, как сквозь сон, припоминал, и до сих пор не могу с уверенностью сказать, что мне вспомнилось, а что приснилось.
Когда в теснейшем кругу наших мочаловских знакомых распространялся какой-нибудь сомнительный слух или, не дай Бог, сплетня, кто-нибудь непременно восклицал: «Ах, Боже мой, что станет говорить княгиня Марья Алексевна», и моя тетушка (я и впредь буду называть ее так) поджимала губы вышеописанным образом, хотя в данном случае это могло означать улыбку, и говорила: «Не княгиня, а княжна!» Моя тетушка (двоюродная бабушка) Марья Алексеевна действительно происходила из княжеского рода Горицветовых, полузабытого, как это обычно случается в России с родами действительно старинными, что, может быть, и к лучшему: иначе они были бы поголовно истреблены, если не при Иване Грозном, то при Петре Великом, а если не при Петре Великом, то при большевиках. Впрочем, истинно старинные роды России не напоминают о себе не потому что пытаются выжить во что бы то ни стало, а потому, что у них считается дурным тоном напоминать о себе и, возможно, для этого имеются также другие, тем более веские, ибо тайные основания.
Владимир Микушевич. Воскресение в Третьем Риме
Нина Герасимовна насторожилась, увидев, что ее воспитанница пренебрегает не только Лажечниковым, но и Тургеневым. Она совсем было перестала читать беллетристику, когда узнала, что в романах «про неправду все написано», как говорил Смердяков. Наталья никак не могла понять, зачем ей читать всякие выдумки. Нина Герасимовна не сумела переубедить ее, объясняя, что такое реализм в литературе. Наталья оставалась при своем мнении. В книгах она ценила только глубину мысли и красоту слога, не находя ни того ни другого в сочинениях своих русских современников. Неожиданно она обрела, впрочем, русского автора по себе. Этим автором оказался Лермонтов.
Конечно, Наталья не могла не прочитать своего в строках «Я, Матерь Божия, ныне с молитвою пред Твоим образом, ярким сиянием». Она повторяла про себя вместе со скитским покаянием строки «Казачьей колыбельной»:
Дам тебе я на дорогу
Образок святой;
Ты его, моляся Богу,
Ставь перед собой.
Сохранился рассказ Чудотворцева о том, как мать читала ему эти строки; сохранился и образок, подаренный ею. Уже слепой, Чудотворцев действительно ставил его перед собой. Но особенно поразило Наталью «из пламя и света рожденное слово». Это слово стало символом ее веры. Только такого слова она и искала в книгах. Ее интересовало одно: исповедание веры. Только этого она ждала и требовала от любого автора, а когда она такого исповедания не находила, то навсегда закрывала книгу, не понимая, зачем ее читать. Но Лермонтов вел ее, вернее, влек дальше, и Наталья шла за ним в мир иной, как его предок Томас Лермонт шел в страну фей следом за белым оленем. Очень рано на этом странном пути Наталья повстречала Демона.
Однажды во время верховой прогулки восьмилетняя Наталья (она твердо сидела в седле с пяти лет) спросила свою крестную, неужели Демон тоже выдуман, как, например, Дед Мороз. Нина Герасимовна натянула поводья, задерживая иноходь своей лошади (Наталья вынуждена была последовать ее примеру) и махнула рукой в сторону ближайшего поворота (горная тропа изобиловала ими): «А он вон там стоит; он всегда там, где его называют; только не всегда он виден». Впоследствии Нина Герасимовна уверяла девочку что пошутила тогда, но та молча хмурилась в ответ. «А теперь вы разве не шутите, Нина Герасимовна?» – парировала она однажды. (Ниной Герасимовной она называла княгиню разве что на людях и во время размолвок, обычно называя ее наедине матушкой.) И Нина Герасимовна сама нахмуривалась, почувствовав, что ее крестница обиделась.
Прошло три или четыре года, и Наталья спросила свою крестную опять-таки на верховой прогулке:
– Как вы думаете, матушка, не напрасно ли Тамара отреклась от Демона? Он же говорил:
Хочу я с небом примириться,
Хочу любить, хочу молиться,
Хочу я веровать добру…
Разве он неправду говорил?
– А что он дальше говорит, ты не помнишь? – ответила княгиня, на этот раз отпуская поводья:
Оставь же прежние желанья
И жалкий свет его судьбе:
Пучину гордого познанья
Взамен открою я тебе.
Тебе пора уже знать, девочка, кто открывает нам «пучину гордого познанья».
– Вы хотите сказать «диавол», матушка, – немедленно откликнулась Наталья, не отставая от своей крестной, уже пустившей лошадь в галоп, как будто всадница старалась ускакать от очередного вопроса. – Но разве диавол пал не оттого, что его мало любили? Разве вы не помните, «когда в жилище света блистал он, чистый херувим… когда он верил и любил, счастливый первенец творенья»? Он-то любил, а его никто не любил, вот он и пал, и «сеял зло без наслажденья».
– Диавол – враг душ человеческих, – только и могла ответить княгиня на всем скаку. Но Наталья не отставала от нее.
– Пусть враг, но разве не заповедал нам Спаситель любить врагов своих? Как же я должна любить такого врага, если он к тому же так прекрасен?
– Откуда ты знаешь, как он прекрасен? – Княгиня резко остановила лошадь.
– А разве вы не показали мне его прошлый раз вон там? – И Наталья указала на тот же самый поворот, перед которым когда-то спросила свою крестную, неужели Демон выдуман. Так или иначе, они обе вновь оказались перед этим поворотом, и, потупившись, как виноватая, княгиня молча направила свою лошадь в сторону дома. И воспитаннице не оставалось ничего другого, кроме как последовать за ней.
В своей библиотеке Нина Герасимовна переворошила множество книг, пытаясь найти ответ на вопрос, не может ли дьявол спастись любовью. Подбор книг свидетельствовал о том, что подобным вопросом задавалась она сама и кто знает, может быть, с юных лет ни о чем другом не думала. От отцов Церкви Нина Герасимовна в который раз перешла к сочинениям гностиков. Еретических сочинений было в ее библиотеке больше, чем приличествовало бы ревнительнице древлего благочестия. У поздних гностиков, особенно в их двусмысленных поэтических гимнах Нина Герасимовна находила упоминание или заклинание Девы, которая способна спасти Люцифера-Денницу, вернув его в плерому, в полноту божества. Правда, эта Дева – не просто дева, а падшая София Премудрость, и, спасая Денницу, она спасается сама. Читая загадочно-пламенные строки поэта-гностика в сглаженном, элегантном французском переводе и вопреки переводу улавливая в них некий тайный смысл, Нина Герасимовна поймала себя на том, что краснеет, нечто припомнив. Она отложила книгу, взялась за другую, но то, что она прочла в ней, было не менее соблазнительно. Автор повествовал о том, как Христос пролил слезу, услышав о смерти Лазаря (что подтверждается Евангелием от Иоанна). Из этой слезы был сотворен ангел по имени Элоа, чувствующий себя девой. Дева Элоа влюбляется в Люцифера и надеется вернуть падшего ангела Богу своею любовью. Далее источники расходятся. Поэт-романтик воспел дерзновенно-счастливую чувственную любовь Элоа к Сатане, но восточное предание говорит иное. Сатана не мог добиться от Элоа того, чего он желал, и русский поэт вложит в его уста презрительные слова: «Бесполых жриц любви не нужно Сатане». Правда, Константин Константинович Случевский напишет свою поэму уже после разговора крестной дочери с крестной матерью, но В.Я. Брюсов скажет по поводу «Элоа»: «Да! Это не Лермонтов», противопоставляя поэму Случевского слишком целомудренному «Демону», а Чудотворцев уделит «Элоа» пристальнейшее внимание в своем «Оправдании зла».
Дня через три в сумерках Нина Герасимовна торжественно пригласила свою крестницу в библиотеку где горела неугасимая лампада перед Стасовым ликом и где обе они, каждая про себя, читали скитское покаяние. Нина Герасимовна изложила Наталье свои аргументы против любви к дьяволу. Дьявол – дух ненависти и лжи, потому он желает вызывать ненависть даже к самому себе. Дьявольская ненависть не допускает любви, будь то даже любовь к самому дьяволу; из ненависти враг человеческих душ допускает лишь солидарность в ненависти. (Нина Герасимовна так и выразилась по-французски «la solidarité, dans l’haine».) Душу Сатане продают, руководствуясь этой преступной солидарностью, а отнюдь не любовью к нему, ибо для Сатаны любовь – наихудшее оскорбление и мука. Иными словами, любить Сатану есть нечто худшее для него, чем ненавидеть его (le pire pour lui que l’aimer). Нина Герасимовна сделала многозначительную паузу. «Не лучше ли в таком случае любить Сатану, если любовь для него – наихудшее?» – вежливо вставила Наталья. Нина Герасимовна осведомилась, что же это за любовь, намеренно причиняющая страданья любимому. Наталья, глядя княгине прямо в глаза, попросила позволения узнать, почему княгиня так ревностно или ревниво (по-французски это одно и то же слово «jaloux») оберегает Сатану от страданий, которые может ему, не дай Бог, причинить любовь. При этом вопросе Нина Герасимовна явно смутилась и переменила тему. Расставшись со своей крестницей, она тщательно записала этот разговор. Пожелтевшие листки сохранились у ее внука, моего крестного князя Кеши, и тот показал мне их, узнав, что я занимаюсь Чудотворцевым.
Впрочем, юная крестница княгини сама писала кое-что. Княгиня давно уже была озабочена ее дальнейшим образованием. Атала получила воспитание сугубо аристократическое, но ее нельзя было отдать, скажем, в институт благородных девиц, поскольку невозможно было документально подтвердить ее дворянское происхождение, а отдать свою крестницу в пансион попроще категорически отказывалась Нина Герасимовна. Василий Евдокимович хотел думать, что княгиня противится этому, опасаясь, как бы Наталью не отвратили там от святоотеческой веры и казачьего образа жизни, но, скорее всего, Нина Герасимовна просто не хотела расстаться со своим alter ego, не могла отказать себе в том, чтобы изо дня в день глядеться в свое ходячее, скачущее на коне зеркало, где к тому же она видела себя молодой или даже юной, так что привязанность княгини к Наталье не лишена была своеобразного женского эгоизма, окрашенного при этом изрядной долей ревности Бог знает к кому. Так что Наталье приходилось довольствоваться в княжеском доме домашним образованием. Уроки российской истории и словесности давал ей приходящий учитель из бывших семинаристов (не тот ли, который назвал трех дочерей Василия Темлякова харитами?). Однажды Наталья представила своему учителю сочинение по «Демону» Лермонтова. Сочинение, написанное порывистым девичьим почерком, растянулось десятка на два страниц. Учитель тщательно прочитал его, выправил орфографические ошибки (Наталья была не в ладах с буквой «ять»), подчеркнул галлицизмы (чувствовалось, что некоторые свои мысли барышня переводит с французского), покачал головой и предложил сочинение Натальи вниманию княгини. Та в свою очередь прочла его и не знала, что сказать своей крестнице. Наталья, несомненно, отдала должное причудливой библиотеке своей крестной матери. В сущности, она написала небольшой трактат о демонах и демоническом в мировой культуре. Наталья начинала с того, что великим демоном Сократ называл не кого-нибудь, а самого Эрота. (Наталья замечала при этом вскользь, что ранние христианские авторы называли Божественным Эросом Христа.) Свой особый демон был и у самого Сократа, и ссылки на этого демона до известной степени обусловили смертный приговор, вынесенный Сократу. Его, как известно, и обвиняли в том, что он вводит новых богов, а кто же такой свой личный демон, если не один из этих новых богов? Далее Наталья подробно останавливалась на высказываниях Гёте о демонах и демоническом, которому особенно подвержены, по его мнению, музыканты, в частности Моцарт. Гёте явно связывал творческую стихию в человеке с демоническими влияниями. В этом Гёте не далек от мусульманской традиции, связывающей поэтическое вдохновение с воздействием джиннов, а кто такие джинны, если не демоны? По преданию, Мухаммед, встретив поэта Зухайра, воскликнул: «Да сохранит меня Аллах от сидящего в нем джинна!» В то же время демоны могут сближаться и с ангелами. Так, в «Антонии и Клеопатре» Шекспира прорицатель сперва говорит о демоне, потом об ангеле Марка Антония чуть ли не в одном и том же стихе, очевидно имея в виду одну и ту же силу. (Наталья не отказала себе в удовольствии сослаться на шекспировский оригинал: Act II, scene III.) Согласитесь (обращалась Наталья к своему учителю, а может быть, не только к нему), – такое сближение демона с ангелом почти в духе Лермонтова, ибо кто такой лермонтовский Демон, если не ангел: «…блистал он, чистый херувим». Допустим, Люцифер – тоже падший ангел, но не примечательно ли, что Демон Лермонтова пока еще не в аду:
То не был ада дух ужасный,
Порочный мученик – о нет!
Он был похож на вечер ясный:
Ни день, ни ночь, – ни мрак, ни свет.
Итак, Демон – вовсе не князь тьмы, он похож на вечер ясный и не принадлежит ни мраку, ни свету (Интересно, подозревала ли Наталья, что она в этом затрагивает манихейскую проблематику своего двоюродного брата Питирима, заранее полемизируя с ним?) Любопытно, что в ад Демон может попасть лишь вместе с Тамарой, вернее, туда попадет Тамара за свою любовь к Демону, а Демон готов ей сопутствовать как верный возлюбленный. «А наказанье, муки ада?» – робко спрашивает Тамара. «Так что ж? Ты будешь там со мной», – решительно обещает Демон, но происходит как раз обратное: Тамара уступает любви Демона и попадает в рай: «Она страдала и любила – и рай открылся для любви!» («Любви к кому?» – иронически вставляла Атала, напоминая таким вопросом Марину Цветаеву. Кстати, «Марина» – точная анаграмма имени «Ариман», вестернизированная форма персидского имени Ангро-Манью, он же и есть князь тьмы. Как не покончить самоубийством, когда прочтешь свое имя таким образом?) Итак, Тамара, возлюбленная Демона, в раю, а Демон «один, как прежде, во вселенной без упованья, без любви». Итак, Тамара в раю ценой любви… и ценой измены, а Демон был готов последовать за ней даже в ад. Атала заканчивала свое сочинение гностической легендой. (Впоследствии к ней обратится Мережковский, когда будет писать о Лермонтове.) Прежде всех времен, когда Денница восстал против Бога, одни ангелы остались верны Богу, другие предались Деннице. Одни в раю, другие в аду. Но были и такие, кто не присоединился ни к Богу, ни к дьяволу Эти ангелы заселили мир. Они люди или демоны, что одно и то же. Им предоставлена возможность сделать выбор между тьмой и светом. Вот почему Демон «ни день, ни ночь, – ни мрак, ни свет». Тамара могла спастись только вместе с ним, и неизвестно еще, не обернется ли для нее рай адом.
Нина Герасимовна могла бы счесть это сочинение романтическим бредом экзальтированной девицы, но она прочитала, задумалась и, кажется, что-то вспомнила. С тех пор на верховых прогулках крестной и крестницы начало твориться что-то странное. Время от времени княгиня позволяла себе даже, по выражению того же Лермонтова, оскорбить свою лошадь ударом хлыста, чтобы первой доскакать до заветного поворота, где она когда-то обещала своей крестнице явление Демона. Можно было подумать, что крестная мать стремится оградить свою крестницу от соблазнительной встречи, но не норовила ли она встретиться с Демоном сама, первая, как ей уже случалось? Вероятно, Атала так и думала. Она тоже прибегала к хлысту, чтобы не отстать от княгини, и нередко вырывалась вперед, рискуя сорваться в пропасть. За поворотом обе они вдруг резко останавливались, и каждая ревниво вглядывалась в разгоряченное лицо другой, как бы ища на устах и ланитах соперницы следов чего-то. Любопытно, что эти дикие скачки изнуряли скорее младшую, чем старшую. Горничная стала докладывать барыне, что барышня не спят по ночам, все свечку жгут, а заснув, страшно взвизгивают или болезненно стонут. Нина Герасимовна пыталась расспрашивать свою крестницу, здорова ли она, но Наталья или ничего не отвечала, или односложно отнекивалась. Она только вспыхивала, когда заходила речь о том, чтобы показаться врачу, и категорически заявляла, что совершенно здорова. Тем не менее княгиня решила все-таки пригласить врача к обеду, предупредив его, в чем дело. За обедом опытный доктор долго присматривался к Наталье, а оставшись наедине с княгиней, осведомился, сколько барышне лет. «Семнадцать», – ответила княгиня. «Что ж вы хотите, – улыбнулся доктор, – замуж пора, хоть это и не принято так рано в вашем кругу. Горская кровь играет. Сами понимаете…» И княгиня вспыхнула не хуже своей крестницы, приняв последние слова проницательного доктора на свой счет.
Между тем здоровье Натальи ухудшалось на глазах. Она буквально таяла, как свечка. Горничная докладывала барыне, что барышня не только не спит по ночам, не просто стонет во сне, а часами рыдает, да так, что в соседней комнате уснуть невозможно. И княгиня снова попыталась вызвать Наталью на откровенный разговор. «Зачем ты скрываешь от меня, доченька, что тебе неможется?» – спросила княгиня, положив руку на пылающий лоб крестницы. Та только пожаловалась на душный вечер. «А по ночам тебе каково?» – настаивала княгиня. Наталья потупилась. «Почему бы просто не сказать: меня терзает дух лукавый?» – вполголоса знахарской скороговоркой произнесла крестная. И Наталья закрыла лицо руками.
На другой день Нина Герасимовна стала собираться в дорогу. Она давно намеревалась посетить некоторые монастыри, в их числе старообрядческие скиты, и предложила своей крестнице ехать с ней. Наталья тотчас же согласилась. Известно, что их путешествие продолжалось несколько месяцев. Не сохранилось никаких сведений о том, где они побывали за это время. Наконец они приехали в один из последних скитов, сохранившихся близ озера Светлый Яр прямо-таки на пороге невидимого града Китежа. В этом скиту Нина Герасимовна со своей крестницей задержались недолго, а когда княгиня все-таки засобиралась домой, Наталья выразила желание остаться в скиту.
Нина Герасимовна не знала, что и подумать. Сначала она предположила, что это очередная попытка подражать лермонтовской Тамаре: «Пусть примет сумрачная келья, как гроб, заранее меня». Но нельзя было не заметить, что здоровье ее крестницы заметно поправилось в скиту, и непривычный суровый климат не только не повредил ей, но, напротив, кажется, вылечил ее. Прекратились ночные взвизги, всхлипывания и рыданья. Наталья отходила ко сну и вставала на ранние богослужения вместе с другими сестрами. Она даже работала то на скотном дворе, то на кухне, куда игуменья пошлет, словом, так вжилась в скитский устав, что Нина Герасимовна предположила, не собирается ли она в монахини, но игуменья мать Агриппина разуверила ее. Дескать, пусть поживет, сживется со святыней, вреда от этого не будет. «И из нашего скита замуж выходят, еще как выходят, – убеждала княгиню игуменья. – Званья она у вас не дворянского, хоть воспитана по-благородному, а к нам женихи приезжают весьма богатые и образованные, поскольку мы в моду входим, не говоря уже о спасении души. Теперь и купцы не прежние. Всего попробовали, а нынче в народ пошли. Им теперь старину подавай. Кто книгами нашими интересуется, кто иконами, а кто красавицами. Глядишь, и до такой красоты охотник выищется. Поезжай, княгинюшка, спокойно домой, а Наталья пусть у нас поживет, худому не научим». И княгиня отбыла по первому санному пути к себе в Екатеринодар, а Наталья осталась в скиту.
Более всего Нина Герасимовна опасалась, как посмотрит Василий Евдокимович на монастырские наклонности дочери. Тот действительно нахмурился, но промолчал. У казаков-старообрядцев не было обычая посылать дочерей на воспитание в скиты, но Василий Евдокимович уже примирился с тем, что Наталья – отрезанный ломоть. Авось крестная ей зла не пожелает. В глубине души Василий Евдокимович не имел ничего против того, чтобы одна из его дочерей пошла в монастырь, конечно, лучше бы после замужества, если овдовеет, не дай Бог. Обе старшие хариты были уже просватаны, а у Натальи все не как у людей. Одна мысль поразила Василия Евдокимовича: ведь эдак он больше никогда не увидит Наталью. Что, если она больше не приедет на Кубань, не ехать же ему куда-то за Волгу, хозяйство не отпустит. И он действительно больше никогда не увидел Наталью. Прошла зима, и княгиня получила письмо от игуменьи Агриппины. Как только растаял снег, Наталья пропала, ушла из монастыря, никому не сказавшись.
Нина Герасимовна не отважилась известить об этом Василия Евдокимовича. Она наскоро собралась и уехала будто бы за Натальей. В скит она попала лишь через месяц: в тот год особенно бурно разлились реки, и потаенные старообрядческие пути сделались непроезжими. Когда Нина Герасимовна ворвалась наконец в келью игуменьи, та не отвечала, пока княгиня не сотворила положенные метания и не приняла благословения. Потом игуменья спокойно сказала, что узелок развязывается и о беглянке имеются сведения. С этими словами она протянула Нине Герасимовне письмецо, написанное, как водится у старообрядцев, тайнописью или тарабарской грамотой. Княгиня не умела читать ее, и, снисходительно улыбнувшись, мать Агриппина сама бегло прочла ей письмо. Писал игуменье некий Зотик и сообщал, что Наталья в Петербурге и за ней присматривают, как было велено. «Остальное до вас не касаемо», – тихо улыбнулась игуменья, убирая письмо в свой кипарисовый ларец. Как только Наталья сбежала, были задействованы все налаженные старообрядческие узы, узлы и узелки связи, чему не мешала никакая распутица: даже через болота, непролазные по весне, по особым гатям и тропам доходил срочный скитский «стафет». Через несколько дней выяснилось, что Наталья благополучно добралась до Москвы, где взяла билет на Петербург. Зотик писал уже из Петербурга. Он сообщал адрес меблированных комнат, где остановилась беглянка. По его сведениям, Наталья была вполне здорова, искала себе работы и нашла ее: давала уроки французского языка в купеческих семьях, по-видимому, не без участия Зотика, о чем Наталья не должна была знать. Княгиня возмутилась, как же девушку не уберегли, не удержали ее, не вернули, коли известно, где она находится. Игуменья только головой покачала: «Не маленькая, чай, девица взрослая, образованная, умница-разумница, знает, что делает. Перемелется, мука будет». Игуменья говорила все с той же тихой улыбкой, и трудно было понять, что слышится в ее речах: утонченная иноческая ирония над мирскими страстями или своего рода сочувствие, то ли вообще к любому бегуну, то ли именно к данной своенравной девице. (Не была ли сама игуменья из таких? Кто знает, не предвидела ли она, что через три десятка лет Наталья вернется в скит, и сама станет игуменьей, а при большевиках уйдет со своими подначальными сестрами в дремучую сибирскую тайгу, где пропадет без вести?) Когда княгиня ревниво спросила, не сбежала ли Наталья с кем-нибудь или к кому-нибудь, игуменья вновь головой покачала. Зотик извещал, что Наталья живет одна, блюдет себя строжайшим образом, ни в каких любовных шашнях не замечена. Тем более насторожилась княгиня. Она заподозрила в загадочном поведении Натальи не просто участие, но соучастие старообрядцев, некие тайные их происки, о которых всегда ходило столько слухов. Не предназначалась ли Наталья, свободно говорящая по-французски, для некоего старообрядческого посольства или подрывных козней? Княгиня не осмелилась высказать вслух этих подозрений, но игуменья прочла их как в открытой книге. «Самой бы тебе в Питер съездить, – предложила она княгине вдруг. – Сама во всем и убедишься. Адресок я дам тебе».
И дней через десять княгиня была уже в Петербурге, где остановилась в недорогой гостинице. Она полагала, что игуменья дает ей адресок меблированных комнат, где живет Наталья, а попала она в скорняжную мастерскую Зотика. Зотик оказался фигурой неоднозначной: приземистый коренастый мужичок с окладистой бородой, но, приглядевшись, можно было убедиться, что борода у него ухоженная, да и сам мужичок себе на уме, политичный, а главное, знает, как обходиться не просто с барынями, но и со светскими дамами. Он вызвался сам проводить княгиню, но только издали показал дом, где квартирует Наталья. Наталья не должна была знать о том, что она под присмотром. «Вы не сомневайтесь, они дома-с», – заверил княгиню предупредительный провожатый, прощаясь с нею. На лестнице изрядно пованивало. Княгиня поднялась на третий этаж и неуверенно постучалась в дверь. «Кто там? Войдите», – отозвался девичий голос.
Наталья, кажется, ничуть не удивилась, когда порог ее комнаты переступила Нина Герасимовна. Княгиня втайне от самой себя готовилась к экзальтированной сцене встречи, но такой сцены не последовало. Княгиню поразила подчеркнутая сдержанная угловатость ее воспитанницы, раньше ей совсем не свойственная. Наталья категорически отрицала самый факт своего бегства. «Просто уехала, и все», – с наигранной твердостью сказала она, хотя в ее голосе что-то при этом дрогнуло. Наталья заверила Нину Герасимовну, что непременно сама написала бы ей и отцу не сегодня, так завтра, просто хотела большей определенности в своем положении. «А то первое время писать еще было не о чем», – спокойно присовокупила она. Впрочем, у княгини было немало оснований принять сдержанность Натальи за настороженность. Наталья так и не спросила княгиню, откуда та узнала ее петербургский адрес. (Любопытно, что буквально через несколько дней она этот адрес переменила.)
Княгиня не могла не спросить свою воспитанницу, чем вызван ее отъезд, и Наталья просто ответила, что приехала в Петербург учиться. «Так и передайте тятеньке», – добавила она, и в речи ее прорвался характерный говорок казачьей девки. На дальнейшие вопросы Наталья ответила, что ей надоело быть дармоедкой-захребетницей, которая с жиру бесится, и что она бесповоротно избрала для себя путь разумного труда. «Где же ты собираешься учиться?» – беспомощно спросила княгиня. Наталья с такой же простотой ответила, что хочет выучиться на акушерку. Княгиня была ошеломлена и шокирована натуралистической прямотой подобного ответа. «А изящная словесность? А философия? А музыка?» – пролепетала она. Наталья отрезала, что все это предназначено для развлечения сытых и богатых паразитов. Княгиня взглянула на книги, аккуратно расставленные в Натальиной комнате, и еще больше удивилась. Это были исключительно книги по естественным наукам и по медицине, все книги на французском и на немецком языках, только на столе перед Натальей лежала статья Писарева под названием «Мыслящий пролетариат». Нина Герасимовна никогда не читала Писарева, но кое-что о нем слышала и не удержалась от вопроса, неужели Наталья, следуя заветам Писарева, навсегда откажется от чтения Пушкина. В ответ Наталья разразилась негодующей филиппикой против эластических слов, которые сами по себе не имеют никакого определенного смысла. Нина Герасимовна догадалась, что Наталья цитирует Писарева, но все равно вздрогнула, когда ее воспитанница назвала Пушкина «возвышенным кретином». А Наталья с отвращением повторяла:
Душе противны вы, как гробы.
Для вашей глупости и злобы
Имели вы до сей поры
Бичи, темницы, топоры;
– Довольно с вас, рабов безумных! —
и рекомендовала выгравировать это невероятное пятистишие золотыми буквами на подножии того монумента, который благодарная Россия, без сомнения, воздвигнет из своих трудовых копеек своему величайшему поэту. Но были у Натальи и свои наболевшие аргументы против Пушкина. Она развенчивала Пушкина за то, что он злостно исказил, опошлил стих Ефрема Сирина «Господи, владыка живота моего». У Пушкина «владыка дней моих», как будто речь идет о барине, владеющем днями своего крепостного человека, каковым и был Пушкин со своей дворянской спесью (разве слова «дворянин», «дворовый» и «придворный» происходят не от одного корня в русском языке?). А какова снисходительная, сибаритствующая спесь в стихах:
Но ни одна из них меня не умиляет,
Как та, которую священник повторяет
Во дни печальные Великого поста;
Все чаще мне она приходит на уста.
Поистине это гастрономическое благоговение, как будто вместо множества божественных молитв клубный гастроном изволит дегустировать разные яства, постные и скоромные. (Нина Герасимовна вспомнила, что ее крестница и прежде недолюбливала Пушкина. Словесник-семинарист, помнится, показывал ей Натальино сочинение, где едва ли не в тех же выражениях сопоставлялось стихотворение Пушкина «Отцы-пустынники и жены непорочны» с церковным стихом Ефрема Сирина.) Наталья отвергла Пушкина во имя исконного древлеправославного благолепия, на котором была воспитана. (Недаром еще Ломоносов писал о пользе книг церковных.) Старообрядческая кровь вопияла против обмирщения церковного слова, в чем другие могли видеть пушкинский ренессанс или возрожденчество. В Натальиных выпадах против Пушкина шестидесятническая писаревщина причудливо сочеталась с интонациями и духом старообрядческой начетчицы, которой Наталья почти уже стала в скиту Наталья гордо называла себя нигилисткой, но в таком случае первыми, исконными нигилистами на Руси были старообрядцы, и если бы Аввакум прочитал Пушкина, он написал бы что-нибудь подобное тому, что написал Писарев. В Аввакуме угадывается Писарев, но и в Писареве говорил Аввакум.
Нине Герасимовне было больно осознавать: Наталья взбунтовалась против Пушкина, чтобы порвать с пушкинской изысканной культурой, а вернее, с ней, с княгиней. Строптивая Темрюковна, злая раскольница, не пожелала быть ее двойником, ходячим зеркалом, решила жить по-своему, как самой княгине не удавалось. И опять в душе Нины Герасимовны шевельнулась ревность. «А как же он, как же Демон?» – прошептала она. Наталья неприступно молчала, будто не слышала. «Ав Бога-то… в Бога ты еще веруешь?» – пролепетала Нина Герасимовна. Наталья все еще молчала. Нина Герасимовна подняла глаза и в углу над книжной полкой увидела старинную икону Божьей Матери. Этой иконой она в свое время благословила свою крестную дочь, наказав никогда с ней не расставаться. «Дам тебе я на дорогу образок святой», – прошептала княгиня. Наталья молча поцеловала ей руку. «В деньгах-то ты не нуждаешься?» – спросила княгиня, направляясь к дверям. «Не беспокойтесь, матушка. Я не нуждаюсь. Я заработаю», – твердо ответила Наталья.
Вряд ли можно предположить, что уже в это время Наталья давала уроки Демьяну Чудотворцеву. По всей вероятности, их знакомство состоялось несколько позже, во всяком случае уже после отъезда Нины Герасимовны. Нигилизм обязывал Наталью отрицать искусство, в чем его предписания опять-таки совпадали со старообрядческими, так что Наталья со спокойной совестью могла предпочитать анатомический театр театру драматическому или тем более оперному. Но занятия на курсах не позволяли Наталье жить в строгом затворе. Она не могла не общаться со своими нынешними единомышленниками или единоверцами, а те вовлекали ее в свои кружки. Правда, ни друзей, ни подруг у Натальи так и не появилось, и на собраниях кружков она по большей части сидела молча, хотя предполагалось, что она вот-вот выступит с докладом о стихийном социализме казачьего быта. Тем охотнее Наталья выполняла другие поручения: разносила литературу, переводила заметки из французских газет (эти анонимные переводы распространялись среди петербургских мастеровых; так, между прочим, среди них курсировала информация, вернее, легенда о Парижской коммуне). Но особенно охотно Наталья посещала больных. В таких посещениях обнаруживались сильные стороны ее натуры. Давало себя знать и казачье воспитание, полученное в раннем детстве. Никакое дело не валилось у нее из рук. Всегда собранная, немногословная, она действительно умела помочь и утешить. Очевидно было, что в этом ее призвание, и ничем другим она не собиралась заниматься всю жизнь. (Не это ли оценила мать Агриппина в скиту, поверив в Наталью раз навсегда?) Но однажды к Наталье обратились с необычным поручением. Руководство акушерских курсов попросило ее вручить букет певцу Демьяну Чудотворцеву, дававшему в Павловске благотворительный концерт в пользу нуждающихся курсисток.
Как известно, сама Наталья себя к нуждающимся не причисляла, не просила и не приняла бы помощи ни от кого. В крайнем случае она устроилась бы сиделкой в какую-нибудь больницу, но пока она успешно кормилась уроками французского языка, спрос на которые возрастал. Но не будучи нуждающейся сама, Наталья хорошо знала, как нуждаются ее подруги из бедных мещанских или даже из крестьянских семей. Наталья была уверена: они-то и станут акушерками, они-то и будут работать там, где вместо акушерок безграмотные, правда, иногда очень опытные повивальные бабки. Поэтому Наталья сразу, хотя и не без смущения согласилась и, только уже выйдя на улицу, вспомнила, что ей не в чем пойти на концерт, где, вероятно, соберется светское общество. Лиловое платье стоило Наталье всех ее сбережений, а уже надевая его, Наталья подумала, что платье светской дамы тоже не совсем вяжется с целями благотворительного концерта. Но было уже поздно. Наталья и так вошла в зал, когда Чудотворцев уже пел «На воздушном океане». Опера Антона Рубинштейна «Демон» тогда могла еще считаться новой. В доме княгини Наталья училась музыке, и при редких наездах в Москву и в Петербург, куда княгиня брала ее, бывала в опере. При всем своем нигилизме Наталья не могла не интересоваться оперой Рубинштейна хотя бы потому, что это был «Демон». И вот сейчас она услышала голос Демона, узнала этот голос, как ей показалось. Тем более придирчиво попыталась Наталья отнестись к вокальной стороне исполнения. У Чудотворцева был бас, но бас, которому доступны очень высокие, едва ли не теноровые ноты. Другой певец не удержался бы от соблазна щегольнуть широтой своего диапазона, но Чудотворцев как бы весь исчезал в стихии музыки, переставал существовать как отдельное актерское «я». Удивительной особенностью его пения была непостижимая способность петь верхние и нижние ноты одновременно, так что один критик-эрудит охарактеризовал пение Чудотворцева вторым пунктом Изумрудной Скрижали: «Quod est inferius, est sicut (id) quod est superius, et quod est superius, est sicut (id) quod est inferius, ad perpetranda miracula rei unius» («То, что внизу, таково же (что) и наверху, а то, что наверху, таково же (что) и внизу, осуществляя чудо единого»). Таким образом, фамилия Чудотворцев обретала неожиданное, таинственное подтверждение в раскрытии своего смысла. Голос Чудотворцева доносился как бы издали, даже если он стоял прямо перед вами. При этом он не пел отдельные ноты, он пел сразу все произведение, чем манера его исполнения разительно отличалась от итальянского бельканто. Словом, Наталья действительно услышала Демона и вгляделась в него лишь тогда, когда он кончил петь.
Внешность у Демьяна Чудотворцева была тоже вполне демоническая. Как и его сын Платон, он был очень высокого роста и тоже слегка сутулился, так что ему пришлось исправлять осанку, когда он поступил на сцену Чудотворцев был худощав, с чрезвычайно длинными руками, которые могли уподобляться крыльям, когда он взмахивал ими. Бросался в глаза контраст между концертным фраком и буйной гривой пепельно-белокурых волос, напоминающих духовное лицо и одновременно опровергающих подобное сходство, поскольку трудно себе представить демона в рясе. Предположение невероятное, но мне хочется думать, что инокиня Евстолия (в миру Наталья) в своем скиту могла прочитать стихотворение Блока:
Есть демон утра.
Дымно-светел он,
Золотокудрый и счастливый.
Как небо, синь струящийся хитон,
Весь – перламутра переливы.
Но как ночною тьмой сквозит лазурь,
Так этот лик сквозит порой ужасным,
И золото кудрей – червонно-красным,
И голос – рокотом забытых бурь.
Наталье пришлось сделать усилие над собой, чтобы подойти к Демону и отдать ему букет. При этом ей запомнился не столько взгляд его глаз, мглисто-голубых, сколько прикосновение его пальцев, горячих и цепких, когда он взял у нее букет поздних осенних роз, гармонирующих с ее лиловым платьем.
А через несколько дней Наталья получила по городской почте письмо от Чудотворцева. В письме Демьян Чудотворцев почтительно обращался к высокочтимой Наталье Васильевне с просьбой о возможности брать у нее уроки французского языка по цене, которую она соблаговолит назначить, а также сообщил свой адрес и время, когда его можно застать. Наталья хотела было сразу написать письмо с отказом, но вместо этого на другой же день пошла по указанному адресу. Наталья ожидала увидеть роскошные апартаменты, в которых обитает знаменитый певец, а оказалась она в меблированных комнатах, таких, как те, в которых жила она сама. Чудотворцев был дома. Он учтиво предложил Наталье сесть, исчез за ширмой и вышел оттуда в том же самом концертном фраке; очевидно, другого у него не было. Наталье понравилось, что Чудотворцев без обиняков перешел к делу. За границей он убедился, что его французский язык оставляет желать лучшего. Поэтому он и просит Наталью Васильевну проэкзаменовать его по всем статьям. Наталья предложила ему для начала почитать что-нибудь вслух, и Чудотворцев принялся читать книгу, лежавшую перед ним, прямо с того места, где она была раскрыта, и Наталья, полагавшая, что знает французский язык в совершенстве, почувствовала, что ей трудно следить за чтением. Ее знакомство с французской литературой заканчивалось де Местром и Шатобрианом, а Чудотворцев читал «Paradis Artificiels» Бодлера.
Наталья сразу поймала себя на том, что она не знает слова «Hachisch». (Слово «chanvre» – «конопля» – она, разумеется, знала, да и об опиуме имела представление как медичка.) Лишь постепенно, собравшись с мыслями, она сообразила, о чем идет в книге речь, хотя повествование и проблематика оставались для нее причудливыми. Наталья даже позволила себе прервать чтение вопросом, какие еще книги написал этот автор. Чудотворцев посмотрел на нее с удивлением. Он не представлял себе, чтобы кто-нибудь, читающий по-французски, не знал стихов Бодлера наизусть. Чудотворцев сразу же продекламировал «Correspondances», и Наталья навсегда запомнила строку: «Les parfums, les couleurs et les sons se repondent». Наталья снова была сбита с толку. Она подумала было, что «Paradis artificiels» – трактат по медицине, а его автор пишет, оказывается, такие чарующие стихи. Но, несмотря ни на что, в Наталье заговорило самолюбие, и она принялась исправлять произношение Чудотворцева, действительно хромавшее. Она заговорила с ним по-французски и убедилась, что изъясняется он с трудом, хотя читает свободно и, кроме Бодлера, прочитал бездну книг, особенно новейших, далеко обогнав ее в этом отношении. Наталья наконец отважилась спросить, где он изучал французский язык. «Где же, как не в семинарии», – ответил Чудотворцев и принялся рассказывать о себе. Демьян Митрофанович был сыном сельского священника и в семинарии не отличался никакими особенными талантами, кроме музыкального слуха и склонности к пению, но когда в старшем богословском классе у него прорезался голос, верзила Чудотворцев поставил своих учителей в тупик. Помнится, В.В. Розанов отмечал, что в Православной Церкви невозможен священник, у которого голос – бас, и диакон, у которого голос – тенор. Казалось бы, Демьяну прямая дорога в диаконы, но и для диакона его бас был необычен (с низкими и высокими нотами Чудотворцев еще не умел управляться, так как учился петь исключительно по-церковному). Отец ректор советовал Чудотворцеву готовиться в регенты, опасаясь в глубине души, как бы не пришлось выпускать его дьячком или пономарем, поскольку трудно было себе представить, что непутевый Демка при всем своем артистизме сможет руководить хором. Но тут произошло непредвиденное. Чудотворцева услышал Мефодий Трифонович Орлякин и увез его сначала в Москву, потом в Петербург и, наконец, за границу, чтобы учить музыке.
В том первом разговоре с Натальей Демьян говорил об Орлякине с осторожностью как о своем благодетеле и старался избегать некоторых подробностей. Я в своем описании этой легендарной фигуры вынужден буду пойти дальше Чудотворцева. Мефодий Орлякин происходил из коренного старообрядческого купечества. Сам он настаивал на том, что фамилия Орлякин происходит от слова «орляк» (вид папоротника, цветущего, как известно, в ночь на Ивана Купалу и открывающего клады), но о его фамилии ходили совсем другие слухи. Говорят, что был в свое время на Волге разбойник Терентий, по прозвищу Орляка. Он орлом налетал ка баржи, и от этого-то Орляки ведется богатство и самая фамилия Орлякиных. Мефодий унаследовал от своего рано умершего отца огромное состояние. Едва достигнув совершеннолетия и освободившись из-под надзора опекунов, Мефодий задурил, зажил не путем. Его опекуны не возражали, если бы малый просто кутил, даже проматывая деньги (перебесится да за ум возьмется). Но Мефодий увлекся балетом не как зритель, пусть даже ухлестывающий за танцорками. Мефодий вздумал ни много ни мало заделаться балетмейстером и попытался сам ставить балеты, да еще за границей, что для солидного старообрядца ни в какие ворота не лезло. При этом затрачивая огромные деньги, Мефодий быстро добился некоторого признания и даже успеха. В балетном мире на него обратили внимание как на явление экзотическое (Мефодий ставил свои фантасмагории исключительно на музыку русских композиторов), но не лишенное некоего дикого артистизма. К тому же готовность истратить невероятные деньги заставляла считаться с Орлякиным. Встреча с молодым Чудотворцевым побудила Орлякина пересмотреть свои балетные замыслы или отложить их на будущее. Правда, сам Орлякин утверждал, что балет органически впишется в синкретическое «Действо о святом Граале», где центральную партию будет петь Демьян Чудотворцев, ибо только его голоса не хватало до сих пор для осуществления этого замысла, от которого, быть может, зависит дальнейшая судьба христианского мира.
Демьян рассказывал, что Орлякин представил его Вагнеру, убеждая великого мастера написать мистерию «Парсифаль» для его голоса, и Вагнер будто бы сказал, что подумает (впоследствии партия Парсифаля в известной опере Вагнера была написана все-таки для тенора). Пока Орлякину удалось свести Чудотворцева с Антоном Рубинштейном, и тот доверил ему исполнение партии Демона в своей опере, хотя постановочные замыслы Орлякина настораживали композитора как чересчур новаторские и просто несуразные. «Мне же пока надо утвердить себя на заграничной сцене, – сказал Чудотворцев, – в том, что касается французского произношения, я бы хотел положиться на вас, Наталья Васильевна». Наталья смущенно отнекивалась, признаваясь, что с певцами она не занималась никогда и вряд ли на это способна, но Чудотворцев доказывал, что музыка – его дело, а от нее зависит лишь беглость его речи и правильность произношения. Подтверждая, что он уже поет по-французски, Демьян начал было арию Валентина из первого действия оперы Гуно «Фауст», но в стену застучали: голос Чудотворцева, очевидно, тревожил соседей. «Как же вы здесь занимаетесь пением?» – участливо спросила Наталья. Демьян ответил, что для его репетиций Орлякин нанимает целый зал, а в этой комнатенке он только спит («согласитесь, Наталья Васильевна, для занятий французским языком она тоже подходит как нельзя лучше»). Чудотворцев не признался Наталье, что вообще живет он в роскошной квартире Орлякина, а эту грошовую квартирку нанял специально для свиданий с ней по секрету от своего покровителя, ибо еще неизвестно, как Орлякин посмотрит на его занятия французским с Натальей. Деньги на квартиру и на уроки Чудотворцев рассчитывал выкраивать из щедрых подношений Орлякина на карманные расходы. Выходя от Чудотворцева, Наталья сама удивлялась, почему она согласилась на эти уроки, но она согласилась.
А через несколько дней, придя на очередной урок, она застала в комнате поджарого невысокого человечка с рыжими волосами бобриком и рыжей бородкой клинышком. Он не шагнул, а прыгнул ей навстречу, весь упругий, пружинистый, как его волосы и бородка. Такой же пружинистой, сухой и жесткой оказалась его рука, которую он протянул Наталье. «Разрешите представиться: Арлекин», – приплясывал он на одном месте. Это был не кто иной, как Мефодий Орлякин, разведавший, куда время от времени исчезает его подопечный. Мефодий вежливо попросил у Натальи разрешения присутствовать на уроках, в которых он нуждается не меньше господина Чудотворцева, хотя говорил он с Натальей только по-французски, не говорил, а бойко тараторил, правда, произношение его тоже оставляло желать лучшего. Урок прошел в том, что говорил Орлякин. Наталья лишь время от времени исправляла явные ошибки в его произношении. Орлякин начал с того, что его фамилию во Франции сразу же начали произносить как «Арлекин», а он не только не возражал против этого, но даже на своих визитных карточках обозначал себя как «Arlequin». «А еще меня называют monsieur Methode, – приплясывал он перед Натальей, – и верно, я метода или метод, как вам больше нравится. Помните, как Полоний говорит о Гамлете: „Если это безумие, в нем есть метод. Вот и я метода в божественном безумии, которое охватывает поэта, как говорит божественный Платон“». Потом Орлякин прочитал краткую лекцию о самом слове «Арлекин».
– Представьте себе, я думал, что это имя происходит от названия города «Арль», прелестный город на юге, я без ума от него. Знаете, Ван-Гог писал брату: «Le soleil est le plus grand peintre», солнце – величайший художник, – перевел он зачем-то эту фразу. – Потом я прочитал у одного книжного червя, что арлекин – языческое божество германского происхождения и настоящее его «наименование» «Erlkoenig» – «Лесной царь». Балладу Гёте помните? «Du liebes Kind, komm geh mit mir», – пропел он на мотив Шуберта. – «Дитя, оглянися, младенец, ко мне…» Жуковский не передает ритм строки. Но теперь-то я знаю: имя «Арлекин» имеет арабский корень: аглик или аглякин. Это значит «большая дверь» или «спутанная речь». Так называли суфийских учителей. А чем я не суфийский учитель? «Спутанная речь…» Вот она метода в безумии! Я вертящийся дервиш.
Он действительно завертелся перед Натальей в странном танце, и Наталье вспомнилось, что слышала она о хлыстовских радениях. «Если он Арлекин, то кто же фавн?» – подумала Наталья, глядя на верхние кончики его ушей, казавшиеся заостренными. Но если Орлякин был фавном, этот фавн пренебрегал или даже брезговал нимфами, допуская их лишь постольку, поскольку нуждался в них для своих постановок. В своих беспорядочных монологах m-r Methode то и дело произносил имя Тамара, и Наталья подумала, что он обращается к ней, но потом не могла не убедиться: Тамарой Орлякин называет Демьяна Чудотворцева. Наконец, он даже хозяйским жестом погладил волосы Демьяна (так опытный наездник гладит гриву любимой лошади), и с волос Демьяна упала сетка, которую он тщательно прятал от глаз Натальи (то ли сетка сама упала от ласкового прикосновения, то ли Арлекин нарочно сорвал ее с волос своего Пьеро, но волосы Чудотворцева рассыпались совсем по-женски, правда, рассыпались не по плечам и не до пят, как у леди Годивы; тугим пучком они откинулись на спину; такой женский пучок волос мы видим на картине Врубеля «Демон (сидящий)». И вместе с женским пучком волос в безбородом лице Чудотворцева обнаружились жесткие, угловатые, но, несомненно, женские черты, столь заметные у врубелевского демона. Разумеется, Врубель мог видеть и наверняка видел Чудотворцева на его концертах. Присмотревшись, можно заметить и сходство врубелевского демона и его же Царевны-Лебеди. Это сходство женских черт нельзя объяснить лишь особенностями врубелевской живописной манеры. В «Пане» Врубеля нет ничего женского. Но чуть ли не через восемьдесят лет Анна Ахматова напишет в «Поэме без героя»: «Демон сам с улыбкой Тамары», как будто и она видела Демьяна Чудотворцева, погибшего за четырнадцать лет до ее рождения.
Даже если Наталья не признавалась себе в этом сама, выходя из комнаты Демьяна, она чувствовала, что вступает на привычную для себя стезю соперничества за Демона. Так раньше она оскорбляла хлыстом свою лошадь, норовя на всем скаку обогнать своего двойника, старшую Темрюковну, чтобы за поворотом первой поцеловаться с духом изгнанья. Не так ли она теперь через несколько недель обвенчалась с Демьяном Чудотворцевым, хотя Арлекин этого брака не одобрял и, насколько мог, противодействовал ему? Демьян преодолел сопротивление своего друга, и Арлекин был даже шафером на свадьбе своего Пьеро. Нечто худшее постигло Наталью. Отец проклял ее. Дело было не в том, что она венчалась в православной, великороссийской церкви. Спасово Согласие не только допускало такое венчание, но предписывало церковный брак. Василий Евдокимович не мог примириться с тем, что любимая дочь вышла замуж без его благословения, да еще за актера, да еще за нечистого духа, ибо представлять нечистого на сцене не значит ли быть нечистым? И Василий Евдокимович остался тверд в своем проклятии. При жизни отец и дочь больше не свиделись.
А Мефодий Орлякин как будто совершенно примирился с браком своего возлюбленного. Он даже стал давать ему больше денег, чем раньше. Молодые провели свой медовый месяц не за границей, а на Волге (по некоторым сведениям они даже посетили скит матушки Агриппины, и та оказалась снисходительней к Наталье, чем родной отец). Такое не совсем обычное свадебное путешествие объяснялось тем, что Орлякин бредил невидимым градом Китежем и включал сказание о нем в свое синкретическое действо за тридцать лет до того, как была написана опера Римского-Корсакова (не без тайного ли влияния вездесущего Арлекина?)
Но едва чета Чудотворцевых вернулась в Петербург, Мефодий объявил, что они с Демьяном должны срочно выезжать за границу, так как дело не терпит отлагательств. Речь шла о театре «Perennis», который по проекту Мефодия создавался в Пиренеях, так что некоторые уже переиначивали название театра в «Пиренейский», хотя само по себе оно означало «круглогодичный» или, точнее, «вечный». По словам Мефодия, театр создавался не более и не менее как на легендарной вершине Монсегюр, где находилась последняя твердыня альбигойцев. Впрочем, иногда Мефодий называл местопребывание своего театра твердыней Монсальват, где по древнему преданию хранится Грааль. С Граалем-то и было связано таинственное действо, которое подготавливал Орлякин. Он остерегался пускаться в подробности, но намекал на вполне реальное обретение Грааля, с которым связаны судьбы королевских и царских династий, правивших (правящих?) в христианском мире. К подготовке действа были якобы причастны отдельные представители этих династий. Поговаривали, будто интерес проявляет к ней молодой великий князь Константин Романов, скромно подписывавший в будущем свои стихи инициалами «К.Р.» В то время гардемарин Константин Романов плавал по Средиземному морю на винтовом фрегате «Светлана», и Арлекин намекал, что великий князь направляется таким путем именно в Пиренеи. Но особая роль в мистериальном действе отводилась Демьяну Чудотворцеву. Орлякин давал понять, что Демьян Чудотворцев сам имеет некое отношение к династии Грааля, хотя в головах не укладывалось, при чем тут попович Чудотворцев, и Арлекину ничего другого не оставалось, кроме как уйти от скользкой темы, ссылаясь на таинственные свойства чудотворцевского голоса. Не менее таинственным оставался вопрос, кто же пишет музыку к мистериальному действу. Тут Арлекин предпочитал хранить многозначительное молчание, а в самых тесных кругах распространял слух, что над музыкой втайне работает не кто иной, как Рихард Вагнер.
Демьян Чудотворцев должен был безотлагательно приступать к репетициям в Пиренеях. При этом Арлекин обещал, что они вызовут к себе Наталью, как только устроятся и обживутся. Молодую женщину нельзя было подвергать превратностям путешествия в неизвестность, поскольку только что определенно подтвердилась ее беременность.
Орлякин с Чудотворцевым уехали, и Наталья первое время регулярно получала от своего мужа письма. Все они были подписаны «твой Демон», и нельзя с уверенностью сказать, восхищала ее или коробила эта подпись. Потом письма стали приходить все реже и реже и наконец прекратились совсем. Сперва Наталья объясняла про себя молчание Демьяна его занятостью на репетициях, затем ревниво заподозрила тлетворное влияние Арлекина, окончательно завладевшего своей беззащитной добычей. В конце концов совершилось ужасное. Кратким письмом Мефодий Орлякин известил Наталью, что ее муж Демьян Чудотворцев погиб от несчастного случая в Пиренеях, где и похоронен. Так и не удалось выяснить, что это был за несчастный случай. Как будто Чудотворцев во время ночной репетиции сорвался с горы и то ли сломал себе шею, то ли размозжил себе череп. В Пиренеях его похоронили, потому что жаркая погода все равно не позволила бы довезти тело до Петербурга. Рассказывали, впрочем, что измученный непрерывными репетициями Чудотворцев оступился, услышав из темноты голос Орлякина, зовущего: «Тамара! Тамара!»
Через некоторое время, не слишком скоро, в Петербург приехал сам Арлекин. Наталья была в это время на седьмом месяце беременности. Ей показалось, что Арлекина больше всего огорчает не смерть Чудотворцева, а решение Вагнера писать партию Парсифаля для тенора за неимением чудотворцевского баса. Так или иначе, она теперь зависела от Мефодия Орлякина, обязавшегося выплачивать ей весьма щедрую пенсию за мужа. Эту пенсию стареющий, разоряющийся Орлякин выплачивал и Платону Демьяновичу, пока тот не получил место ординарного профессора, выплачивал даже тогда, когда Чудотворцев уже был обеспечен купеческим приданым своей жены Олимпиады и был куда богаче Орлякина. Сын Демьяна Чудотворцева родился 18 ноября 1876 года и по настоянию Мефодия, напросившегося в крестные отцы, был наречен Платоном как следовало по святцам, но, очевидно, и в память о «платонической» любви Арлекина к Демону.
Владимир Микушевич. Воскресение в Третьем Риме
Между Михаилом Вериным и Платоном Демьяновичем Чудотворцевым произошел разговор, образующий пьесу в театре «Реторта». Полагаю, что в основе пьесы лежат подлинные протоколы этого разговора-допроса, наверняка сохранившиеся и доступные Ярлову. Я не умею стенографировать, но на память пока не жалуюсь. Передаю фрагменты этого разговора, как они мне запомнились.
В е р и н (показывая на стул). Садитесь, Платон Демьянович.
Ч у д о т в о р ц е в. Благодарю.
В е р и н. Извините. (На некоторое время он углубляется в изучение бумаг, лежащих перед ним, пока Чудотворцев не прерывает молчание.)
Ч у д о т в о р ц е в. Могу я узнать, чему обязан?
В е р и н. Дело в том, что нам с вами пора объясниться.
Ч у д о т в о р ц е в. И для этого меня доставляют к вам ночью под конвоем?
В е р и н. Ну, какой там конвой… Просто охрана, которой вы, несомненно, заслуживаете. Вы же в некотором роде культурная ценность.
Ч у д о т в о р ц е в. Весьма польщен. Значит, «не арестантский, а почетный держали караул при ней».
В е р и н. Извините, это из кого? (Надо сказать, что Михаил Верин, любивший щегольнуть философской эрудицией, иногда проявлял озадачивающую неосведомленность, когда речь заходила о поэзии, особенно о русской.)
Ч у д о т в о р ц е в. Из Тютчева, Михаил Львович, из Тютчева.
В е р и н. А из какого стихотворения, можно узнать?
Ч у д о т в о р ц е в.
Веленью высшему покорны,
У мысли стоя на часах,
Не очень были мы задорны,
Хотя и с штуцером в руках.
Мы им владели неохотно,
Грозили редко и скорей
Не арестантский, а почетный
Держали караул при ней.
В е р и н. Что это значит: у мысли стоя на часах?
Ч у д о т в о р ц е в. Видите ли, стихотворение связано со службой Тютчева в Главном управлении по делам печати, иными словами, в цензурном комитете.
В е р и н. Хотел бы я обладать вашей памятью. При моей нынешней службе это было бы кстати.
Ч у д о т в о р ц е в. А может быть, и лучше, что при вашей нынешней службе память вам иногда изменяет? Не перст ли это Божий?
В е р и н. Вполне возможно. Особенно если считать, что перст Божий замешан в контрреволюции.
Ч у д о т в о р ц е в. По этому поводу вы меня и вызвали?
В е р и н. В общем, да.
Ч у д о т в о р ц е в. Значит, в моем случае Тютчева надо перефразировать, и за мной пришел караул именно арестантский.
В е р и н. Не будем опережать события, Платон Демьянович. Но не скрою: цитируя стихотворение о цензуре, вы попали в точку.
Ч у д о т в о р ц е в. Чем же я погрешил против цензуры, Михаил Львович?
В е р и н. В грехах вы будете каяться на исповеди, что вы и делаете более чем регулярно, насколько нам известно. Ваши связи с тихоновцами – особый вопрос. Его мы касаться пока не будем. Но должен сказать, что вы действительно научились чрезвычайно ловко обходить цензурные запреты.
Ч у д о т в о р ц е в. А не есть ли это лояльность по отношению к новой власти?
В е р и н. Диктатура пролетариата не нуждается в лояльности. Да такая лояльность в принципе невозможна, ибо пролетарская диктатура есть отрицание старой, буржуазной законности. Пролетарская диктатура требует сознательной приверженности, а не предательской лояльности. Сами посудите: какой приверженности можем ждать мы от господина профессора по фамилии Чудотворцев?
Чудотворце в. Я бы сформулировал ваш вопрос несколько иначе: стоит ли отказываться от Чудотворцева, когда можно его использовать?
В е р и н. Ничего не скажешь: вы научились подлаживаться под коммунистическую фразеологию или, вернее, под газетные штампы. Но прошу вас принять к сведению: идеология и фразеология не одно и то же, и штампами вы от нас не отделаетесь.
Ч у д о т в о р ц е в. Но разве я не сотрудничаю с вами, с вашими учебными заведениями, с вашими издательствами?
В е р и н. Повторяю, с нами нельзя сотрудничать, к нам нужно принадлежать, слиться с пролетарскими массами, на что вы явно не способны.
Ч у д о т в о р ц е в. Вы решительно отказываете мне в такой способности?
В е р и н. Поверьте мне, я слишком ценю вас для того, чтобы думать, будто вы на это способны. Сами подумайте, кому нужен Чудотворцев, слившийся с массами? Кому нужен такой Чудотворцев?
Ч у д о т в о р ц е в. Кто знает, может быть, кому-нибудь и нужен. Иногда я позволяю себе думать, что нужен вам.
В е р и н. Действительно, я и раньше ценил возможность поговорить с вами откровенно. Правда, мы слишком редко находили время друг для друга.
Ч у д о т в о р ц е в. С Гавриилом Львовичем я общался чаще.
В е р и н. Надо прямо признать: буржуазный философ Гавриил Правдин обязан своей карьерой вашему влиянию. Не уверен только, может ли это являться для вас предметом гордости.
Ч у д о т в о р ц е в. Я прочитал «Диалектику Ветхого и Нового Завета» с не меньшим интересом, чем вашу «Диалектику классовой борьбы».
В е р и н. Комплимент сомнительный… Но для меня новость, что вы читаете труды по марксистской философии. Трудно вообразить вас, читающего «Диалектику природы».
Ч у д о т в о р ц е в. И воображать нечего. Вот я перед вами, а я всю жизнь работаю над одной темой: диалектика бытия. Неужели вы думаете, что я не изучаю литературу, относящуюся к этому вопросу?
В е р и н. Ваша диалектика пахнет метафизикой. А впрочем, я не сомневаюсь, что из вас может выработаться марксистский начетчик. Но их у нас и без вас хватает. Если хотите, я пригласил вас, чтобы уберечь от этой участи.
Ч у д о т в о р ц е в. Уберечь от марксизма?
В е р и н. Мне хотелось бы сохранить уважение к вам. А приспособленчество не просто настораживает меня, оно вызывает у меня презрение. Ну, сами подумайте, Платон Демьянович, какой из вас марксист?
Ч у д о т в о р ц е в. Такой же, как из вас.
В е р и н. Я бы мог расстрелять вас за эти слова. Я командовал, командую армией. Вот мой марксизм. А чем командуете вы?
Ч у д о т в о р ц е в. Умами.
В е р и н. Избранными умами, пожалуй, слишком уж избранными. Но все равно вы опасны. А если вы не опасны, вы не интересны или, проще говоря, никому не нужны. Вспомните вашего любимого Платона. Он намеревался выдворить поэтов из своего образцового государства. Мы поступаем подобным образом с философами вашего толка. Вот почему мы выдворяем вас.
Ч у д о т в о р ц е в. Как выдворяете? Куда?
В е р и н. За границу, к вашим единомышленникам и единоверцам. Пролетарское государство не может себе позволить такой роскоши, как Чудотворцев. Разрабатывайте там свою диалектику бытия, разлагайтесь сами и разлагайте их.
Ч у д о т в о р ц е в. Но какой повод я дал? На каком основании меня высылают?
В е р и н. Оснований и поводов более чем достаточно. Главный повод – ваше интеллектуальное мракобесие, признаюсь, увлекательное даже для меня, то, что вы называете диалектикой. Уже этого достаточно, чтобы выдворить вас. Мы не позволим вам выдавать за диалектику то, что диалектикой не является. Но чашу нашего терпения переполнили ваши реверансы в сторону Шпенглера, ваше участие в шпенглеровском сборнике.
Ч у д о т в о р ц е в. Но разве Шпенглер не подтверждает правоту русской революции? Разве не возвещает он крах буржуазной цивилизации, крах Запада?
В е р и н. Нам не нужна салонная апокалигггика Шпенглера. Мы интернационалисты. То, что Шпенглеру кажется крахом, для нас торжество мировой революции.
Ч у д о т в о р ц е в. Но ведь Шпенглер стихийно подтверждает то, что вы сознательно утверждаете как диалектик.
В е р и н. Вот именно стихийно. Нет ничего отвратительней стихийности. Наша диалектика подавляет и в конце концов подавит всякую стихийность в истории и в природе.
Ч у д о т в о р ц е в. Извините меня, но вы не сидели бы здесь, если бы не опирались на изначальную стихию русского бунта, что и называется большевизмом.
В е р и н (театрально вскидывая руку). Диктатура, где твой хлыст?
Ч у д о т в о р ц е в. Браво, нельзя выразиться удачнее. Вы стихийно пророчествуете, Михаил Львович. Хлыстом, о котором вы говорите, был Григорий Распутин. А разве хлысты не суть истинные русские большевики?
В е р и н. Ну, знаете! Этак вы скажете, что и вы большевик.
Ч у д о т в о р ц е в. А я и есть большевик. Не коммунист, но большевик.
В е р и н. Вот она, ваша хваленая стихийность! Кто большевик, но не коммунист, тот антикоммунист, а антикоммунистов мы по голове гладить не будем.
Ч у д о т в о р ц е в. Почему вы против стихии, когда стихия за вас?
В е р и н. Очень просто: потому что сознание – жизнь, а стихия – смерть.
Ч у д о т в о р ц е в. Почему же вы тогда не пишете на вашем знамени: «Неубий»?
В е р и н. Кто говорит: «Не убий», тот предоставляет убивать смерти. Чтобы убивать смерть, мы убиваем ее пособников.
Ч у д о т в о р ц е в. Последний же враг истребится – смерть…
В е р и н. Поповские бредни! Смерть не истребится, пока не истребит всех.
Ч у д о т в о р ц е в. Поэтому вы истребляете лишь некоторых, пусть даже очень многих?
В е р и н. Точно так. Мы истребляем пособников смерти, эксплуататоров, присваивающих себе, пожирающих чужие жизни, мы уничтожаем их идейных прислужников, приукрашающих, воспевающих, – проповедующих смерть, живописцев, поэтов, музыкантов, философов. Не только религия, но и культура – опиум для народа, лукавое примирение со смертью, смертоносная прививка.
Ч у д о т в о р ц е в. Ваша пропаганда утверждает нечто иное. А как же пролетарская культура?
В е р и н. Это не более чем пропаганда. Мы вынуждены прибегать к ней в борьбе с нашим коварным идейным врагом. Не сомневайтесь, я-то хорошо знаю, что пролетарская культура невозможна. Я вынужден признать: к сожалению – я оговорился, сожалеть тут не о чем – но так или иначе культура – это вы, господин профессор Чудотворцев.
Ч у д о т в о р ц е в. Весьма польщен, однако в свою очередь вынужден возразить вам: культура – ничто без стихии, без народной стихии, которая разрушает и одновременно творит культуру.
В е р и н. Поэтому мы и вынуждены выслать вас. Если бы не ваши заигрывания со стихией, мы, пожалуй, оставили бы вас в качестве консультанта, спеца, эрудита-прихлебателя. Но допустить стихию мы не можем. Соприкоснуться со стихией все равно что прикоснуться к мертвому телу. Ветхий Завет говорит: кто прикоснулся к мертвому телу, тот нечист. Вы – искусный, квалифицированный распространитель трупного яда. Вот и распространяйте его среди наших врагов, разлагайте их, мы предоставляем вам такую возможность вместо того, чтобы уничтожить вас. Разве это не гуманно?
Ч у д о т в о р ц е в. Хорошо. Пусть прикосновение к стихии или к матери-Земле, ибо Земля – тоже стихия, пусть все это прикосновение к мертвому телу, но разве не стихия – сама жизнь?
В е р и н. Нет. Безусловно, нет. Все, что вы называете землей, природой, стихией, все это разложение, гниение, маразм. Стихия не осознает себя, а что не сознает себя, то мертво. Вот почему ваш тезка, старый Платон предлагал изгнать поэтов из благоустроенного государства. Поэты – агенты смерти и распада. Грош цена поэзии, если в ней нет бессознательного. Сознательной поэзии вообще не бывает, а жизнь – сознание; подсознательное, стихийное – смерть. Вершина же сознания – наша коммунистическая сознательность.
Ч у д о т в о р ц е в. Которая намерена обойтись без культуры?
В е р и н. Разумеется. Мы пока еще пользуемся этим жалким словом, хотя не придаем ему никакого значения. Но мы не допустим, чтобы при нашем строе вырастали ядовитые грибы красоты.
Ч у д о т в о р ц е в. Чем же вы замените культуру и красоту?
В е р и н. Ничем. Нам не нужны замены, не нужны подделки, не нужны суррогаты. Нам нужна сама красота, которой нет отдельно от жизни, как хотелось бы вам. Прекрасное есть жизнь, как мы ее понимаем, и мы заставим вас считаться с нашим пониманием, так как другого понимания быть не может.
Ч у д о т в о р ц е в. Но возможно ли понимание вообще без всякой философии?
В е р и н. Философия-то и делает понимание невозможным, что признают так или иначе все философы вашего толка. Как поэзия основывается на бессознательном, так философия основывается на интуиции, о чем я имел удовольствие читать у вас.
Ч у д о т в о р ц е в. Стало быть, вы идете дальше Платона. В его государстве правят именно философы.
В е р и н. Старик просто не решился назвать вещи своими именами. Философ у власти перестает быть философом. Он превращается в идейного вождя.
Ч у д о т в о р ц е в. Что же такое идейный вождь без идей? А ведь идеи тоже основываются на интуиции.
В е р и н. Может быть. Но идея, освобожденная от интуиции, превращается в чистую сознательность, в идеологию, а идеология опирается на террор. Да, да. Мы не боимся этого слова. Террор – реторта, в которой выводится новый человек.
Ч у д о т в о р ц е в. Тот, кого Достоевский называл человекобогом?
В е р и н. Только достоевщины нам не хватало! Это тоже мертвечина, причем худшего сорта. Ваш Бог – смерть, сколько бы ни болтали о воскресении, о котором достоверно известно только то, что сперва надо умереть. Не человекобог, а человекосмерть следовало бы вам говорить. Новый человек не будет знать смерти.
Ч у д о т в о р ц е в. Не будет знать, потому что не умрет? Или вы внушите ему, что он бессмертен?
В е р и н. Чушь. Мы не шаманы и не философы, чтобы внушать. Это вы внушаете человеку, будто он смертен или бессмертен. С нашей точки зрения, это одно и то же. Никто ничего не знает ни о смерти, ни о бессмертии и никогда не будет знать. Все это бессознательное, а от бессознательного избавляет сознательность.
Ч у д о т в о р ц е в. Интересно. Значит, сознательность в том, чтобы не знать кое о чем, весьма существенном, с точки зрения предыдущих поколений. Вы собираетесь воспитывать вашего нового человека, как воспитывался царевич Сиддхартха, который не должен был знать о болезнях, о старости и смерти.
В е р и н. Вы должны были слышать, как мы поступаем с царевичами.
Ч у д о т в о р ц е в. Что ж, это веский аргумент.
В е р и н. Царевич один и потому должен быть устранен во имя многих или во имя всех. Сознательность в том, чтобы понимать: умереть могу я, можешь ты, может он, можете вы, могут они, но никогда не умираем и не умрем мы, партия. Кто трусливо говорит о нас «они» или кто нагло говорит нам «вы», тот обречен. Вот в чем целительный смысл террора. Это даже не смертная казнь и не ваша фальшивая смерть: это отсечение того, кто или, лучше сказать, что не мы, кто не с нами и, значит, против нас и кого, в сущности, и так нет.
Ч у д о т в о р ц е в. Извините, Михаил Львович, но ваше «мы» весьма напоминает богоизбранный народ с его таинственным отвращением к мертвому телу.
В е р и н. Об этом вам лучше поговорить с Гавриилом Правдиным. В этих вопросах он специалист. А я готов пропустить вашу антисемитскую ахинею мимо ушей, хотя она не безобидна и за нее стоило бы расстрелять. Богоизбранного народа нет, во-первых, потому, что мы не народ, а человечество, если вообще можно говорить о человечестве, а во-вторых, потому, что мы избраны не Богом, которого нет, и, следовательно, мы вообще не избраны, мы просто историческая необходимость.
Ч у д о т в о р ц е в. А свобода – это осознанная необходимость, не правда ли?
В е р и н. Если бы вы усвоили эту величайшую из всех истин, мы бы, может быть, не выслали вас, но и времени на разговоры с вами я не стал бы тратить.
Ч у д о т в о р ц е в. Неужели вы отказываете себе в возможности убедить меня? А что, если я вдруг осознаю необходимость?
В е р и н. Все равно это будет ваш отдельный, индивидуальный духовный опыт, все равно вы можете так и этак, значит, для вас нет ни необходимости, ни осознания. Вы пленник вашей личной прихоти, то есть бессознательного, то есть агент смерти. Мы проявляем некоторую непоследовательность, высылая вас. Разумнее было бы вас уничтожить, но мы предоставляем истории уничтожить вас. Маркс раз навсегда поставил крест на вашей философии, сказав: «До сих пор философы различным образом объясняли мир, дело же сводится к тому, чтобы изменить его».
Ч у д о т в о р ц е в. Но изменится ли мир оттого, что вы откажетесь от философии или уничтожите ее?
В е р и н. Вот видите, вся ваша суть в этом вопросе. Для вас философия – это вы, а мир – это то, что вы о нем думаете, тогда как мир существует помимо вас и менять его мы будем без вас.
Чтобы изменить мир, для начала нужно устранить вас, производителей и распространителей смертельного дурмана. Я согласен: Маркс нуждается в дополнении, но его дополняет Зигмунд Фрейд, а не вы. Вся ваша культура – сублимация невроза. В ней проявляется бессознательное, то есть смерть, а смерть всегда индивидуальна по определению. Умирает единица, потому что она вздор, ноль. Мы не умираем, потому что мы не смертны и не бессмертны: мы жизнь, а жизнь в сублимациях не нуждается. Нам не нужна сублимация, не нужна культура, не нужна философия, не только ваша философия, но никакая философия. Долой вашу любовь, долой ваше искусство, долой ваш строй, долой вашу религию! Все это оковы и миазмы отчуждения. Чистой сознательности сопутствует эрос созидания, не нуждающийся ни в каких сублимациях.
Ч у д о т в о р ц е в. Признаюсь, это убедительно и привлекательно. Ради такой цели, пожалуй, стоит кое-кого расстрелять. Но не следует упускать из виду одного обстоятельства. Что такое Эрос без Танатоса?
В е р и н. Опять ваше растленное мифотворчество!
Ч у д о т в о р ц е в. Которому вы также отнюдь не чужды. Один без другого, одно без другого не существует, и ваш Фрейд отлично понимает это. Вот почему Фрейд не разделяет вашего оптимизма. Какое же удовлетворение для тех, кто не знает разницы между жизнью и смертью? Тогда удовлетворение равносильно… отчаянью. (В этот момент в комнату вошел человек во френче. Походка его выдавала кавалериста. В рыжеватых усах заметна была преждевременная седина.)
В о ш е д ш и й. Товарищ Верин, вас просит срочно зайти к нему Феликс Эдмундович.
В е р и н (вставая). Иду. Составьте пока компанию гражданину Чудотворцеву, товарищ Троянов. (Выходит из комнаты.)
Вошедший (останавливаясь у стола напротив Чудотворцева). Ну, здравствуй, дядя Платон.
Ч у д о т в о р ц е в. С кем имею честь?
В о ш е д ш и й. Не узнаешь, что ли? Племяш твой, Кондрашка Троянов.
Ч у д о т в о р ц е в. Неужто и вправду Кондратий? А я не узнал тебя.
К о н д р а т и й. Где тебе узнать? Лет пятнадцать не виделись. Помнишь, когда ты к деду Питириму приезжал?
Ч у д о т в о р ц е в. Як нему три года назад приезжал, только тебя повидать не довелось.
К о н д р а т и й. Верно. Я в армии служил.
Ч у д о т в о р ц е в. В какой?
К о н д р а т и й. Нешто не знаешь? В Красной, вестимо.
Ч у д о т в о р ц е в. Как же, помню; Питирим говорил, что красные казаки – святое Трояново воинство.
К о н д р а т и й. Лучше бы он это брату Аверьяшке втолковал.
Ч у д о т в о р ц е в. А что теперь Аверьян?
К о н д р а т и й. А ничего. В живых его нету.
Ч у д о т в о р ц е в. Убили?
К о н д р а т и й. Убили. А правду сказать, я его убил. Он к белым переметнулся, попался мне, я своей рукой в расход его и вывел.
Ч у д о т в о р ц е в. Сам расстрелял?
К о н д р а т и й. Сам.
Ч у д о т в о р ц е в. Помню, как я первый раз приезжал с матерью моей, с Натальей. Он еще грудной был, все лепетал: Авель Ян, Авель Ян… Как напророчил…
К о н д р а т и й. Авель… Так я, по-твоему, Каин?
Ч у д о т в о р ц е в. Ну и что ж, что Каин? Всякому, кто убьет Каина, отмстится всемеро.
К о н д р а т и й (понижая голос). Может, поэтому я жив еще. А то наших расстреляли видимо-невидимо.
Ч у д о т в о р ц е в. Кто расстреливал? Белые?
К о н д р а т и й. Какие там белые! Красные. Трояново святое воинство.
Ч у д о т в о р ц е в. Питирим сказал небось: кто от красного Трояна к белому Ятрону переметнулся, тому смерть; туда ему и дорога.
К о н д р а т и й. Так он и сказал. А как узнал, что Аверьяна я порешил, на другой день помер.
Ч у д о т в о р ц е в. Слушай, а Михаил Львович знает, что мы с тобой в родстве?
К о н д р а т и й. Кто его знает. Может быть, и не знает. Матери твоей фамилия Темлякова, а не Троянова. Знал бы, так не оставил бы меня с тобой наедине. А может статься, наоборот, знает и меня испытывает, не устрою ли я тебе побег, хотя какой же побег, когда он сам тебя за границу выдворяет. Мой тебе совет, дядя, не мешкай, соглашайся, уезжай. Андрияшку нашего за границей встретишь.
Ч у д о т в о р ц е в. Андрияижу среднего твоего брата? Он-то как туда угодил?
К о н д р а т и й. На фронте к немцам в плен попал да там и остался. Он у них дедово учение проповедует, Троянову веру. Знаменит стал, говорят, как Распутин.
Ч у д о т в о р ц е в. Слыхал я о нем кое-что. Но уезжать отсюда не хочу.
К о н д р а т и й. Был бы ты хоть красный, как я. Тогда понятно было бы.
Ч у д о т в о р ц е в. А я и есть красный. Кровь-то у нас с тобой одна, красная.
К о н д р а т и й. И ты меня братней кровью попрекаешь?
Ч у д о т в о р ц е в. Да не попрекаю я тебя, пойми. А только дед Питирим прав был: ни тебе, ни мне с Трояновой тропы сворачивать не след.
К о н д р а т и й. Хорошо, коли не след, у меня-то след кровавый.
Ч у д о т в о р ц е в. Да ты что, никогда не слыхал, для чего кровь льется? Когда в партию тебя принимали, не говорили тебе?
К о н д р а т и й. Про Интернационал говорили, а про кровь не помню что-то.
Ч у д о т в о р ц е в. Брат, Авель Ян-то, за что с тобой воевал? И ты за что его убил? За землю. В Писании-то сказано: земля отверзла уста свои, чтобы принять кровь брата твоего от руки твоей.
К о н д р а т и й. Дед Питирим говорил так. Да ведь он из ума выжил. Он говорил еще: проклят ты от земли…
Ч у д о т в о р ц е в. Да разве может мать Земля тебя проклясть? А если она и прокляла, то благословила, как мать. Потому и отмстится за тебя всемеро, что ты подвиг совершил. Интернационал-то на что? Чтобы по науке мертвых воскресить. Так вот Аверьяна сперва воскресят, а потом тебя… Поэтому и называют нас «красные».
К о н д р а т и й. По науке говоришь? А кто этой наукой занимается?
Ч у д о т в о р ц е в. Дед Питирим занимался, и я занимаюсь. Нельзя с Трояновой тропы сворачивать, ибо мертвых у нас воскрешать начнут. Для того и врагов убивают, чтобы воскрешать. Последний враг истребится – смерть. А Интернационал значит общее дело. (Эти слова услышал Верин, вернувшийся в свой кабинет. Он отпустил Кондратия и обратился к Чудотворцеву.)
В е р и н. Конечно, хорошо, что вы агитируете членов партии за Интернационал, только это вам не поможет. Расставаться нам с вами придется, насчет вас все решено, и я не понимаю, почему вы так противитесь этому. Ведь не во глубину же сибирских руд вас высылают, а в благополучную комфортабельную Европу где вовсе не плохо, уверяю вас, я прожил там в эмиграции без малого двенадцать лет.
Ч у д о т в о р ц е в (доверительно). Михаил Львович, а как Владимир Ильич относится к моей высылке?
В е р и н. Так же, как я, не сомневайтесь. Более того, скажу вам прямо: это его идея, его решение, его инициатива.
Ч у д о т в о р ц е в. На это нечего возразить, как и незачем напоминать вам, что значит для вас Ленин.
В е р и н. Любопытно, а что значит Ленин для вас, могу я спросить?
Ч у д о т в о р ц е в. Извольте. Ленин осуществил тот синтез Маркса и Фрейда, о котором вы говорили, едва ли не приписывая этот синтез себе. Ленин не говорил о Фрейде, насколько мне известно, потому что для него Фрейд – буржуазный ученый, не заслуживающий упоминания. Ленин – первый в истории человечества гений сознательности. До сих пор считалось, что сознательность и гениальность несовместимы и потому коллективной гениальности не бывает Ленин же – гений коллектива, массовый гений. Это ему принадлежит идея будущего, которое вне смерти и вне бессмертия. Без него вся ваша идеология повиснет в воздухе. Конечно, вы скажете: мы не умираем, но отважитесь ли вы сказать: Ленин – это мы?
В е р и н. Я нахожу ваши рассуждения провокационными.
Ч у д о т в о р ц е в. Когда вы в последний раз видели Владимира Ильича? Как он себя чувствовал?
В е р и н. Не ваше дело.
Ч у д о т в о р ц е в. Нет, это именно мое дело, наше общее дело. Лечащий врач Ленина сказал мне, что его дни сочтены.
В е р и н. Допустим. Но дело Ленина живет, и мы вас вышлем все равно.
Ч у д о т в о р ц е в. Смотрите, не ошибитесь. Я готов указать вам выход из вообще-то безвыходной ситуации. (Кладет на стол перед Вериным лист бумаги.)
В е р и н. Что это? Какое-то подобие египетской пирамиды? Зиккурат?
Ч у д о т в о р ц е в. Ваша мысль работает в правильном направлении. Это усыпальница, предназначенная для царя древних майя. На мой взгляд, она конструктивнее, то есть одновременно монументальнее и уютнее египетской пирамиды. Обратите внимание на эти выступы. Они напоминают лестницу, ведущую в бессмертие. К тому же на этой усыпальнице можно стоять преемнику или преемникам того, кто в ней покоится, именно покоится, потому что такое уютное жилище не для мертвеца. Кто лежит в нем, тот рано или поздно выйдет снова к своим, и с него начнутся те мы, о которых вы так убедительно говорили. (Верин пристально всмотрелся в лист, лежащий передним на столе. В кабинет вошел Кондратий и положил перед Вериным записку. Верин прочитал ее и поднял глаза на Чудотворцева.)
В е р и н. Да, я согласен с Феликсом Эдмундовичем. Ваша ссылка, Платон Демьянович, отменяется. Мы находим возможным оставить вас в Советской России.
В зале запахло табачным дымом. Я осмотрелся и увидел, что Ярлов закурил-таки свою трубку, как бы не удержавшись, от избытка чувств. Или то была продуманная историческая аллюзия?
* * *
Пока мосье Жерло откашливался, я сказал:
– Действительно, вы читали Чудотворцева не совсем внимательно. У него есть эта проблематика, не спорю. Но для него золото – первичный Фаворский свет, преложение Святых Даров в Кровь и Плоть Божью. Золото выявляется или образуется, но не производится путем кровопролитных экспериментов. Правда, по Чудотворцеву, нужно произвести эти эксперименты, чтобы выявилась их тщетность. Вот что называет он оправданием зла, история зла-то. Чудотворцев указывал на совпадение древнееврейского «aor» (свет) и латинского «aurum» (золото). Вот Альфа и Омега, Первый и Последний, как говорится в Откровении Иоанна Богослова. Чудотворцев настаивал на том, что Иоанн Богослов не умер, что он среди нас… (Мадам Литли вздрогнула.) Это совпадение первичного света и конечного золота есть Miraculum Rei Unius, Чудо Единого, о котором говорит Изумрудная Скрижаль Гермеса Трисмегиста. Поэтому Чудотворцев вместе с Лейбницем и Лосским отвергал метемпсихоз, настаивая на вечной метаморфозе одного и того же человеческого существа, что Аристотель называл энтелехией. Вот почему душа не может переходить из тела в тело, у души не может быть разных тел. Каждое существо создано при сотворении мира как единство души и тела, так что душа всегда образует свойственное себе тело, в принципе одно и то же. Каждое живое существо наследует свои признаки от самого себя. Гуманист Ермолай Варвар (именно варвар-гуманист) обращался к дьяволу с мольбой открыть ему смысл слова «энтелехия», но это слово или понятно и без дьявола, или тем более непонятно с его помощью. Ермолай Варвар перевел слово «энтелехия» как «perfectihabies» (имеющие совершенство), но совершенство нельзя иметь: ты принадлежишь совершенству, а не совершенство тебе. Средний человек сам не знает, почему с таким извращенным интересом углубляется он в свою фиктивную родословную (родословные, как правило, подделаны). Он не смеет себе признаться, что ищет и не находит среди своих предков самого себя. Но на этом же основан и принцип наследственной легитимной монархии, чей великий родоначальник время от времени, через два-три поколения возвращается на престол. Так в образе убиенного императора Павла на русский престол возвращался Рюрик. Отсюда таинственные обстоятельства его рождения. Рюрик может вернуться на Русь в ближайшее время. Вот почему так больно жалят кое-кого упомянутые вами пчелы, его вестницы. Но истинным царем Святой Руси остается Иоанн Богослов, ставленник Царицы Небесной: он пребудет дондеже приду.
Пока я говорил, мадам Литли вся превратилась в слух.
Владимир Микушевич. Воскресение в Третьем Риме
– Можно на рукопись взглянуть?
– Это, собственно, не рукопись, а машинопись, и взглянуть на нее затруднительно. Рукопись насчитывает более тысячи страниц, не считая черновых набросков и вариантов, которые тоже будут включены в это издание.
– И все это написано вашей рукой?
– Моей рукой это записано и перепечатано. А написано это Платоном Демьяновичем.
– Но ведь он не возвращался к этой рукописи после сороковых годов?
– Нет рукописи, к которой Платон Демьянович не возвращался бы, – суховато проронила Клавдия.
– И все-таки, если позволите, я взглянул бы, – промямлил я.
– Извольте, но было бы разумнее, если бы я сама прочла вам некоторые места. Я хорошо знаю рукопись, и к тому же… я ведь лектриса… – неожиданно улыбнулась она.
– Но ведь уже третий час ночи…
– Ничего, я привыкла работать по ночам, так что если вы не устали…
Я бы никогда не признался, что я устал, и она ровным голосом принялась читать. Отдельные положения книги действительно были мне знакомы, но своеобразная магия чудотворцевских интонаций немедленно захватила меня, если не сказать заворожила. Платон Демьянович рассуждал так:
Идея Бога таится в языке и до такой степени предполагается языком, что как бы остается не только его функцией, но и предпосылкой. На мысль о Боге наводит сама соотнесенность языка с той реальностью, которую язык обозначает. Очевидно, каждое слово обозначает нечто не являющееся словом: предмет. В результате само слово приобретает предметность или даже реальность, а в реальности обнаруживается нечто позволяющее обозначать ее словом: смысл. Эта взаимность языка и бытия не может быть исчерпана рассудочно или научно; в нее нужно так или иначе верить. Каждый говорящий верит в то, что слово обозначает именно то, что он с ним связывает, но он верит также и в то, что его собеседник, другой, верит в это же. Такая вера практически подтверждается на каждом шагу, на ней основывается элементарное взаимопонимание, не говоря уже о законах, обычаях или идеологиях. Идея Бога присутствует в этой соотнесенности языка и бытия, так как без Бога подобная соотнесенность невероятна или невозможна. Существование Бога подтверждается, гарантируется существованием мира, языка и самого говорящего. Бог Ветхого Завета так и называет Себя: Сущий или Я Есмь. Таким образом, любой простейший акт говорения превращается в исповедание веры. В связи с этим спрашивается, что обозначает само слово «Бог». Очевидно, это слово по своему смыслу не может означать несуществующее, даже с чисто языковой точки зрения не может не быть Богом. Следовательно, само по себе высказывание «Бога нет» ничего не означает, так как если нет Бога, то нет существующего, нет говорящего и нет его высказывания. Словосочетание «Бога нет», додуманное до конца, превращается в совершенную формулу безумия, и с этой точки зрения следует понимать библейский стих: «Сказал безумец в сердце своем: нет Бога» (Пс., 13:1).
Совершенно очевидно, что никакая религия немыслима вне высказывания, вне языка, а главной проблемой языка является сочетание некоего единства, превращающего разрозненные звуки-знаки в систему, и многообразия или членораздельности, так как один звук или нечленораздельный шум не образуют языка ни при каких обстоятельствах. Поэтому исключительной точностью отличается русское обозначение дохристианских или добиблейских религий: язычество. Эти религии являются именно религиями языка или языков, принимая во внимание, что древнерусское слово «язык» означает также «народ». Языческая религия – это самообожествление народа, рода и племени в языке и через язык. Чем древнее, чем первобытнее язык, тем отчетливее распознается в каждом слове имя собственное, имя Божества, у которого много имен, а в каждом имени угадывается его стихийное, бытийное начало. Так в имени верховного греческого бога Зевс распознается Дий, dies, день, диво, индоевропейский корень, связанный со светом. Имя славянского бога Купала соотносится с латинским «cupido» (Купидон) через глагол «кипеть», то есть страстно желать. Язык роднил между собой соплеменников и поднимал это родство на уровень Божества, что признавал даже строжайший ревнитель единобожия апостол Павел, усматривающий именно в творчестве языческих греческих поэтов идею богочеловеческого родства (Деян., 17:28). Отсюда вывод, что язычество – это религия божественных имен и она может изучаться лишь на основе обширного языкового материала, прежде всего, на материале родного языка, незаметно срастающегося при этом с другими языками, так как божественные имена дают уникальный ключ к языку и в эпохи религиозного сознания люди осваивают иностранные языки с легкостью, невероятной для современного человека (вспомним хотя бы Марко Поло и Афанасия Никитина).
Именам по их природе свойственно разнообразие и множественность. Множественность божественных имен традиционно понимается как языческое многобожие. Однако существуют языческие религии, почитающие единого Бога, и все-таки остающиеся языческими, как, например, культ Маниту, великого духа у американских индейцев. Соотношение единого и множественного, на котором основывается язык, по-своему преломляется в языческой религии. В то же время всем языческим богам присуще нечто общее, в силу чего они, собственно, и почитаются: их божественность, которая при всех своих бесчисленных проявлениях не может не мыслиться. С точки зрения язычества все существующее божественно и достойно поклонения. Первичной, естественной религией человека является пантеизм. Отсюда почитание животных, растений, камней и так называемых идолов, которые святы, как свято все. Так над множественностью божественных проявлений берет верх единое божественное начало, сказывающееся в единичном, а совершенным образом единичного оказывается носитель собственного имени, «я». Местоимение первого лица единственного числа в русском языке как будто случайно совпадает с первой буквой имени Божьего в Ветхом Завете: Яхве, что значит опять-таки Я Есмь, но в языке все случайно и все знаменательно. Быть может, именно этим совпадением объясняется изначальный персонализм русской религиозной философии в отличие, например, от стойкого западного пантеизма, торжествующего в абсолютном идеализме немецкой классической философии. Всякий раз, называя себя «я», человек исповедует, что он образ Божий, а прообраз не просто выше образа, но находится вне сферы его бытия, несоизмерим с ним. Мир не существует без Бога, но Бог пребывает вне мира, как художник вне своего создания, и открывается миру по доброй воле в религии откровения. Естественная языческая религия исходит от человека и направлена к Богу; религия откровения исходит от Бога и направлена к человеку.
Так истолковываются два таинственных библейских стиха. С одной стороны, Бог говорит, что все боги народов – идолы, а Господь небеса сотворил (Пс., 95:5), а с другой стороны, тот же Бог говорит людям: «Я сказал: вы – боги, и сыны Всевышнего – все вы» (Пс., 81:6). В первом случае Бог провозглашает изначальное различие Творца и творения. Идолы – это хаотическая множественность бытия, зловещая в своем отпадении от Бога и клевещущая на Творца в своем распаде. Люди же суть истинные боги, потому что они богоподобны, а подобие совершенному прообразу невозможно без родства с Ним. Столкновение этих двух принципов составляет историю рода человеческого и его культуру. Люди уже были богами, но пожелали быть «как боги» (Быт., 3:5), то есть как ложные мнимые боги, как идолы, отпавшие от Бога и впавшие в дурную хаотическую множественность. Единение человека с Богом восстанавливается в Богочеловеке, во Христе; от самых истоков своей истории человек чаял, жаждал такого воссоединения. Поэтому в именах языческих божеств нередко присутствуют звуки истинного Божьего имени. Так, в латинском Jovis угадывается Яхве, в имени славянского бога Ярила слышится то же изначальное «я», «Хоре» воспринимается, как аббревиатура имени Христос, а имя славянского Даждь-бога включается даже в православную молитву «Отче наш»: «хлеб наш насущный даждь нам днесь». Так формулируется вывод, основополагающий для всей духовной жизни человека: Бог – Слово, боги – буквы.
Клавдия сделала паузу. Или голос ее осекся? Я воспользовался этим, чтобы спросить:
– Позвольте, а на какой странице впервые сказано: имя Божье есть Бог? На седьмой или на девятой?
– Но Бог не есть имя… Не забудьте! – вскинулась она, как бы возражая.
– Я-то помню, но я помню и то, что именно эта фраза давала повод к обвинениям Платона Демьяновича в ереси. На какой же все-таки это странице?
– Мало ли в чем его обвиняли… и обвиняют сейчас, но вы-то… вы-то знаете правду…
– И все-таки на какой же это странице?
Клавдия лихорадочно листала рукопись.
– Ну вот, вы почти угадали… на восьмой странице.
– Правильно. Но ведь это машинопись. А мне бы хотелось взглянуть именно на рукопись.
– А вы что… видели ее когда-нибудь?
– Разумеется. Вы же мне и показывали ее… в свое время. Мне так хочется снова взглянуть… на почерк.
– Но это мой почерк. Уже тогда я писала под его диктовку.
– Именно так. Но я в свое время научился на глаз определять, когда вы писали под диктовку, а когда переписывали от руки набело. Помните, у вас долгое время то ли не было пишущей машинки, то ли она была неисправна, то ли вы не умели печатать. Вот вы и записывали сначала со слуха, а потом переписывали. Так мне и хочется сличить оба эти варианта.
– Но зачем, зачем? Впрочем, я догадываюсь… догадываюсь, откуда… от кого вы мне звонили.
Я промолчал. Она взяла себя в руки и продолжала:
– Но дело не в этом, в конце концов. Давайте поступим по-другому. Хотите послушать новую запись его голоса?
– Новую запись?
– Да, новую запись. Это лекция «Троица на Руси».
Она включила магнитофон, и голос Платона Демьяновича с его характерными модуляциями заполнил комнату. Платон Демьянович анализировал образ Троицы в «Божественной Комедии» Данте и у Андрея Рублева. Он обращал внимание на загадочные строки в 33-й заключительной песни «Рая», в которых поэт вопрошает, найдется ли геометр, способный определить, как вписывается наш (человеческий) образ в один из трех кругов Троицы. Такой геометр нашелся на Руси, это был Андрей Рублев, утверждал Чудотворцев. Удлиненные овалы образов на иконе «Троица» и представляют собой уникальное решение задачи, сформулированной Данте. Во-первых, так человеческий образ вписывается в круг, и, во-вторых, так один и тот же прообраз Божества варьируется, являет свои различия в ипостасях. При этом Чудотворцев подчеркивал еще две основополагающие истины. Во-первых, Троицей Андрея Рублева убедительнейшим образом опровергается католическое учение об исхождении Святого Духа от Отца и Сына. Ипостаси на иконе Рублева едины, но различны, и ни про одну из них нельзя сказать того, что говорится про другую, а если бы Святой Дух исходил одновременно от Отца и Сына, различие между ипостасями исчезало бы, по крайней мере, в этом измерении, а тогда две ипостаси сливались бы в одну, и как можно было бы тогда говорить о Троице? Икона Рублева тем и хороша, что ею запечатлено непререкаемое различие ипостасей, без которого не было бы самой иконы, но, во-вторых, это различие зиждется именно на вариациях одного и того же Божественного Лика, так что на иконе созерцается именно Троица как Целое, а не каждая ее ипостась в отдельности или, не дай Бог, порознь. Родство между Данте и Андреем Рублевым устанавливается через Дионисия Ареопагита, чьим влиянием и обусловлено своеобразное, непреднамеренное вселенское православие Данте. Возможно, изначальное видение Сергия Радонежского, он же Тайновидец Троицы, было ближе к духовному опыту Данте. Андрей Рублев придал ему то выражение жертвенно-трагического, что столь зримо на его иконе и, по существу, отсутствует у Данте. В этом выражении сказалась мучительная проблематика именно Святой Руси, которая всегда болезненно переживала свое исконное, невольное, но и неотъемлемое манихейство. Ибо вместе с православием на Русь было занесено богумильство, как бы вернувшееся таким образом на свою родную скифско-иранскую почву Что же и главное в «Слове о полку Игореве», если не манихейская мистерия света и тьмы, все то, что впоследствии пышным цветом расцветет у Гоголя, самое имя которого совпадает с птицей гоголь, а она, по богумильским сказаниям, прилетает перед концом мира. Разве «Страшная месть» и «Тарас Бульба» – не позднейшие малороссийские варианты «Слова о полку Игореве», как и «Тихий Дон», чей герой казак (слово это справа налево и слева направо читается одинаково), ибо казак есть указующий, ему Бог путь кажет из земли Половецкой на землю Русскую, и путь этот – тропа Троянова в пространстве и Трояновы века во времени. Тут Чудотворцев принялся обстоятельно доказывать, что Троян в «Слове о полку Игореве» имеет лишь косвенное отношение к римскому императору, фактически означая Троицу, дохристианскую и одновременно христианскую. Далее Чудотворцев упоминал казачьего вероучителя Питирима Троянова. Родом он был старообрядец с Терека, отличился во время Балканской войны и, дослужившись до войскового старшины, вдруг начал проповедовать, причем его последователи сперва объявились среди болгар и, в особенности, среди сербов, привыкших выдавать свое богумильское манихейство, подкрепленное культом вампиров, за исконное православие, но секта трояновцев вскоре распространилась и на Дону, и на Кубани. Питирим Троянов в духе вполне иранском говорил, что есть две Троицы, одна святая – Троян, другая проклятая – Ятрон. Трояна составляют Светбог, Святбог и Сватбог (так Питирим дерзал называть Святого Духа). А к проклятой Троице, к Ятрону относятся Бледбог, Блядбог и Блудбог, так что Троян отражается в Ятроне, как в кривом зеркале. При этом Троян красный (красно солнышко), а Ятрон белый. Служители Трояна соответственно красные, а приспешники Ятрона белые, вот почему трояновцы поддерживали в так называемую гражданскую войну большевиков, что не помешало, впрочем, большевикам расстрелять их всех почти поголовно во время расказачивания. Так и красные сербы воюют против хорватов белых, и это священная война за славянское православие. Красные казаки и красные сербы объединятся и образуют боговолость Славию (тут Чудотворцев проводил параллель между боговолостью и джамахирией), а Красная Славия и красная Московия составят истинный Третий Рим, красную православную державу, всемирное соборное государство, где будет править сама Троица, что означает: То Цари.
– И когда это было записано? – спросил я, чтобы сказать что-нибудь.
– Позавчера, – ответила Клавдия с подчеркнутым спокойствием, твердо и прямо глядя мне в глаза. – Позавчера, в этой самой комнате. Когда он диктует, он всегда сидит в этом кресле. (Она указала на старинное, покойное кресло, о котором я упоминал.)
– Послушайте, Клавдия, – нерешительно начал я. – Нет, я не оспариваю того, что вы говорите. Это говорите вы, и для меня этого вполне достаточно. Но есть, извините меня, другие. И они могут принять против вас меры, извините меня, не совсем для вас приятные…
– Какие такие меры? – снова вскинулась Клавдия. – И кто такие они? Почему вы не говорите прямо «она»? Еще неизвестно, кому надо больше бояться теперь, мне или ей. Что касается меня, то я никогда не боялась. Слава Богу, я не беззащитна. (Она кивнула в сторону кресла.) Думайте что хотите, но он никогда не умрет. По правде говоря, меня другое мучит. Что с ним будет, когда я умру? Кто займет мое место? С кем будет он… диктовать?
И слезы, вечно таившиеся в нездешней голубой глубине ее глаз, явственно проступили, навернулись, нахлынули приливом, в котором я всегда боялся утонуть.
* * *
Сомнительно, чтобы Василий Евдокимович, коренной старообрядец, принадлежащий к Спасову Согласию, знал, кто такие хариты, но полностью исключить такого знания нельзя: стихийная, дикая осведомленность в святоотеческих писаниях, но также и в языческой философии, проникшей в эти писания, была распространена среди его свойственников. Достаточно сказать, что жена Василия Евдокия, урожденная Троянова, приходилась родной теткой Питириму Троянову, отличившемуся во время Балканской войны, награжденному тремя Георгиями, но, главное, вернувшемуся с Балкан проводником некой исконной казачьей веры. По слухам, он встретил там учителя или учителей (трудно сказать, кто они были: тайные богумилы или славянские суфии), они укрепили его в некоем родовом чаянье, хранимом в роду Трояновых. Трояновы тоже числили себя по Спасову Согласию, но, по словам Питирима, сама их фамилия происходила от имени Троян, обозначавшего Светлую Троицу. В нее входили Светбог, Святбог и Сватбог. Трояну противостоит Ятрон, Троян навыворот, темная троица, в которую входят Бледбог, Блядбог и Блудбог. Любопытно, что черная троица была представлена белым (Бледбог), а белое выступало в истории как черное. Напротив, Троян отличался красным цветом (Красное Солнышко). Приверженцы Трояна искони были красными, а приверженцы Ятрона – белыми. Во времени не происходило ничего, кроме борьбы красных с белыми. Отражалась она в вечности (на вечности), но об этом Питирим говорил неохотно. Зато он утверждал, что само имя Ятрон («я трон») означает притязание на вечную царскую власть. Ятрон – черный царь мира в трех лицах. Далее Питирим утверждал, что величайший из римских императоров Траян наречен именем «Троян». Просто в первом Риме акали, как акают в Риме Третьем. (Аканье – имперское, царственное произношение; произносить «а», когда пишется «о», значит исповедовать: Аз есмь Альфа и Омега, Первый и Последний.) Но, вообще говоря, имя императора происходит от города Троя, она же истинная колыбель всех трех Римов. Именно в Трое исповедовали истинную религию красного Трояна, за что Троя и была уничтожена белой гвардией Ятрона. Троянова тропа, упомянутая в «Слове о полку Игореве» – это, во-первых, тропа Светлой Троицы, во-вторых, тропа истинного Царя, и, в-третьих, троянская тропа, ведущая в Святое Царство. К этому Питирим вполголоса добавлял, что род Трояновых происходит от императора Трояна (будто бы где-то в тайнике у него хранилась даже родословная, которую, правда, кое-кто видел только мельком). Таким образом, Трояновы – истинные казаки (или козаки, опять-таки пример царственного оканья-аканья), они же троянцы царского рода, красное воинство Трояна.
Владимир Микушевич. Воскресение в Третьем Риме
Клавдия жила в Мочаловке на Совиной даче. Название это укоренилось в мочаловских преданиях и в обиходной речи. Мочаловские обыватели единодушно полагают, что происходит оно от совы. И действительно, в запущенном саду, который окружает дачу, до сих пор кричат совы. Однако выводить из этого обстоятельства название дачи исторически не совсем правомерно. Филолог заговорил бы о ложной этимологии и оказался бы тоже не совсем прав, так как сова имеет отношение к истории дачи, хотя названа была дача не в честь совиного крика, а в честь своего прежнего владельца присяжного поверенного Федора Ивановича Савинова. Несколько десятилетий назад кое-кто в Москве еще помнил дачу Савинова, но после войны разговор шел уже исключительно о Совиной даче.
Где-то в первой половине девятнадцатого века крестьянский мальчик Ваня Савинов, крепостной графов Шереметевых, отправился на ночную рыбную ловлю. Способ такой ловли известен: плывут на лодке или на плоту с факелом или с зажженным пучком смолистых лучин, огонь в темноте привлекает рыбу, и ее подкалывают острогой. Так и Ваня поддел острогой крупную рыбу и чуть было не уронил ее обратно в воду, когда увидел, что рыба с крыльями. Огромная сова пролетала ночью низко над озером и вцепилась когтями в спину щуке, плывшей у самой поверхности воды. Щука уволокла сову под воду, где та захлебнулась, но не разжала когтей. Так появились у щуки совиные крылья, и с этими крыльями она плавала по озеру некоторое время, пока ее не поддела острога Вани Савинова. Так возникло знаменательное словосочетание «сова Савинова», несомненно, воздействовавшее на дальнейшую Ванину жизнь и, как увидим, даже на судьбу его потомков. Сова-утопленница вывела Ваню, так сказать, на дорогу Граф Шереметев отпустил юношу в город, в учение, откуда он бежал и нашел себе занятие на волжских тонях, после чего вернулся с повинной и отпросился у барина на оброк. Сперва Ваня Савинов ловил рыбу, потом помаленьку принялся торговать ею, открыл способ доставлять свежую рыбу в Москву, в Петербург и даже в Париж (свежая стерлядь по-савиновски упоминается чуть ли не у Эдмона Гонкура). После отмены крепостного права Иван Савинов так преуспел, что вышел в купцы первой гильдии, но сын его Федор, окончив Московский университет, к великому огорчению отца отошел от рыбных дел, стал присяжным поверенным и на своем поприще отличился не меньше. Он-то и купил на исходе девятнадцатого века в Подмосковье на берегу речки Таитянки земельные угодья, где построил едва ли не первую мочаловскую дачу.
* * *
Говорили и о неких таинственных собраниях в задней комнате на даче Савинова, однако сам Федор Иванович всегда смеялся над этими слухами, правда, как-то слишком уж нарочито.
Профессиональная деятельность Ф.И. Савинова шла при этом безупречно. За сорок с лишним лет своей адвокатской практики он не проиграл ни одного процесса. Ф.И. Савинов славился тем, что защищал революционеров и в их числе большевиков. Это сослужило ему хорошую службу после октябрьского переворота. Новые хозяева сохранили за ним и московскую квартиру, и мочаловскую дачу. В эпоху военного коммунизма Ф.И. Савинов получал академический паек, а когда был объявлен НЭП, снова начал выступать в судебных процессах, главным образом хозяйственных. Но и НЭП недолго продержался, и работы в судах у Федора Ивановича поубавилось. Он числился юрисконсультом в нескольких учреждениях и продолжал работу над своими мемуарами, а также над книгой «Русская неправда», над которой работал уже много лет. Федор Иванович считал себя в известном смысле продолжателем князя Щербатова и по-своему описывал историю повреждения нравов на Руси. Ф.И. Савинов доказывал, что петровские реформы исказили традиционное правосознание на Руси своей принципиальной, воинствующей противоправностью. Они посягнули на русскую правду, не руководствуясь при этом никаким правом, и получилась русская неправда. Жертв этой неправды Федор Иванович и пытался всю жизнь защищать. Главы из его книги печатались в разных журналах, издательство ЗИФ заключило с ним договор на издание его мемуаров и «Русской неправды», жизнь худо ли, хорошо ли длилась, пока не произошло одно событие. Однажды на дачу в Мочаловке пришла институтская подруга Варвары Маврикиевны. Вся в слезах, пожилая дама рассказала, что ее муж, известный инженер, специалист по сахароварению, был арестован за вредительство и отдан под суд. Дама умоляла Федора Ивановича выступить на суде защитником. Федор Иванович, подумав, согласился, выступил на суде и ко всеобщему изумлению выиграл процесс, как и всегда выигрывал. Инженер был оправдан за отсутствием состава преступления. И прокурор, и судьи попросту спасовали перед патриархальной элегантностью защиты. Федор Иванович застал блюстителей революционной законности врасплох. Он припер к стенке тех, кто привык ставить к стенке. Не только сам инженер, но и его так называемые соучастники были освобождены. Западные газеты зашумели о возврате к правовым нормам в Советской России. Дачу и квартиру Федора Ивановича штурмовали родственники других арестованных с мольбой о защите. Федор Иванович никому не отказывал, но и не давал никому согласия. Он был слишком проницателен для того, чтобы торжествовать победу и делать далеко идущие выводы. К тому же с ним, как выяснилось, уже всерьез беседовали его высокопоставленные партийные знакомые. Его напрямик спрашивали, как это он, давний защитник большевиков, теперь защищает контрреволюционеров. Федор Иванович только руками в ответ разводил. Он пытался объяснять, что защищал большевиков не потому, что им симпатизировал, а потому, что обвинения против них не имели надлежащего правового обоснования, как не имеют правового обоснования обвинения против теперешних вредителей, чью невиновность он как юрист берется доказать, так что его позиция не менялась, и он верен себе. «Это не позиция, а оппозиция», – услышал он однажды от своего собеседника, и этот ярлык прочно к нему приклеился.
Его оправданный подзащитный был в один прекрасный день снова арестован. Его никто больше не судил. Он просто исчез без права переписки, как тогда говорили. За ним последовали другие оправданные соучастники. А выступления Федора Ивановича в суде больше не допускались. Ему оставалось только дописывать книги, но о публикации этих книг больше не было речи. Федор Иванович и Варвара Маврикиевна жили только тем, что сдавали на лето дачу. Так продолжалось, пока однажды ночью у себя на даче не был арестован сам Федор Иванович.
Ему тогда было уже за шестьдесят. Никто из его старых друзей не отважился защищать прославленного защитника. Защитник был назначен судом. На закрытом процессе Федора Ивановича приговорили к десяти годам за контрреволюционную деятельность.
Еще не настала полоса, когда жены врагов народа подлежали аресту наряду с мужьями. Варвара Маврикиевна мыкалась на свободе. В это время знаменитый на весь мир нейрохирург профессор Луцкий, снимавший у нее дачу, старомодно попросил у нее руки ее младшей дочери Дарьи Федоровны. Старший сын Федора Ивановича Валерьян дано уже был за границей, оказавшись там вместе с остатками белой армии. Средняя дочь Наталья была замужем за преуспевающим советским архитектором. Непристроенной оставалась только тридцатилетняя Дарья, подрабатывавшая переводами и частными уроками иностранных языков. Ее роман с профессором Луцким не ускользнул, разумеется, от внимания матери. Варвара Маврикиевна понимала, что ее согласие или несогласие на этот брак было простой формальностью, но она благословила дочь охотно, так как уважала мужество профессора, решившегося на брак с дочерью осужденного контрреволюционера. Вскоре после свадьбы она оформила дарственную на дачу, передав право собственности зятю, а не дочери (не ровен час, вдруг дачу конфискуют), после чего скоропостижно скончалась на руках у Софьи Смарагдовны. Никто не отваживался называть фамилию Федора Ивановича после его ареста, и савиновская дача превратилась в Совиную.
Вениамин Яковлевич Луцкий был старше своей жены без малого на четверть века. Его отец, известный московский присяжный поверенный Яков Исаакович Луцкий дал своему младшему сыну имя сообразно библейскому преданию, особенно если принять во внимание то обстоятельство, что прадед Вениамина Яковлевича звался Авраам. Исаак Луцкий еще оставался верен семейной традиции, будучи раввином, но его сын Яков предпочел юридическую карьеру, окончив Московский и Гейдельбергский университеты. Яков Исаакович поддерживал дружеские отношения с Федором Ивановичем Савиновым, хотя избегал выступать в политических процессах, предпочитая им авторское право и тяжбы о наследствах. В этих делах Яков Исаакович не имел себе равных. Были у него и кое-какие литературно-научные интересы. В специальном труде он досконально исследовал все процессы, посвященные ритуальным убийствам. Пользовались также известностью его труды, в которых он подробно рассматривал судебную практику инквизиции, в особенности дела о черной магии и колдовстве. Либеральные читатели были в свое время страшно шокированы этими трудами. С одной стороны, Яков Исаакович показывал, с каким казуистическим артистизмом фальсифицировались и доводились при этом до зловещей убедительности дела о ритуальных убийствах и об отравлениях колодцев во время эпидемий, но в то же время он исчерпывающим образом доказал: что касается дел о колдовстве, не только судьи были совершенно уверены в виновности обвиняемых, но и сами обвиняемые не сомневались в ней, когда речь шла о союзе с дьяволом, так что их признания были вполне искренними, даже если они делались под пыткой. К пытке приходилось прибегать потому, что далеко не все обвиняемые были готовы признаться в своей вине, храня верность своему страшному союзнику. У костров было тоже свое спасительное назначение. Предполагалось, что в пламени костра преступник лучше представит себе адское пламя и покается хоть в последнюю минуту. Впрочем, и добровольно раскаявшиеся нередко умоляли подвергнуть их сожжению, если отец инквизитор уверял их, что нет другого средства спастись от адских мук. Таким образом исследования Якова Исааковича убедительно доказывали старую истину: дорога в ад вымощена благими намерениями. Добрая воля судей и подсудимых не только не удерживает суд от ужасающе противоправных приговоров, но нередко даже способствует им. В принципе вся аргументация Якова Исааковича была направлена против «царицы доказательств», как инквизиция называла чистосердечное признание обвиняемого, но изощренная техника ее адептов описывалась с такой добросовестной точностью и тонкостью, что от книг доктора Луцкого исходил особого рода соблазн. Разумеется, Яков Исаакович перевернулся бы в своей могиле, если бы узнал, что его труды используются обвинением при подготовке дела Бейлиса, но, говорят, их внимательным читателем был и выпускник Киевского университета Андрей Януарьевич Вышинский, и сам Сталин заглядывал в них, когда готовилось дело врачей-вредителей. Конечно, такие читатели старательно игнорировали главный вывод старого правоведа, выдержанный в духе Иммануила Канта: правосудие и вообще социальная жизнь может основываться лишь на вечной, незыблемой, непререкаемой правовой норме, независимой от субъективных намерений, дурных или даже добрых. В отличие от Н.С. Лескова, Яков Исаакович полагал, что от хороших людей мало проку без хороших порядков, и находил этому множество подтверждений в сочинениях самого Лескова. В безусловной приверженности к правовой норме стойким единомышленником Якова Исааковича был Федор Иванович Савинов. Объединяла обоих также страсть к искусству. Яков Исаакович имел обыкновение присутствовать на всех спектаклях «Красной Горки» и даже ввел малолетнего Вениамина за кулисы этого театра. У Вениамина рано обнаружился незаурядный талант скрипача, и, усиленно поощряя эту его склонность, отец послал сына учиться за границу, где произошло непредвиденное: юноша вдруг оставил музыку и поступил на медицинский факультет Гейдельбергского университета.
За этим вскоре последовало и другое событие, не слишком примечательное само по себе, но окончательно оторвавшее Вениамина от его набожной иудейской родни. Вениамин Яковлевич перешел в христианство. Правда, принял он не православие, а лютеранство, так что корыстные мотивы, связанные со статусом полноправного гражданина Российской Империи, при этом если не совсем исключались, то, во всяком случае, не были решающими. Вениамин приобрел бы все права, если бы окончил Московский университет, что при его блестящих способностях было ему вполне доступно. Собственно, окончив классическую гимназию, он уже занял в русском обществе подобающее положение. Очевидно, он переменил вероисповедание в силу каких-то более глубоких и сложных причин. Этот шаг привел его к разрыву с невестой, что не прошло для него безболезненно, хотя очаровательная скромница Розалия Сапс никогда не разделяла его интеллектуально-артистических порывов, прилежно готовясь лишь к роли жены и матери. Правда, Розалия продолжала питать сердечную склонность к Вениамину, но семья Сапс решительно воспротивилась браку с новоявленным выкрестом. Ходили слухи, будто крещение Вениамина вызвало преждевременную смерть Якова Исааковича, но, по другим версиям, он смотрел на поступок младшего сына снисходительнее, чем следовало бы, и действительно умер через два года после этого скорее потому, что тяжело переносил разлуку с ним. Вениамин же был совершенно поглощен своими научными занятиями, а если что всерьез и настораживало отца, так это их направленность, слишком напоминавшая ему предмет его исследований. Вениамин принял лютеранство лишь для того, чтобы примкнуть к секте так называемых элементариев или фаустианцев.
Вступление в эту секту было сопряжено с одним странным требованием. Иудею предписывалось принять христианство, а христианину перейти в иудаизм. (Подобное требование предъявлял к своим последователям, десным христианам в России их духовный глава, штабс-капиган Ильин.) Элементарии стремились соединить учение Спинозы с учением Якова Бёме. Предшественником того и другого они считали Фауста. По их учению, Фауст заключил договор с дьяволом, чтобы доказать или восстановить изначальное единство мира. Зло происходит от того, что человек мыслит зло, противопоставляя зло добру. Иранский дуализм со всевозможными манихейскими ответвлениями элементарии объявляли религией грехопадения, не его следствием, а его причиной. Истинную суть Сатаны совершенно и точно выразил Гёте: «Ein Teil von jener Kraft, die stets das Boese will und stets das Gute schafft». Элементарии причисляли к своим последователям Парацельса, Гёте и Новалиса. Говорили, будто их влияние испытывал Гегель. Негласным последователем элементариев считался Альбэрт Эйнштейн. Отголоски их идей слышатся в романе Томаса Манна «Доктор Фаустус». Само имя Адриан вызывало у меня ассоциации с духовным опытом доктора Луцкого, который назвал так своего сына за несколько лет до того, как Томас Манн начал писать своего «Фаустуса». Как-никак лейтмотив этого романа «elementa spekulieren» из народной книги о Фаустусе всегда был девизом элементариев. Но главный принцип их учения формулировался в четырех словах: «Нет ничего, кроме Бога».
Идеи элементариев, несомненно, стимулировали исследовательскую работу ученых в двадцатом веке, хотя это обстоятельство и не принято афишировать. По всей вероятности, элементарии имели отношение к расщеплению атома, хотя подобные опыты приписывают еще алхимикам. Так что приверженность Вениамина Луцкого к фаустианству и все те жертвы, которые он принес во имя этой приверженности, вообще говоря, вполне объяснимы. Конечно, нельзя с уверенностью сказать, что именно фаустианству Вениамин Яковлевич был обязан своими профессиональными успехами, но сами эти успехи настолько очевидны, что они наводят на такую мысль. Подающий надежды скрипач оказался незаурядным нейрохирургом. Ему еще не было тридцати лет, а некоторые его операции вызвали сенсацию в медицинском мире. Первая мировая война застала доктора Луцкого во Франции. В Германии он был бы наверняка интернирован как русский подданный. Во Франции Вениамин Яковлевич женился на юной красавице маркизе Изабель де Мервей. Ее отцу он спас жизнь. В 1915 году у Луцкого родилась дочь Антуанетта. Доктор Луцкий не собирался возвращаться в Россию, где ширилась октябрьская смута, но в 1922 году к нему обратились с настоятельной просьбой осмотреть Ленина, чье здоровье внушало серьезные опасения. Высказывалось предположение, что виртуозная операция, произведенная доктором Луцким, могла бы спасти жизнь вождю революционной России. Доктор Луцкий был склонен отклонить это предложение, но творческий интерес хирурга взял верх. Говорили, впрочем, что на него оказал давление кто-то из влиятельных элементариев. Доктор Луцкий приехал в Россию буквально накануне пресловутой высылки философов, но философов выслали, а доктора Луцкого больше не выпустили, хотя он и признал болезнь Ленина безнадежной. У него было свое мнение об этой болезни, но если он с кем-нибудь и поделился этим мнением, то только с Платоном Демьяновичем Чудотворцевым. Откровенные беседы с Вениамином Яковлевичем, возможно, как-то отразились в анекдоте, который иногда отваживался рассказывать с глазу на глаз Платон Демьянович. На улице вывешен лозунг: «Ленин умер, а дело его живет». Старичок проходит мимо и говорит: «Ой, какой хороший Ленин! Лучше бы он жил, а дело его умерло бы».
Жена Вениамина Яковлевича Изабель де Мервей-Луцкая никак не могла понять, почему ее муж не возвращается. Она симпатизировала большевистской революции, как многие тогдашние интеллектуалы, порывалась приехать к нему в Москву и очень удивлялась, почему в своих редких и немногословных письмах Вениамин Яковлевич упорно отговаривает ее от этого. Изабель вообразила наконец, что у ее супруга в России завелась другая женщина, и вопреки всем его возражениям без всякого предупреждения вдруг нагрянула к нему в Москву буквально как снег на голову, да еще с дочкой. Это произошло уже после высылки Льва Троцкого за пределы СССР. Госпожа де Мервей-Луцкая считала себя как раз троцкисткой и не скрывала этого. Возможно, на ее приезд в Россию повлиял кое-кто из советских агентов влияния в Париже. Ее не только не выпустили больше из Советского Союза, но через два месяца арестовали, и она умерла на этапе, не доехав до Колымы.
Арест матери потряс Антуанетту. Она росла исключительно под материнским влиянием, от матери переняла безудержное увлечение коммунистической идеей и атрибутикой, всем красным: от флагов до галстуков и маков. Отец ничего не мог объяснить девочке. Он сказал ей только, что так теперь бывает и мама, может быть, скоро вернется. В сущности, Антуанетта мало знала отца. Он и раньше сутками пропадал в своей клинике, а теперь девочка была обречена на полное одиночество в городской квартире профессора. Правда, ежедневно приходила домработница, но Антуанетта не могла даже перемолвиться с ней словом, так как совсем не говорила по-русски. Девочке ничего другого не оставалось, кроме как выработать свою версию произошедшего. Антуанетта решила про себя, что мать пострадала за свое аристократическое происхождение, за роковую вину своих предков перед народом. Но эта вина, это роковое, родовое проклятие лежало также на ней. Антуанетта жаждала искупления. Она хотела слиться с революционным народом, с пролетарскими массами, рвалась куда-нибудь на завод, но отец со свойственной ему мягкой сдержанностью напоминал ей, что она даже не говорит по-русски. Целыми днями Антуанетта в отчаянье металась по просторной профессорской квартире. Стояло жаркое лето 1929 года. На селе свирепствовала коллективизация. И тогда в квартире появилась Софья Смарагдовна.
Она, впрочем, бывала у профессора Луцкого и раньше. Слухи о ее посещениях доходили даже до Парижа, где Изабель подозревала, что из-за этой женщины ее муж остался в России и возражает против приезда жены с дочерью. Эти подозрения только укрепились, когда Изабель увидела Софью Смарагдовну. Изабель даже не задалась вопросом, сколько этой женщине лет. В золотисто-каштановых волосах Софьи Смарагдовны не было ни единого седого волоса. Неудивительно, что Антуанетта встретила гостью настороженно, но Софья Смарагдовна на безупречном французском языке предложила девочке в короткий срок обучить ее русскому, а когда пришел Вениамин Яковлевич, посоветовала ему отпустить Антуанетту на дачу к Федору Ивановичу Савинову, где, по крайней мере, все говорят по-французски, Вениамин Яковлевич не возражал. Ему самому было что вспомнить в связи с этой дачей и с театром «Красная Горка». Вениамин Яковлевич приехал с дочерью на очередной спектакль театра, приуроченный к вечеру накануне Ивана Купалы, хотя говорить об этом теперь не полагалось. Театр был все еще не совсем запрещен благодаря покровительству Анатолия Васильевича Луначарского, но влияние последнего катастрофически слабело, и театра не ликвидировали только потому, что горка как-никак красная, то есть рабоче-крестьянская (характерное переиначивание значения, как в словосочетании «Красная площадь»). Театр числился как самодеятельный драмкружок при мочаловском кинотеатре; постаревший Михаил Серафимович Ярилин (свою фамилию Предтеченский он старался по возможности не упоминать) считался руководителем этого драмкружка. На очередную «Снегурочку» съехалось много зрителей. Некоторые виделись друг с другом только в этот день. Антуанетта посмотрела спектакль и осталась на даче Савинова.
* * *
– Значит, и жильцы на даче без ведома Адриана?
– Во-первых, это не жильцы, а охрана, – ответила Клавдия, – а во-вторых, они здесь, может быть, и с его ведома, я просто не знаю. Меня это не касается. Какие-то переговоры с ним, во всяком случае, ведутся.
– Охрана? Переговоры? Как все это прикажете понимать?
– Надеюсь, вы не возражаете против того, что архиву Платона Демьяновича нужна охрана… в наше время?
– Кто же ее обеспечивает? Неужели Адриан?
– Я уже сказала вам: Адриан Вениаминович не интересуется ничем, кроме своих «Duration and Infinity». (Английское произношение Клавдии оставляло желать лучшего.) Это все Всеволод Викентьевич (голос Клавдии угас, поник при этом имени, совсем как у Киры, едва ли не единственная черта сходства между ними), да, Всеволод Викентьевич Ярлов.
– Лидер ПРАКСа?
– Его так называют, но дело не только в этом. Он провозвестник русской идеи. Последователь Платона Демьяновича.
Я пытался уловить иронию в голосе Клавдии, но не уловил, и это, может быть, свидетельствовало о том, что ирония Клавдии беспредельна, но не исключено, что Клавдия говорит всерьез.
– Так это и газ вам ПРАКС провел? – совсем уже невпопад сказал я.
– Как будто бы они действительно этим занимались. По распоряжению Всеволода Викентьевича.
– Надеюсь, также и с вашего согласия?
– При чем тут мое согласие! Какое отношение я имею к этой даче! Я всегда хорошо помню, что я здесь гостья… Но я не возражала…
– Насколько я понимаю, Адриан доверил дачу вам…
– Что значит «доверил»? Никакой доверенности он мне не выдавал… Дачей распоряжаться я никак не могу… Говорю вам, я здесь гостья… или сторожиха, если не сказать, что я здесь вообще проживаю из милости…
– Клавдия!
– Так ведь оно и есть, Иннокентий Федорович. У меня никогда не было собственной жилплощади.
– Я всегда думал, что Адриан рано или поздно подарит эту дачу вам…
– Может быть, он так и сделал бы… если бы ему пришло в голову… Но он мало интересуется… этой дачей у себя в Америке. Ему дела нет, что здесь протекает крыша. Правда, и это еще не беда, можно подставлять ведра… Но теперь дача отремонтирована… благодаря Всеволоду Викентьевичу…
– На каких же условиях господин Ярлов ремонтирует чужие дачи? Он что, меценат, или спонсор, как теперь говорят?
– Повторяю вам, я не знаю подробностей… Как будто ведутся переговоры о приобретении этой дачи…
– Переговоры с Адрианом?
– С Адрианом Вениаминовичем. Кажется, он склонен согласиться.
– А как же вы?
– Всеволод Викентьевич настолько любезен, что предлагает мне жить здесь и впредь… как я жила до сих пор… (В ее голосе прорвалась наконец ирония.)
– И то хорошо.
– Хорошо. Кроме того, он предлагает мне двухкомнатную квартиру. В Москве.
– Просто так предлагает? Без всяких условий?
– На этот вопрос я не могу вам ответить. Я сама еще не решила.
– А как же архив?
– Ну, это-то просто… Где архив, там и я.
– Что же будет здесь, на даче?
– Предполагается создать здесь музей… Платона Демьяновича.
Владимир Микушевич. Воскресение в Третьем Риме
Первая лекция называлась, помнится, «Апостол бессмертия». Ход мысли был характерен для Чудотворцева и хорошо мне знаком по другим источникам. Лектор анализировал известный стих Евангелия: «́аще хощу, да т́ой пребываетъ, д́ондеже прiиду, что къ тебѣ; ты по мнѣ гряди. Изыде же сл́ово с́е въ бр́атiю, яко ученикъ той не умретъ» (Иоанн, 21:22–23). Лектор говорил о том, что бессмертие Иоанна Богослова было совершенно несомненным для христианской традиции, в особенности для восточно-христианской традиции. Стих «обновится яко орля юность твоя» традиция связывала именно с Иоанном. Потому и символом евангелиста Иоанна стал орел, которого, согласно Физиологу, омолаживает приближение к солнцу, а солнце – известная аллегория Христа, Который есть Солнце Правды. Иоанн возлежит на Тайной Вечере на персях Иисуса, и в Евангелии прямо говорится, что Иисус любил его. Некоторые еретические движения позволяли себе на этом основании говорить об особом эротизме их отношений (оба девственники, у обоих нет жен). Лектор, естественно, отметал эту ересь, но ссылался на отцов церкви, называвших Христа божественным Эросом. Подчеркивал он и то, что особая близость между девственником Иоанном и Девой Марией возвещена Самим Христом с креста. Этим так же подтверждается, что оба не умрут. Далее лектор проводил сначала осторожную параллель между Иоанном Богословом и пресвитером Иоанном, легендарным праведным правителем восточного царства, а потом приходил к выводу, что пресвитер Иоанн и есть бессмертный Иоанн Богослов на троне. Трон его – истинный трон Святой Руси. Иоанн Богослов – невидимый истинный царь Святой Руси, и мусульманские мистики имеют его в виду, когда говорят о скрытом имаме. Эта же идея, по мнению лектора, проводится Вячеславом Ивановым в его «Повести о Светомире Царевиче». Не случайно Русь осознала себя Третьим Римом при Иоанне Третьем, а Иоанн четвертый Грозный стал ее величайшим царем. Царица Небесная правит Святой Русью совместно с Иоанном Бессмертным, апостолом православия, и так будет до второго пришествия.
Я невольно достал блокнот и принялся заносить в него основные мысли лекции. Кира с негодованием выхватила блокнот у меня из рук:
– Ты конспектируешь… конспектируешь эту лажу, эту фальшивку… И ты уверен, что это его голос!
Я даже не задумался над тем, его ли это голос, настолько несомненно было для меня, что я слушаю Платона Демьяновича.
– По-моему, это его голос, – ответил я, – да и подобные мысли встречаются в его работах в тридцатые – сороковые годы. Здесь они только четко сконцентрированы.
– А кто записывал его на магнитофон в тридцатые – сороковые годы? Да и где: на Соловках или на Лубянке?
– Что же, на Лубянке вполне могли его записывать. Техника позволяла…
– Лекции он там, что ли, по-твоему, читал? Да и расстреляли бы его за такую лекцию.
– А вот на этот счет существуют разные мнения, – возразил я. – И у такой лекции уже тогда могли найтись благосклонные и влиятельные слушатели.
– Так ты считаешь, что лекция могла быть записана тогда?
– Не исключаю.
– Хорошо, а что ты скажешь о таком тексте?
Следующая лекция была посвящена Софии Премудрости Божией. Лектор говорил о том, что Пифагор первым ввел вместо слова «софия» – «мудрость» слово «философия», то есть любомудрие. В этом лектор усматривал своеобразное смирение мыслителя, дерзавшего лишь любить Софию, а не возвещать ее, но из этого явствовало, что только любовь способна познать Софию и такое познание есть эрос. Так познал Еву Адам, и она зачала. Но прежде чем познать жену свою, Адам познал различие между добром и злом, различие ложное, ибо для любви нет зла, и его не было бы, если бы Адам сначала познал жену свою. Напротив, Иосиф Прекрасный отверг в Египте ложный гнозис, отказался познать жену Потифара, искушавшую его, и оказался спасителем тогдашнего человечества, уподобился Богочеловеку Христу, стал ветхозаветным прообразом Его. Самое имя «Иосиф» есть анаграмма «Софии». Становилось ясно, какого Иосифа также подразумевает лектор, когда речь зашла о всенародной собственности на землю и о первом в истории народно-хозяйственном плане.
– И это, по-твоему, мог говорить Чудотворцев? – брызгала слюною Кира, обнаруживая изъян в передних зубах (обычно сигарета скрадывала его. Не потому ли она и курила постоянно?).
Я подтвердил, что Чудотворцев вполне мог это говорить. Подобные идеи встречаются в его капитальном труде конца тридцатых годов, который известен под названием «Оправдание зла». НКВД арестовал этот труд, изъял его из архива. Сохранились только наброски, черновики. Впрочем, Клавиша утверждает, что то ли она восстановила полный текст рукописи под диктовку Платона Демьяновича, то ли Марианна Бунина передала ей экземпляр, спрятанный самой Марианной. Ни то ни другое, вообще говоря, не исключается, чего сама Кира не может не знать.
Я сказал это и тут же пожалел. Кира была вне себя.
– А что ты об этом скажешь? – дернулась она, поставив третью кассету. Я не сразу понял, что ее так возмущает. Речь шла о музыке. Лектор рассматривал «Хованщину» как русскую «Гибель богов». И Вагнер, и Мусоргский, по его мнению, отвергли оперу ради музыкальной драмы, восстанавливая в конечном счете эллинскую трагедию, в которой предвкушается литургия, мистерия смерти и воскресения. Гадание Марфы аналогично древнегерманскому прорицанию Вельвы. Досифейг князь Мышецкий, – князь Мышкин семнадцатого века, духовный вождь, идиот с точки зрения либерального народничества. В то же время Досифей – Николай Клюев, влюбленный в Сергея Есенина, в ангелоподобного Андрея Хованского. Андрей должен был бы стать царем вместо Петра, а тогда царица – Марфа, княгиня Сицкая, раскольничья муза, alter ego Досифея. Она оплакивает, отпевает Андрея перед самосожжением, как оплакивал самоубийцу Есенина Клюев. Скит, где затворилась Святая Русь, должен сгореть, как Белый дом. Иван Хованский – столп и утверждение Святой Руси, но его обрекает в жертву Шакловитый – Руцкой ради стрелецкого гнезда. Но «Хованщина» существенным образом отличается от «Гибели богов». «Рассвет на Москве-реке», по мнению лектора, – не пролог, а финал музыкальной драмы, и это не траурный марш Вагнера, это скорее православное песнопение «Свете тихий». «Рассветом на Москве-реке» начинается воскресение в Третьем Риме.
Мысли эти захватили меня своей новизной. Чудотворцев работал над исследованием «Вагнер и Мусоргский», которое не успел закончить. Лекция как бы подытоживала неоконченное исследование. Я так увлекся, что не обратил внимания на одно кричащее обстоятельство, а оно-то и приводило Киру в бешенство. Она выключила магнитофон, выплюнула на пол сигарету и проскрежетала:
– Ты что, совсем охренел? Ты помнишь, в каком году умер Чудотворцев?
– Помню. В 1972-м.
– А когда появился Руцкой? Когда была осада Белого дома? Соображаешь?
Только тут, признаюсь, до меня дошло: в лекции говорилось о событии, произошедшем через двадцать один год после смерти Чудотворцева. Это было слишком даже для пророчества.
– Ну что? ну что? – надрывалась Кира. – Что ты на это скажешь? И ты будешь доказывать, что это не фальшивка?
– Допустим, но как изготовлена эта фальшивка? Голоса ведь не подделаешь, вы не будете… ты не будешь отрицать.
– Да, голос похож, но ты Клавишу свою спроси, как ей это удалось. Я требую, чтобы ты вывел ее на чистую воду, призвал ее к ответу!
– Как я могу это сделать?
– Нет, милый мой, не отвертишься. Тебе придется объясниться с ней, предупредить ее…
В. Микушевич «Воскресение в Третьем Риме»
...Как откровению, я тишине внимаю,
Не отрывая глаз от звездной вышины,
И мнится, что опять душою постигаю
Таинственную речь и звезд и тишины...
Иван Бунин
Чужие сознания нельзя созерцать, анализировать, определять как объекты, как вещи. С ними можно только диалогически общаться. В монологическом мире мысль либо утверждается, либо отрицается. Отрицаемая чужая мысль неспособна создать рядом с одним сознанием полноправное чужое сознание, если это отрицание остается чисто теоретическим отрицанием мысли как таковой. Наиболее яркое и теоретически отчетливое выражение принципа идеологического монологизма получили в идеологической философии. На почве философского монологизма невозможно существование взаимодействия сознаний, а поэтому невозможен существенный диалог. Носителем полноценной идеи может быть только человек в человеке с его свободной незавершенностью и нерешённостью. Идея живёт не в изолированном индивидуальном сознании человека, оставаясь только в нём она вырождается и умирает. Идея начинает жить, то есть формироваться, развиваться, находить и обновлять своё словесное выражение, порождать новые идеи, только вступая в существенные диалогические отношения с другими чужими идеями. Идея - это живое событие, разыгрывающееся в точке диалогической встречи двух или нескольких сознаний.
Михаил Бахтин
КАРНАВАЛ - культурный и массовый поведенческий феномен, фундированный соответствующим "типом образности" (М.М.Бахтин). Выступал значимым компонентом средневековой и ренессансной народной культуры. Используется в современной философии культуры. Многомерный анализ К. в культурологическом контексте был впервые осуществлен в книге М.М.Бахтина "Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и "Ренессанса" (первый вариант рукописи был завершен в 1940; первое издание - Москва, 1965; переведена на многие языки). Отказавшись от традиционалистских описаний социального фона эпохи Возрождения и от рассмотрения передовых взглядов Рабле-гуманиста, Бахтин сосредоточился на исследовании античных и особенно средневековых истоков романа Рабле "Гаргантюа и Пантагрюэль". Бахтину удалось понять и разгадать (в контексте реконструкции, по мысли академика АН СССР М.П.Алексеева, "народно-фольклорной традиции средневековья") ряд особенностей изучаемого произведения, давно казавшихся исследователям очень странными. Присущее "Гаргантюа и Пантагрюэлю" парадоксальное сочетание многочисленных "ученых" образов и простонародной (а часто и непристойной) комики Бахтин объяснил значимым воздействием на Рабле площадной смеховой культуры средневековья, возникшей в гораздо более ранний период, но достигшей своего полного расцвета к 16 в. По мнению Бахтина, не только Рабле, но и Дж.Бокаччо, У.Шекспир, М.Сервантес оказались подвластны обаянию жизнеутверждающей и светлой атмосферы, свойственной К. и другим народным праздникам того времени. Карнавальная культура обладала хорошо разработанной системой обрядово-зрелищных и жанровых форм, а также весьма глубокой жизненной философией, основными чертами которой Бахтин считал универсальность, амбивалентность (т.е. - в данном случае - восприятие бытия в постоянном изменении, вечном движении от смерти к рождению, от старого к новому, от отрицания к утверждению), неофициальность, утопизм, бесстрашие. В ряду обрядово-зрелищных форм народной средневековой культуры Бахтин называл празднества карнавального типа и сопровождающие их (а также и обычные гражданские церемониалы и обряды) смеховые действа: "праздник дураков", "праздник осла", "храмовые праздники" и т.д. Народная культура воплощалась также в различных словесных смеховых произведениях на латинском и на народных языках. Эти произведения как устные, так и письменные, пародировали и осмеивали буквально все стороны средневековой жизни, включая церковные ритуалы и религиозное вероучение ("Вечерня Киприана", многочисленные пародийные проповеди, литургии, молитвы, псалмы и т.д.). Веселая вольница карнавального празднества порождала разнообразные формы и жанры неофициальной, а чаще всего и непристойной фамильярно-площадной речи, в значительной мере состоящей из ругательств, клятв и божбы. На карнавальной площади всегда настойчиво звучали возгласы балаганных зазывал, которые - вместе с другими "жанрами" уличной рекламы ("крики Парижа", крики продавцов чудодейственных средств и ярмарочных врачей) - обыгрывались и пародировались, становясь при этом важным элементом народной смеховой культуры. По мысли Бахтина, Рабле объединил в романе "Гаргантюа и Пантагрюэль" все эти формы, жанры и мотивы, сохранив их для потомков и создав тем самым своего рода "энциклопедию" средневекового смеха. Причем, с точки зрения Бахтина, опора на смеховую народную культуру не только не противоречила гуманистическим идеалам Рабле, но, напротив, гармонично сочеталась с ними и даже помогала их пропаганде, поскольку "карнавальное мироощущение является глубинной основой ренессансной литературы". Как отмечает Бахтин в книге "Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и "Ренессанса", "как бы ни были распылены, разъединены и обособлены единичные "частные" тела и вещи - реализм Ренессанса не обрезывает той пуповины, которая соединяет их с порождающим телом земли и народа". Например, "реабилитация плоти", характерная для гуманизма, соотносима и сродственна с "гротескной концепцией тела", с преобладанием "материально-телесного начала жизни", присущим народной культуре. Смеховая народная культура, будучи древней, архаичной по своим истокам, тем не менее предвосхитила некоторые фундаментальные философские концепты, которые специфичны для Нового времени. Согласно оценке Л.Е.Пинского, "в эпоху Ренессанса нерушимую иерархическую вертикаль средневекового официального представления о космосе ("Великую Цепь Бытия") сменила историческая горизонталь: движение во времени. В гротескной концепции тела, переживающего становление в народно-праздничных играх, предметом которых был веселый ход времени, рождалось новое историческое чувство жизни и представление о прогрессе человечества". Ср. в тексте книги Бахтина: "И вот гротескные образы с их существенным отношением к временной смене и с их амбивалентностью становятся основным средством художественно-идеологического выражения того могучего чувства истории и исторической смены, которое с исключительной силою пробудилось в эпоху Возрождения". Именно поэтому понять Рабле и вообще ренессансную литературу невозможно без учета их связи с народной смеховой культурой. Средневековый смех интерпретируется в книге Бахтина как имеющий "универсальный и миросозерцательный характер, как особая и притом положительная точка зрения на мир, как особый аспект мира в целом и любого его явления". К. (этому термину Бахтин придавал расширенное значение, понимая под ним "не только формы карнавала в узком и точном смысле, но и всю богатую и разнообразную народно-праздничную жизнь средних веков и Возрождения") противопоставил серьезной, высокой культуре средневековья "совершенно иной, подчеркнуто неофициальный, внецерковный и внегосударственный аспект мира, человека и человеческих отношений". К. не просто разыгрывали, это была "как бы реальная ... форма самой жизни", которой люди средневековья жили во время праздников, - причем "другая свободная (вольная)", "идеальная" форма. Если официальные праздники утверждали стабильность, неизменность и вечность существующего миропорядка, освящали торжество уже победившей, господствующей, непререкаемой "правды", то К. "был как бы временной приостановкой действия всей официальной системы со всеми ее запретами и иерархическими барьерами": в это время жизнь на короткий срок выходила из своей обычной колеи и вступала "в сферу утопической свободы". Эта свобода была легализована: и государство, и церковь терпели ее, даже каждый официальный праздник имел свою вторую, народно-карнавальную, площадную сторону. Праздничная толпа воспринимала жизнь сквозь призму "веселой относительности", во время К. люди переодевались (обновляли свои одежды и свои социальные образы), избирали, а затем развенчивали и избивали (в символическом плане "умерщвляли") шутовских королей и пап, высмеивали, снижали, пародировали все, чему поклонялись в обычные дни, предавались различным физиологическим излишествам, пренебрегая нормами приличий: "Тема рождения нового обновления, органически сочеталась с темой смерти старого в веселом и снижающем плане, с образами шутовского карнавального развенчания". В гротескной образности К. всячески подчеркивался момент временной смены (времена года, солнечные и лунные фазы, смерть и обновление растительности, смена земледельческих циклов): "этот момент приобретал значение более широкое и более глубокое: в него вкладывались народные чаяния лучшего будущего, более справедливого социально-экономического устройства, новой правды". Обилие пиршественных образов, гиперболическая телесность, символика плодородия, могучей производительной силы и т.д. акцентировали бессмертие народа: "В целом мира и народа нет места для страха; страх может проникнуть лишь в часть, отделившуюся от целого, лишь в отмирающее звено, взятое в отрыве от рождающегося. Целое народа и мира торжествующе весело и бесстрашно". С эстетической точки зрения, карнавальная культура представляет собой особую концепцию бытия и особый тип образности, в основе которых, по мнению Бахтина, "лежит особое представление о телесном целом и о границах этого целого". Это представление Бахтин определяет как гротескную концепцию тела, для которой характерно то, что с точки зрения "классической" эстетики ("эстетики готового, завершенного бытия") кажется чудовищным и безобразным. Если классические образы индивидуализированы, отделены друг от друга, как бы очищены "от всех шлаков рождения и развития", то гротескные образы, напротив, показывают жизнь "в ее амбивалентном, внутренне противоречивом процессе", концентрируются вокруг моментов, обозначающих связь между различными телами, динамику, временную смену (совокупление, беременность, родовой акт, акт телесного роста, старость, распадение тела и т.д.). "В отличие от канонов нового времени гротескное тело не отграничено от остального мира, не замкнуто, не завершено, не готово, перерастает себя самого, выходит за свои пределы. Акценты лежат на тех частях тела, где оно либо открыто для внешнего мира, то есть где мир входит в тело или выпирает из него, либо оно само выпирает в мир, то есть на отверстиях, на выпуклостях, на всяких ответвлениях и отростках: разинутый рот, детородный орган, груди, фалл, толстый живот, нос" (Бахтин). Этот тип образности, характерный для народной смеховой культуры, обусловлен верой народа в свое бессмертие: "... в гротескном теле смерть ничего существенно не кончает, ибо смерть не касается родового тела, его она, напротив, обновляет в новых поколениях". Концепция К., выдвинутая в книге Бахтина о Рабле, вызвала при своем появлении и публикации бурные споры, да и до сих пор далеко не является общепризнанной. Однако она сыграла большую роль в развитии и стимулировании культурологических исследований, в расширении горизонтов научной мысли. В настоящее время истолкование концепции К. продолжается, и возможно как появление ее оригинальных истолкований, так и ее плодотворное использование для изучения различных мировых культур. Многомерные исследования карнавальной культуры, осуществленные Бахтиным, способствовали, в частности, легитимации такого феномена культуры, как "раблезианство". Раблезианство трактовалось, как связанное не столько непосредственно с творчеством Ф.Рабле, сколько с традицией его философской интерпретации, в рамках которой культурное пространство выстраивается в контексте семиотически артикулированной телесности, понятой в качестве семантически значимого феномена (текста), прочтение которого порождает эффект гротеска, что и придает культурному пространству статус карнавального (см. Тело, Телесность, Текст, Бахтин М.М.).
H. A. Паньков
* * *
Карнавал не созерцают. В нём живут и живут все, потому что по идее своей он всенароден. Во время карнавала можно жить только по его законам. То есть, позаконам свободы.
* * *
Праздник освящал неравенство, на карнавале все считались равными.
М. Бахтин
Человек не является конечной и определённой величиной, на которой можно было бы строить какие-либо твёрдые расчёты; человек свободен и потому может нарушить любые навязанные ему закономерности.
* * *
Человек никогда не совпадает с самим собой. К нему нельзя применить формулу тождества: А есть А.
* * *
По художественной мысли Достоевского, подлинная жизнь личности совершается как бы в точке этого несовпадения человека с самим собою, в точке выхода его за пределы всего, что он есть как вещное бытие, которое можно подсмотреть, определить и предсказать помимо его воли, «заочно». Подлинная жизнь личности доступна только диалогическому проникновению в неё, которому она сама ответно и свободно раскрывает себя.
М. Бахтин
* * *
Герой Достоевского не объектный образ, а полновесное слово, чистый голос; мы его не видим, мы его слышим; все же, что мы видим и знаем, помимо его слова, не существенно и поглощается словом, как его материал, или остаётся вне его, как стимулирующий и провоцирующий фактор. Мы убедимся далее, что вся художественная конструкция романа Достоевского направлена на раскрытие и уяснение этого слова героя и несёт по отношению к нему провоцирующие и направляющие функции. Эпитет «жестокий талант», данный Достоевскому Н.К.Михайловским, имеет под собою почву, хотя и не столь простую, как она представлялась Михайловскому. Своего рода моральные пытки, которым подвергает своих героев Достоевский, чтобы добиться от них слова самосознания, доходящего до своих последних пределов, позволяют растворить все вещное и объектное, все твёрдое и неизменное, все внешнее и нейтральное в изображении человека в сфере его самосознания и самовысказывания.
Чтобы убедиться в художественной глубине и тонкости провоцирующих художественных приёмов Достоевского, достаточно сравнить его с недавними увлеченнейшими подражателями «жестокого таланта» — с немецкими экспрессионистами: с Корнфельдом, Верфелем и другими. Дальше провоцирования истерик и всяких истерических исступлений в большинстве случаев они не умеют пойти, так как не умеют создать той сложнейшей и тончайшей социальной атмосферы вокруг героя, которая заставляет его диалогически раскрываться и уясняться, ловить аспекты себя в чужих сознаниях, строить лазейки, оттягивая и этим обнажая своё последнее слово в процессе напряжённейшего взаимодействия с другими сознаниями. Художественно наиболее сдержанные, как Верфель, создают символическую обстановку для этого самораскрытия героя. Такова, например, сцена суда в «Человеке из зеркала» («Spiegelmensch») Верфеля, где герой судит себя сам, а судья ведёт протокол и вызывает свидетелей.
Доминанта самосознания в построении героя верно уловлена экспрессионистами, но заставить это самосознание раскрыться спонтанно и художественно убедительно они не умеют. Получается или нарочитый и грубый эксперимент над героем, или символическое действо.
Самоуяснение, самораскрытие героя, слово его о себе самом, не предопределённое его нейтральным образом, как последняя цель построения, действительно иногда делает установку автора «фантастической» и у самого Достоевского. Правдоподобие героя для Достоевского — это правдоподобие внутреннего слова его о себе самом во всей его чистоте, но, чтобы его услышать и показать, чтобы ввести его в кругозор другого человека, требуется нарушение законов этого кругозора, ибо нормальный кругозор вмещает объектный образ другого человека, но не другой кругозор в его целом. Приходится искать для автора какую-то внекругозорную фантастическую точку.
Вот что говорит Достоевский в авторском предисловии к «Кроткой»:
«Теперь о самом рассказе. Я озаглавил его «фантастическим», тогда как считаю его сам в высшей степени реальным. Но фантастическое тут есть действительно, и именно в самой форме рассказа, что и нахожу нужным пояснить предварительно.
Дело в том, что это не рассказ и не записки. Представьте себе мужа, у которого лежит на столе жена, самоубийца, несколько часов перед тем выбросившаяся из окошка. Он в смятении и ещё не успел собрать своих мыслей. Он ходит по своим комнатам и старается осмыслить случившееся, «собрать свои мысли в точку». Притом это закоренелый ипохондрик, из тех, кто говорят сами с собою. Вот он и говорит сам с собою, рассказывает дело, уясняет себе его. Несмотря на кажущуюся последовательность речи, он несколько раз противоречит себе, и в логике и в чувствах. Он и оправдывает себя, и обвиняет её, и пускается в посторонние разъяснения: тут и грубость мысли и сердца, тут и глубокое чувство. Мало-помалу он действительно уясняет себе дело и собирает «мысли в точку». Ряд вызванных им воспоминаний неотразимо приводит его наконец к правде; правда неотразимо возвышает его ум и сердце. К концу даже тон рассказа изменяется сравнительно с беспорядочным началом его. Истина открывается несчастному довольно ясно и определительно, по крайней мере для него самого.
Вот тема. Конечно, процесс рассказа продолжается несколько часов, с урывками и перемежками, и в форме сбивчивой: то он говорит сам себе, то обращается как бы к невидимому слушателю, к какому-то судье. Да так всегда и бывает в действительности. Если б мог подслушать его и все записать за ним стенограф, то вышло бы несколько шершавее, необделаннее, чем представлено у меня, но, сколько мне кажется, психологический порядок, может быть, и остался бы тот же самый. Вот это предположение о записавшем все стенографе (после которого я обделал бы записанное) и есть то, что я называю в этом рассказе фантастическим. Но отчасти подобное уже не раз допускалось в искусстве: Виктор Гюго, например, в своём шедевре «Последний день приговорённого к смертной казни» употребил почти такой же приём, и хоть и не вывел стенографа, но допустил ещё большую неправдоподобность, предположив, что приговорённый к казни может (и имеет время) вести записки не только в последний день свой, но даже в последний час и буквально в последнюю минуту. Но не допусти он этой фантазии, не существовало бы и самого произведения — самого реальнейшего и самого правдивейшего произведения из всех им написанных» (X, 378–379).
Мы привели это предисловие почти полностью ввиду исключительной важности высказанных здесь положений для понимания творчества Достоевского: та «правда», к которой должен прийти и наконец действительно приходит герой, уясняя себе самому события, для Достоевского, по существу, может быть только правдой собственного сознания. Она не может быть нейтральной к самосознанию. В устах другого содержательно то же самое слово, то же определение приобрело бы иной смысл, иной тон и уже не было бы правдой. Только в форме исповедального самовысказывания может быть, по Достоевскому, дано последнее слово о человеке, действительно адекватное ему.
Но как ввести это слово в рассказ, не разрушая самости слова, а в то же время не разрушая и ткани рассказа, не снижая рассказа до простой мотивировки введения исповеди? Фантастическая форма «Кроткой» является лишь одним из решений этой проблемы, ограниченным притом пределами повести. Но какие художественные усилия необходимы были Достоевскому для того, чтобы заместить функции фантастического стенографа в целом многоголосом романе!
Дело здесь, конечно, не в прагматических трудностях и не во внешних композиционных приёмах. Толстой, например, спокойно вводит предсмертные мысли героя, последнюю вспышку его сознания с его последним словом непосредственно в ткань рассказа прямо от автора (уже в «Севастопольских рассказах»; особенно показательны поздние произведения: «Смерть Ивана Ильича», «Хозяин и работник»). Для Толстого не возникает самой проблемы; ему не приходится оговаривать фантастичность своего приёма. Мир Толстого монолитно монологичен; слово героя заключено в твёрдую оправу авторских слов о нём. В оболочке чужого (авторского) слова дано и последнее слово героя; самосознание героя — только момент его твёрдого образа и, в сущности, предопределено этим образом даже там, где тематически сознание переживает кризис и радикальнейший внутренний переворот («Хозяин и работник»). Самосознание и духовное перерождение остаются у Толстого в плане чисто содержательном и не приобретают формообразующего значения; этическая незавершённость человека до его смерти не становится структурно-художественной незавершимостью героя. Художественная структура образа Брехунова или Ивана Ильича ничем не отличается от структуры образа старого князя Волконского или Наташи Ростовой. Самосознание и слово героя не становятся доминантой его построения при всей их тематической важности в творчестве Толстого. Второй полноправный голос (рядом с авторским) не появляется в его мире; не возникает поэтому ни проблемы сочетания голосов, ни проблемы особой постановки авторской точки зрения. Монологически наивная точка зрения Толстого и его слово проникают повсюду, во все уголки мира и души, все подчиняя своему единству.
У Достоевского слово автора противостоит полноценному и беспримесно чистому слову героя. Поэтому-то и возникает проблема постановки авторского слова, проблема его формально-художественной позиции по отношению к слову героя. Проблема эта лежит глубже, чем вопрос о поверхностно-композиционном авторском слове и о поверхностно-композиционном же устранении его формою Icherzhlung (рассказа от первого лица), введением рассказчика, построением романа сценами и низведением авторского слова до простой ремарки. Все эти композиционные приёмы устранения или ослабления композиционного авторского слова сами по себе ещё не задевают существа проблемы; их подлинный художественный смысл может быть глубоко различен в зависимости от различных художественных заданий. Форма Icherzhlung «Капитанской дочки» бесконечно далека от Icherzhlung «Записок из подполья», даже если мы абстрактно отмыслим содержательное наполнение этих форм. Рассказ Гринёва строится Пушкиным в твёрдом монологическом кругозоре, хотя этот кругозор никак не представлен внешнекомпозиционно, ибо нет прямого авторского слова. Но именно этот кругозор определяет все построение. В результате — твёрдый образ Гринёва, образ, а не слово; слово же Гринёва — элемент этого образа, то есть вполне исчерпывается характерологическими и сюжетно-прагматическими функциями. Точка зрения Гринёва на мир и на события также является только компонентом его образа: он дан как характерная действительность, а вовсе не как непосредственно значащая, полновесная смысловая позиция. Непосредственная и прямая значимость принадлежит лишь авторской точке зрения, лежащей в основе построения, все остальное — лишь объект её. Введение рассказчика также может нисколько не ослаблять единовидящего и единознающего монологизма авторской позиции и нисколько не усиливать смысловой весомости и самостоятельности слов героя. Таков, например, пушкинский рассказчик — Белкин.
Все эти композиционные приёмы, таким образом, сами по себе ещё не способны разрушить монологизм художественного мира. Но у Достоевского они действительно несут эту функцию, становясь орудием в осуществлении его полифонического художественного замысла. Мы увидим дальше, как и благодаря чему они осуществляют эту функцию. Здесь же нам важен пока самый художественный замысел, а не средства его конкретного осуществления.
Самосознание как художественная доминанта в построении образа героя предполагает и радикально новую авторскую позицию по отношению к изображаемому человеку. Повторяем, дело идёт не об открытии каких-то новых черт или новых типов человека, которые могли бы быть открыты, увидены и изображены при обычном монологическом художественном подходе к человеку, то есть без радикального изменения авторской позиции. Нет, дело идёт именно об открытии такого нового целостного аспекта человека — «личности» (Аскольдов) или «человека в человеке» (Достоевский), — которое возможно только при подходе к человеку с соответственно новой и целостной же авторской позиции.
Постараемся несколько подробнее осветить эту целостную позицию, эту принципиально новую форму художественного видения человека.
Уже в первом произведении Достоевского изображается как бы маленький бунт самого героя против заочного овнешняющего и завершающего подхода литературы к «маленькому человеку». Как мы уже отмечали, Макар Девушкин прочитал гоголевскую «Шинель» и был ею глубоко оскорблён лично. Он узнал себя в Акакии Акакиевиче и был возмущён тем, что подсмотрели его бедность, разобрали и описали всю его жизнь, определили его всего раз и навсегда, не оставили ему никаких перспектив.
«Прячешься иногда, прячешься, скрываешься в том, чем не взял, боишься нос подчас показать — куда бы там ни было, потому что пересуда трепещешь, потому что из всего, что ни есть на свете, из всего тебе пасквиль сработают, и вот уж вся гражданская и семейная жизнь твоя по литературе ходит, все напечатано, прочитано, осмеяно, пересужено!» (I, 146).
Особенно возмутило Девушкина, что Акакий Акакиевич так и умер таким же, каким был.
Девушкин увидел себя в образе героя «Шинели», так сказать, сплошь исчисленным измеренным и до конца определённым: вот ты весь здесь, и ничего в тебе больше нет, и сказать о тебе больше нечего. Он почувствовал себя безнадёжно предрешённым и законченным, как бы умершим до смерти, и одновременно почувствовал и неправду такого подхода. Этот своеобразный «бунт» героя против своей литературной завершённости дан Достоевским в выдержанных примитивных формах сознания и речи Девушкина.
Серьёзный, глубинный смысл этого бунта можно выразить так: нельзя превращать живого человека в безгласный объект заочного завершающего познания. В человеке всегда есть что-то, что только сам он может открыть в свободном акте самосознания и слова, что не поддаётся овнешняющему заочному определению. В «Бедных людях» Достоевский впервые и попытался показать, ещё несовершенно и неясно, нечто внутренне незавершимое в человеке, чего Гоголь и другие авторы «повестей о бедном чиновнике» не могли показать со своих монологических позиций. Таким образом, уже в первом произведении Достоевский начинает нащупывать свою будущую радикально новую позицию по отношению к герою.
В последующих произведениях Достоевского герои уже не ведут литературной полемики с завершающими заочными определениями человека (правда, иногда это делает за них сам автор в очень тонкой пародийно-иронической форме), но все они яростно борются с такими определениями их личности в устах других людей. Все они живо ощущают свою внутреннюю незавершённость, свою способность как бы изнутри перерасти и сделать неправдой любое овнешняющее и завершающее их определение. Пока человек жив, он живёт тем, что ещё не завершён и ещё не сказал своего последнего слова. Мы уже отмечали, как мучительно прислушивается «человек из подполья» ко всем действительным и возможным чужим словам о нём, как старается угадать и предвосхитить все возможные чужие определения своей личности. Герой «Записок из подполья» — первый герой-идеолог в творчестве Достоевского. Одна из его основных идей, которую он выдвигает в своей полемике с социалистами, есть именно идея о том, что человек не является конечной и определённой величиной, на которой можно было бы строить какие-либо твёрдые расчёты; человек свободен и потому может нарушить любые навязанные ему закономерности.
Герой Достоевского всегда стремится разбить завершающую и как бы умерщвляющую его оправу чужих слов о нём. Иногда эта борьба становится важным трагическим мотивом его жизни (например, у Настасьи Филипповы).
У ведущих героев, протагонистов большого диалога, таких, как Раскольников, Соня, Мышкин, Ставрогин, Иван и Дмитрий Карамазовы, глубокое сознание своей незавершённости и нерешённости реализуется уже на очень сложных путях идеологической мысли, преступления или подвига.
Человек никогда не совпадает с самим собой. К нему нельзя применить формулу тождества: А есть А. По художественной мысли Достоевского, подлинная жизнь личности совершается как бы в точке этого несовпадения человека с самим собою, в точке выхода его за пределы всего, что он есть как вещное бытие, которое можно подсмотреть, определить и предсказать помимо его воли, «заочно». Подлинная жизнь личности доступна только диалогическому проникновению в неё, которому она сама ответно и свободно раскрывает себя.
Правда о человеке в чужих устах, не обращённая к нему диалогически, то есть заочная правда, становится унижающей и умерщвляющей его ложью, если касается его «святая святых», то есть «человека в человеке».
Приведём несколько высказываний героев Достоевского о заочных анализах человеческой души, выражающих ту же мысль.
В «Идиоте» Мышкин и Аглая обсуждают неудавшееся самоубийство Ипполита. Мышкин даёт анализ глубинных мотивов его поступка. Аглая ему замечает:
«А с вашей стороны я нахожу, что все это очень дурно, потому что очень грубо так смотреть и судить душу человека, как вы судите Ипполита. У вас нежности нет: одна правда, стало быть — несправедливо» (VI, 484).
Эту внутреннюю незавершимость героев Достоевского как их ведущую особенность сумел верно понять и определить Оскар Уайльд. Вот что говорит об Уайльде Т.Л.Мотылёва в своей работе «Достоевский и мировая литература»: «Уайльд видел главную заслугу Достоевского-художника в том, что он «никогда не объясняет своих персонажей полностью». Герои Достоевского, по словам Уайльда, «всегда поражают нас тем, что они говорят или делают, и хранят в себе до конца вечную тайну бытия» (сб. «Творчество Ф.М.Достоевского», Изд-во АН СССР, М., 1959, стр. 32).
Правда оказывается несправедливой, если она касается каких-то глубин чужой личности.
Тот же мотив ещё отчётливее, но несколько сложнее звучит в «Братьях Карамазовых» в разговоре Алёши с Лизой о капитане Снегирёве, растоптавшем предложенные ему деньги. Рассказав об этом поступке, Алёша даёт анализ душевного состояния Снегирёва и как бы предрешает его дальнейшее поведение, предсказывая, что в следующий раз он обязательно возьмёт деньги. Лиза на это замечает:
«Слушайте, Алексей Фёдорович, нет ли тут во всём этом рассуждении нашем, то есть вашем… нет, уж лучше нашем… нет ли тут презрения к нему, к этому несчастному… в том, что мы так его душу теперь разбираем, свысока точно, а? В том, что так наверно решили теперь, что он деньги примет, а?» (IX, 274–272).
Аналогичный мотив недопустимости чужого проникновения в глубины личности звучит в резких словах Ставрогина, которые он произносит в келье Тихона, куда пришёл со своею «исповедью»:
«Слушайте, я не люблю шпионов и психологов, по крайней мере таких, которые в мою душу лезут».
Нужно отметить, что в данном случае в отношении Тихона Ставрогин совершенно неправ: Тихон подходит к нему как раз глубоко диалогически и понимает незавершённость его внутренней личности.
В самом конце своего творческого пути Достоевский в записной книжке так определяет особенности своего реализма:
«При полном реализме найти в человеке человека… Меня зовут психологом: не правда, я лишь реалист в высшем смысле, т. е. изображаю все глубины души человеческой».
К этой замечательной формуле нам ещё не раз придётся возвращаться. Сейчас нам важно подчеркнуть в ней три момента.
Во-первых, Достоевский считает себя реалистом, а не субъективистом-романтиком, замкнутым в мире собственного сознания; свою новую задачу — «изобразить все глубины души человеческой» — он решает «при полном реализме», то есть видит эти глубины вне себя, в чужих душах.
Во-вторых, Достоевский считает, что для решения этой новой задачи недостаточен реализм в обычном смысле, то есть, по нашей терминологии, монологический реализм, а требуется особый подход к «человеку в человеке», то есть «реализм в высшем смысле».
В-третьих, Достоевский категорически отрицает, что он психолог.
На последнем моменте мы должны остановиться несколько подробнее.
К современной ему психологии — и в научной и в художественной литературе и в судебной практике — Достоевский относился отрицательно. Он видел в ней унижающее человека овеществление его души, сбрасывающее со счёта её свободу, незавершимость и ту особую неопределённость — нерешённость, которая является главным предметом изображения у самого Достоевского: ведь он всегда изображает человека на пороге последнего решения, в момент кризиса и незавершённого — и непредопределимого — поворота его души.
Достоевский постоянно и резко критиковал механистическую психологию, притом как её прагматическую линию, основанную на понятиях естественности и пользы, так в особенности и её физиологическую линию, сводящую» психологию к физиологии. Он осмеивает её и в романах. Вспомним хотя бы «бугорки на мозгу» в объяснениях Лебезятниковым душевного кризиса Катерины Ивановны («Преступление и наказание») или превращение имени Клода Бернара в бранный символ освобождения человека от ответственности — «бернары» Митеньки Карамазова («Братья Карамазовы»).
Но особенно показательна для понимания художественной позиции Достоевского критика им судебно-следственной психологии, которая в лучшем случае «палка о двух концах», то есть с одинаковой вероятностью допускает принятие взаимно исключающих решений, в худшем же случае — принижающая человека ложь.
В «Преступлении и наказании» замечательный следователь Порфирий Петрович — он-то и назвал психологию «палкой о двух концах» — руководствуется не ею, то есть не судебно-следственной психологией, а особой диалогической интуицией, которая и позволяет ему проникнуть в незавершённую и нерешённую душу Раскольникова. Три встречи Порфирия с Раскольниковым — это вовсе не обычные следовательские допросы; и не потому, что они проходят «не по форме» (что постоянно подчёркивает Порфирий), а потому, что они нарушают самые основы традиционного психологического взаимоотношения следователя и преступника (что подчёркивает Достоевский). Все три встречи Порфирия с Раскольниковым — подлинные и замечательные полифонические диалоги.
Самую глубокую картину ложной психологии на практике дают сцены предварительного следствия и суда над Дмитрием в «Братьях Карамазовых». И следователь, и судьи, и прокурор, и защитник, и экспертиза одинаково не способны даже приблизиться к незавершённому и нерешённому ядру личности Дмитрия, который, в сущности, всю свою жизнь стоит на пороге великих внутренних решений и кризисов. Вместо этого живого и прорастающего новой жизнью ядра они подставляют какую-то готовую определённость, «естественно» и «нормально» предопределённую во всех своих словах и поступках «психологическими законами». Все, кто судят Дмитрия, лишены подлинного диалогического подхода к нему, диалогического проникновения в незавершённое ядро его личности. Они ищут и видят в нём только фактическую, вещную определённость переживаний и поступков и подводят их под определённые понятия и схемы. Подлинный Дмитрий остаётся вне их суда (он сам себя будет судить).
Вот почему Достоевский и не считал себя психологом ни в каком смысле. Нам важна, конечно, не философско-теоретическая сторона его критики сама по себе: она не может нас удовлетворить и страдает прежде всего непониманием диалектики свободы и необходимости в поступках и сознании человека. Нам важна здесь самая устремлённость его художественного внимания и новая форма его художественного видения внутреннего человека.
Здесь уместно подчеркнуть, что главный пафос всего творчества Достоевского, как со стороны его формы, так и со стороны содержания, есть борьба с овеществлением человека, человеческих отношений и всех человеческих ценностей в условиях капитализма. Достоевский, правда, не понимал с полною ясностью глубоких экономических корней овеществления, он, насколько нам известно, нигде не употреблял самого термина «овеществление», но именно этот термин лучше всего выражает глубинный смысл его борьбы за человека. Достоевский с огромной проницательностью сумел увидеть проникновение этого овеществляющего обесценивания человека во все поры современной ему жизни и в самые основы человеческого мышления. В своей критике этого овеществляющего мышления он иногда «путал социальные адреса», по выражению В.Ермилова, обвинял, например, в нём всех представителей революционно-демократического направления и западного социализма, который он считал порождением капиталистического духа. Но, повторяем, нам важна здесь не отвлечённо-теоретическая и не публицистическая сторона его критики, а освобождающий и развеществляющий человека смысл его художественной формы.
Итак, новая художественная позиция автора по отношению к герою в полифоническом романе Достоевского — это всерьёз осуществлённая и до конца проведённая диалогическая позиция, которая утверждает самостоятельность, внутреннюю свободу, незавершённость и нерешённость героя. Герой для автора не «он» и не «я», а полноценное «ты», то есть другое чужое полноправное «я» («ты еси»). Герой — субъект глубоко серьёзного, настоящего, не риторически разыгранного или литературно-условного, диалогического обращения. И диалог этот — «большой диалог» романа в его целом — происходит не в прошлом, а сейчас, то есть в настоящем творческого процесса. Это вовсе не стенограмма законченного диалога, из которого автор уже вышел и над которым он теперь находится как на высшей и решающей позиции: ведь это сразу превратило бы подлинный и незавершённый диалог в объектный и завершённый образ диалога, обычный для всякого монологического романа. Этот большой диалог у Достоевского художественно организован как не закрытое целое самой стоящей на пороге жизни.
«Документы по истории литературы и общественности», вып. I. «Ф.М.Достоевский», изд. Центрархива РСФСР, М., 1922, стр. 13.
«Биография, письма и заметки из записной книжки Ф.М.Достоевского», СПб., 1883, стр. 373.
В «Дневнике писателя» за 1877 год по поводу «Анны Карениной» Достоевский говорит: «Ясно и понятно до очевидности, что зло таится в человечестве глубже, чем предполагают лекаря-социалисты, что ни в каком устройстве общества не избегнете зла, что душа человеческая останется та же, что ненормальность и грех исходят из неё самой и что, наконец, законы духа человеческого столь ещё неизвестны, столь неведомы науке, столь неопределенны и столь таинственны, что нет и не может быть ещё ни лекарей, и даже судей окончательных, а есть тот, который говорит: «Мне отмщение и аз воздам» (Ф.М.Достоевский, Полн. собр. худож. произвед., под ред. Б.Томашевского и К.Халабаева, т. XI, Госиздат, М. — Л., 1929, стр. 210).
См. В.Ермилов, Ф.М.Достоевский, Гослитиздат, М., 1956.
Ведь смысл «живёт» не в том времени, в котором есть «вчера», «сегодня» и «завтра», то есть не в том времени, в котором «жили» герои и протекает биографическая жизнь автора.
Диалогическое отношение к герою осуществляется Достоевским в момент творческого процесса и в момент его завершения, входит в замысел его и, следовательно, остаётся и в самом готовом романе как необходимый формообразующий момент.
Слово автора о герое организовано в романах Достоевского, как слово о присутствующем, слышащем его (автора) и могущем ему ответить. Такая организация авторского слова в произведениях Достоевского вовсе не условный приём, а безусловная последняя позиция автора. В пятой главе нашей работы мы постараемся показать, что и своеобразие словесного стиля Достоевского определяется ведущим значением именно такого диалогически обращённого слова и ничтожною ролью монологически замкнутого и не ждущего ответа слова.
В замысле Достоевского герой — носитель полноценного слова, а не немой, безгласный предмет авторского слова. Замысел автора о герое — замысел о слове. Поэтому и слово автора о герое — слово о слове. Оно ориентировано на героя как на слово и потому диалогически обращено к нему. Автор говорит всею конструкциею своего романа не о герое, а с героем. Да иначе и быть не может: только диалогическая, соучастная установка принимает чужое слово всерьёз и способна подойти к нему как к смысловой позиции, как к другой точке зрения. Только при внутренней диалогической установке моё слово находится в теснейшей связи с чужим словом, но в то же время не сливается с ним, не поглощает его и не растворяет в себе его значимости, то есть сохраняет полностью его самостоятельность как слова. Сохранить же дистанцию при напряжённой смысловой связи — дело далеко не лёгкое. Но дистанция входит в замысел автора, ибо только она обеспечивает подлинную объективность изображения героя.
Самосознание как доминанта построения образа героя требует создания такой художественной атмосферы, которая позволила бы его слову раскрыться и самоуясниться. Ни один элемент такой атмосферы не может быть нейтрален: все должно задевать героя за живое, провоцировать, вопрошать, даже полемизировать и издеваться, все должно быть обращено к самому герою, повёрнуто к нему, все должно ощущаться как слово о присутствующем, а не слово об отсутствующем, как слово «второго», а не «третьего» лица. Смысловая точка зрения «третьего», в районе которой строится устойчивый образ героя, разрушила бы эту атмосферу, поэтому она и не входит в творческий мир Достоевского; не потому, следовательно, что она ему недоступна (вследствие, например, автобиографичности героев или исключительного полемизма автора), но потому, что она не входит в творческий замысел его. Замысел требует сплошной диалогизации всех элементов построения. Отсюда и та кажущаяся нервность, крайняя издёрганность и беспокойство атмосферы в романах Достоевского, которая для поверхностного взгляда закрывает тончайшую художественную рассчитанность, взвешенность и необходимость каждого тона, каждого акцента, каждого неожиданного поворота события, каждого скандала, каждой эксцентричности. В свете этого художественного задания только и могут быть поняты истинные функции таких композиционных элементов, как рассказчик и его тон, как композиционно выраженный диалог, как особенности рассказа от автора (там, где он есть) и др.
Такова относительная самостоятельность героев в пределах творческого замысла Достоевского. Здесь мы должны предупредить одно возможное недоразумение. Может показаться, что самостоятельность героя противоречит тому, что он всецело дан лишь как момент художественного произведения и, следовательно, весь с начала и до конца создан автором. Такого противоречия на самом деле нет. Свобода героев утверждается нами в пределах художественного замысла, и в этом смысле она так же создана, как и несвобода объектного героя. Но создать не значит выдумать. Всякое творчество связано как своими собственными законами, так и законами того материала, на котором оно работает. Всякое творчество определяется своим предметом и его структурой и потому не допускает произвола и, в сущности, ничего не выдумывает, а лишь раскрывает то, что дано в самом предмете. Можно прийти к верной мысли, но у этой мысли своя логика, и потому её нельзя выдумать, то есть сделать с начала и до конца. Также не выдумывается и художественный образ, каков бы он ни был, так как и у него есть своя художественная логика, своя закономерность. Поставив себе определённое задание, приходится подчиниться его закономерности.
Герой Достоевского также не выдуман, как не выдуман герой обычного реалистического романа, как не выдуман романтический герой, как не выдуман герой классицистов. Но у каждого своя закономерность, своя логика, входящая в пределы авторской художественной воли, но ненарушимая для авторского произвола. Выбрав героя и выбрав доминанту его изображения, автор уже связан внутреннею логикой выбранного, которую он и должен раскрыть в своём изображении. Логика самосознания допускает лишь определённые художественные способы своего раскрытия и изображения. Раскрыть и изобразить его можно, лишь вопрошая и провоцируя, но не давая ему предрешающего и завершающего образа. Такой объектный образ не овладевает как раз тем, что задаёт себе автор как свой предмет.
Свобода героя, таким образом, — момент авторского замысла. Слово героя создано автором, но создано так, что оно до конца может развить свою внутреннюю логику и самостоятельность как чужое слово, как слово самого героя. Вследствие этого оно выпадает не из авторского замысла, а лишь из монологического авторского кругозора. Но разрушение этого кругозора как раз и входит в замысел Достоевского.
М. Бахтин. Проблемы поэтики Достоевского