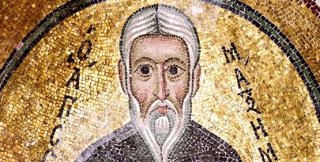Дневник
До революции в Исаакиевском соборе службы для народа проводили только в великие, двунадесятые праздники. А для повседневных богослужений для тех, кто жил в окрестностях собора на Галерной, 6, был дом причта и маленький храм. Сюда же пускали только по специальным пропускам, которые выдавало министерство двора или их императорские величества. А для прихожан Исаакиевского собора был тот самый небольшой храм на Галерной, и там была и столовая для бедных, и школа для девочек из неблагополучных семей, и типография для издания книг по духовному воспитанию – там они работали.
Несколько лет назад все эти здания снесли, и госпожа Батурина с помощью своих подотчетных фирм построила там гостиницу "Монферран".
ЖЖ Кураева
«Тот, кто радушно принимает этого духовного Давида и, становясь предметом зависти Саула, не попадает в силки вражды, но наоборот, обладая бесстрастием и многим человеколюбием, исцеляет с помощью кефары духа врага, удушаемого лукавым духом, тот делает этого врага мудрым, освобождая его, словно от лукавого беса, от злой эпилепсии перстного помышления».
* * *
«Призовём же и мы духовного Давида, чтобы он заиграл на кифаре духовного созерцания и видения и успокоил наш ум, страдающий эпилепсией от всецелого погружения в материальные вещи, изгнал лукавого духа вещественного окружения окрест чувств».
* Кифа́ра (др.-греч. κιθάρα, лат. cithara) — древнегреческий струнный щипковый музыкальный инструмент; самая важная в античности разновидность лиры. Кифара — один из самых распространённых музыкальных инструментов в Древней Греции. Струн 7, позднее до 12. От слова "кифара" происходят названия китаррон, цитра, гитара и др. У греков олицетворяет вселенную, повторяя своей формой Небо и Землю. Струны символизируют различные уровни вселенной. Атрибут Аполлона и Терпсихоры, изобретателем ее считали Гермеса.
Кифара появляется в конце VIII, а в иконографии – в конце VII в. до н.э. В сравнении с легкими хелис и барбитоном это был массивный инструмент высотой до метра и более. Резонаторный короб кифары изготавливался из дерева и мог быть украшен слоновой костью и золотом. Кифара – инструмент для концертирования и играли на ней профессиональные музыканты, которые, состязаясь в сольном пении, аккомпанировали себе. Играли на кифаре при помощи плектра. Форма кифары не меняется несколько столетий, и только начиная с конца IV в. до н.э. появляются ее многообразные упрощенные разновидности, например, менее крупный вид кифары, иногда называвшийся «люлькой», возможно, пришедший от хеттов.
В культуре классической Греции лиры: фо́рминги, кифары противопоставлялись арфам: три́гону, самби́ке, мага́диде. В исторический период лира фигурирует в наиболее ранних греческих текстах и изображениях струнных. Лиры - как подвид семейства струнных - предстают “национальными” инструментами, хотя изначально они таковыми не являлись. На лирах играют у Гомера. При этом сама лира называется у него “формингой”, а искусство игры на ней - κίθαρις. Отсюда происходит именование особого типа лир – “кифары”. Арфа же считалась в Элладе инструментом завезенным из Азии, к ней иногда относились с недоверием. На арфах играли преимущественно женщины и в приватной обстановке. Арфу ассоциировали с любовными переживаниями и похождениями. Профессиональных арфисток нанимали для услаждения пирующих мужей.
К семейству арф относится и “псалтерий”. Название инструмента является не специфическим, но родовым, – для греков это просто "щипковый" музыкальный инструмент. В разные эпохи так именовались совершенно различные инструменты. В классический период в Греции псалтериями преимущественно назывались арфы. Греческий писатель Афиней (рубеж II-III в.в. н.э.) описывает его как щипковый, многострунный, треугольный по форме. Для раннехристианских авторов, в целом, псалтерий представляется угловой арфой, но арфой особенной – с резонатором, который расположен сверху, а не снизу, как обычно.
* * *
Для Античности характерно такое противопоставление: лира и кафара непорочны, арфа же воплощает их полную противоположность.
Как эта шкала ценностей изменяется в христианской экзегезе?
Кифара – из рода лир и псалтерий – арфа с верхним резонатором – инструменты, на которых играл царь Давид. На кифаре и псалтерии хвалят Бога, но кифара менее возвышенна, поэтому появляется противопоставление.
У Оригена (ок.185-ок.254): кифара – деятельное начало, псалтерий – созерцательное. Климент Александрийский (ок.150-211/215) уподобляет псалтерий языку человека, кифару - боговдохновенным устам, а десятиструнность псалтерия – Христу [Климент Александрийский. Педагог II, 4, 41, 4, 3-42, 3, 3]. Кифара – душа деятельная, псалтерий ассоциируется с созерцанием. Десять струн – десять жил тела. Евсевий Кесарийский (ок.263-340) в комментарии на 29 псалом пишет о невеле как о прямейшем (ортотатон), звучащем верхом, а не низом: видимо, это арфа треугольной формы. Такого рода аллегореза характерна для ученика Оригена Дидима и других последующих авторов.
Евсевий Памфил (ок. 260-340) в комментарии к псалму 29 объясняет, что такое “псалтерий”, “псалом” и “песнь псалма” и “псалом песни”, а затем дополняет сказанное аллегорическим толкованием:
«У евреев псалтерий именуется невелем, каковой лишь один из музыкальных инструментов - прямейший и откликается звуком не от нижних частей, но резонирующую медь имеет сверху. “Псалмы” бряцаются только на инструментах - без голоса, тогда как “песнь” - это лишь стройный голос. “Песнь псалма” - когда голос звучит одновременно с инструментом, а “псалом песни” - когда звучание струн предшествует голосу.
А по закону аллегории “псалом” есть гармоничное движение тела к благому деянию, хотя за сим не всегда следует созерцание. “Песнь” без сопутствующего деяния есть постижение истины, когда душа просвещается в отношении Бога и его речений. “Песнь псалма” - когда знание предшествует деянию, согласно сказанному: Если желаешь премудрости, соблюдай заповеди, и Господь подаст ее тебе (Сир 1:26). А “псалом песни” есть деяние, руководимое знанием, относительно того, как и когда нужно делать.» [Eusebius Pamphili. Commentaria in Psalmos. In Ps. 29 (PG 23, 66, 9-26). О различии форм кифары и псалтерия там же // PG 23, 72]
Таким образом, у Евсевия появляются важные детали физического устройства псалтерия. Инструмент прям, а кроме того, особенности его конструкции таковы, что медный резонатор находится не снизу, как чаще бывает у арф, но в верхней части.
По Евсевию, кифара отдает звук нижней частью – это душа, псалтерий – верхней – это дух и ум. Вместо дихотомии: душа и тело, образуется трихотомия: ум/дух, душа и тело.
«Мы не утописты. Мы знаем, что любой чернорабочий и любая кухарка не способны сейчас же вступить в управление государством … Но… мы требуем немедленного разрыва с тем предрассудком, будто управлять государством … в состоянии только богатые или из богатых семей взятые чиновники.Мы требуем, чтобы обучение делу государственного управления… начато было немедленно…»
* * *
В ноябре 1917 года ему, как председателю Совнаркома назначили предельное жалование 500 рублей в месяц (рабочий-железнодорожник высшей категории в то же время получал 510 рублей). Галопирующая инфляция добавляла к цифрам нулей, но соотношение всегда оставалось прежним. По данным партийной анкеты 17 сентября 1920 года его зарплата равнялась 13 500 рублям, в анкете же за февраль 1922 года Владимир Ильич ответил: 4 700 000 рублей, в это время даже поездка в трамвае стоила 100 000 рублей.
* * *
Единственной прижизненной наградой Ильича был Орден Труда Хорезмской Народной Советской республики, которую делегация из Туркестана вручила вождю в 1922 году – «как символ освобождения труда на Востоке после многовекового рабства». Эту свою единственную награду Ленин никогда не носил.
* * *
на кухне у главы государства использовались чинёные кастрюли. Да ещё и отданные в ремонт не профессиональному лудильщику, а шофёру Степану Гилю, который надёжно, но не очень красиво приклепал к днищу заплатку. Не бывает такого, чтобы первая леди государства, каковой являлась Крупская, ходила в старом, шитом-перешитом платье со следами неоднократных починок на локтях. Если к этому добавить разномастные чашки и столовые приборы с потёртыми костяными и деревянными ручками, то получится не резиденция главы государства, а довольно бедная разночинская квартирка, наполненная спартанским ширпотребом. В своём роде уникальная. Этакое собрание дешёвых вещей массового производства, которыми никто и никогда не дорожил, и которых именно поэтому осталось так мало.
* * *
Эдуард Лимонов, которому довелось посетить музей-квартиру Ленина в Париже, на улице Мари-Роз: «Удивили меня две узкие металлические кровати в спальне: совсем стерильные, солдатские какие-то...»
Здесь кровати тоже были металлические, и на одной из них – совсем старенький вытертый плед. Оказалось – подарок матери Ленина. Она сделала его в Стокгольме, когда в последний раз виделась с сыном. И Ленин в течение 14 лет бережно возил плед с собой по всем эмигрантским закоулкам, пока не привёз на Родину.
Единственное, что можно назвать богатым, это библиотека, что для лидера как раз естественно. Несколько неестественным в ней было другое – следы того, что Ильичу ничто человеческое было не чуждо. Кажется, он позволял себе кое-что свистнуть под шумок - на нескольких книгах можно найти штампы европейских библиотек. Например, такой: «Русская читальня в Цюрихе».
* * *
Прежняя хозяйка усадьбы «Горки» - вдова знаменитого Саввы Морозова, Зинаида. Архитектор - Фёдор Шехтель.
* * *
Выписка из документа и поставках продуктов питания семье Ульяновых на октябрь 1920 г.: «Молоко, рожь, сахар, соль, капуста, крупы, картофель, морковь, репа, лук, помидоры, яйца, масло». И самым последним пунктом идёт «мясо куриное».
По материалам АиФ
19 марта - 95 лет со дня написания В. И. Лениным секретного письма о репрессии священников. В СССР оно не публиковалось. Упоминание о нем, однако, появилось в "биографической справке" к 45-му тому пятого издания "Полного собрания сочинений".
* * *
"Товарищу Молотову для членов Политбюро.
Строго секретно. Просьба ни в коем случае копий не снимать, а каждому члену Политбюро (тов. Калинину тоже) делать свои заметки на самом документе.
По поводу происшествия в Шуе, которое уже поставлено на обсуждение Политбюро, мне кажется, необходимо принять сейчас же твердое решение в связи с общим тоном борьбы в данном направлении. Так как я сомневаюсь, чтобы мне удалось лично присутствовать на заседании Политбюро 20 марта, то поэтому я изложу свои соображения письменно.
Происшествие в Шуе должно быть поставлено в связь с тем сообщением, которое недавно РОСТА переслало в газеты не для печати, а именно сообщение о подготовляющемся черносотенцами в Питере сопротивлении декрету об изъятии церковных ценностей.
Если сопоставить с этим фактом то, что сообщают газеты об отношении духовенства к декрету об изъятии церковных ценностей, а затем то, что нам известно о нелегальном воззвании Патриарха Тихона, то станет совершенно ясно, что черносотенное духовенство во главе со своим вождем совершенно обдуманно проводит план дать нам решающее сражение именно в данный момент.
Очевидно, что на секретных совещаниях влиятельнейшей группы черносотенного духовенства этот план обдуман и принят достаточно твердо. Событие в Шуе лишь одно из проявлений этого плана. Я думаю, что здесь наш противник делает громадную ошибку, пытаясь втянуть нас в решительную борьбу тогда, когда она для него особенно безнадежна и особенно невыгодна. Наоборот, для нас именно данный момент представляет из себя не только исключительно благоприятный, но и вообще единственный момент, когда мы можем с 99-ю из 100 шансов на полный успех разбить неприятеля наголову и обеспечить за собой необходимые для нас позиции на много десятилетий. Именно теперь и только теперь, когда в голодных местах едят людей и на дорогах валяются сотни, если не тысячи трупов, мы можем (и потому должны) провести изъятие церковных ценностей с самой бешеной и беспощадной энергией, не останавливаясь перед подавлением какого угодно сопротивления. Именно теперь и только теперь громадное большинство крестьянской массы будет либо за нас, либо, во всяком случае, будет не в состоянии поддержать сколько-нибудь решительно ту горстку черносотенного духовенства и реакционного городского мещанства, которые могут и хотят испытать политику насильственного сопротивления советскому декрету.
Нам во что бы то ни стало необходимо провести изъятие церковных ценностей самым решительным и самым быстрым образом, чем мы можем обеспечить себе фонд в несколько сотен миллионов золотых рублей (надо вспомнить гигантские богатства некоторых монастырей и лавр). Без этого никакая государственная работа вообще, никакое хозяйственное строительство в частности и никакое отстаивание своей позиции в Генуе в особенности совершенно немыслимы. Взять в свои руки этот фонд в несколько сотен миллионов золотых рублей (а может быть, и несколько миллиардов) мы должны во что бы то ни стало. А сделать это с успехом можно только теперь. Все соображения указывают на то, что позже сделать это нам не удастся, ибо никакой иной момент, кроме отчаянного голода, не даст нам такого настроения широких крестьянских масс, который бы либо обеспечил нам сочувствие этих масс, либо, по крайней мере, обеспечивало бы нам нейтрализование этих масс в том смысле, что победа в борьбе с изъятием церковных ценностей останется безусловно и полностью на нашей стороне.
Один умный писатель по государственным вопросам справедливо сказал, что если необходимо для осуществления известной политической цели пойти на ряд жестокостей, то надо осуществлять их самым энергичным образом и в самый короткий срок, ибо длительного применения жестокостей народные массы не вынесут. Это соображение в особенности еще подкрепляется тем, что по международному положению России для нас, по всей вероятности, после Генуи окажется или может оказаться, что жестокие меры против реакционного духовенства будут политически нерациональны, может быть даже чересчур опасны. Сейчас победа над реакционным духовенством обеспечена полностью. Кроме того, главной части наших заграничных противников среди русских эмигрантов, то есть эсерам и милюковцам, борьба против нас будет затруднена, если мы именно в данный момент, именно в связи с голодом проведем с максимальной быстротой и беспощадностью подавление реакционного духовенства.
Поэтому я прихожу к безусловному выводу, что мы должны именно теперь дать самое решительное и беспощадное сражение черносотенному духовенству и подавить его сопротивление с такой жестокостью, чтобы они не забыли этого в течение нескольких десятилетий. Самую кампанию проведения этого плана я представляю следующим образом:
Официально выступать с какими бы то ни было мероприятиями должен только тов. Калинин. Никогда и ни в каком случае не должен выступать ни в печати, ни иным образом перед публикой тов. Троцкий.
Посланная уже от имени Политбюро телеграмма о временной приостановке изъятий не должна быть отменяема. Она нам выгодна, ибо посеет у противника представление, будто мы колеблемся, будто ему удалось нас запугать (об этой секретной телеграмме, именно поэтому, что она секретна, противник, конечно, скоро узнает).
В Шую послать одного из самых энергичных, толковых и распорядительных членов ВЦИК или других представителей центральной власти (лучше одного, чем нескольких), причем дать ему словесную инструкцию через одного из членов Политбюро. Эта инструкция должна сводиться к тому, чтобы он в Шуе арестовал как можно больше, не меньше, чем несколько десятков, представителей местной буржуазии по подозрению в прямом или косвенном участии в деле насильственного сопротивления декрету ВЦИК об изъятии церковных ценностей. Тотчас по окончании этой работы он должен приехать в Москву и лично сделать доклад на полном собрании Политбюро или перед двумя уполномоченными на это членами Политбюро. На основании этого доклада Политбюро даст детальную директиву судебным властям, тоже устную, чтобы процесс против шуйских мятежников, сопротивляющихся помощи голодающим, был проведен с максимальной быстротой и закончился не иначе, как расстрелом очень большого числа самых влиятельных и опасных черносотенцев г. Шуи, а по возможности также и не только этого города, а и Москвы и нескольких других духовных центров.
Самого Патриарха Тихона, я думаю, целесообразно нам не трогать, хотя он несомненно стоит во главе всего этого мятежа рабовладельцев. Относительно него надо дать секретную директиву Госполитупру, чтобы все связи этого деятеля были как можно точнее и подробнее наблюдаемы и вскрываемы, именно в данный момент. Обязать Дзержинского, Уншлихта лично делать об этом доклад в Политбюро еженедельно.
На съезде партии устроить секретное совещание всех или почти всех делегатов по этому вопросу совместно с главными работниками ГПУ, НКО и Ревтрибунала. На этом совещании провести секретное решение съезда о том, что изъятие ценностей, в особенности самых богатых лавр, монастырей и церквей, должно быть произведено с беспощадной решительностью, безусловно ни перед чем не останавливаясь и в самый кратчайший срок. Чем большее число представителей реакционной буржуазии и реакционного духовенства удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше. Надо именно теперь проучить эту публику так, чтобы на несколько десятков лет ни о каком сопротивлении они не смели и думать.
Для наблюдения за быстрейшим и успешнейшим проведением этих мер назначить тут же на съезде, то есть на секретном его совещании, специальную комиссию при обязательном участии т. Троцкого и т. Калинина, без всякой публикации об этой комиссии с тем, чтобы подчинение всей этой операции было обеспечено и проводилось в общесоветском и общенародном порядке. Назначить особо ответственных наилучших работников для проведения этой меры в наиболее богатых лаврах, монастырях и церквах.
19 марта 1922 г. Ленин.
Прошу т. Молотова постараться разослать это письмо членам Политбюро вкруговую сегодня же вечером (не снимая копий) и просить их вернуть Секретарю тотчас по прочтении с краткой заметкой относительно того, согласен ли с основою каждый член Политбюро, или письмо возбуждает какие-нибудь разночтения.
Ленин".
---
* В мае 1922 года В. И. Ленин тяжело заболел. Весной 1923 года Ленина перевозят в Горки - фактически умирать. «На фотографии, сделанной сестрой Ленина (за полгода до смерти. - Ред.), мы видим похудевшего человека с диким лицом и безумными глазами, - продолжает И. Збарский. - Он не может говорить, ночью и днём его мучают кошмары, временами он кричит... На фоне некоторого облегчения 21 января 1924 года Ленин чувствует общее недомогание, вялость... Осмотревшие его после обеда профессора Фёрстер и Осипов не обнаруживают никаких тревожных симптомов. Однако около 6 часов вечера состояние больного резко ухудшается, появляются судороги... пульс 120-130. Около половины седьмого температура поднимается до 42,5°С. В 18 часов 50 минут... врачи констатируют смерть».
«Мы... вместо икон повесили вождей и постараемся для Пахома (простого деревенского мужика. - Ред.) и «низов» открыть мощи Ильича под коммунистическим соусом», - писал в одном из частных писем идеолог партии Николай Бухарин.
Всё значительно проще, всё гораздо сложней,
мир, усвоенный сердцем, прорастает вовне,
и никак не иначе, как бы ты ни хотел
развернуть вспять однажды ход запущенных дел
терпение – сила, а смиренье – крыло.
Галина Ефремова. «Все труднее и легче...»
Как хорошо названо: терпение - сила, а смиренье - крыло. Именно так!
Джеку это время запомнилось как самое голодное в его жизни.
Он вспоминал, как однажды до того изголодался, что вытащил у одной девочки из корзины с завтраком тоненький ломтик мяса. А когда другие школьники, насытившись, бросали объедки, только гордость мешала ему поднять их с грязной земли.
Джеку исполнилось восемь лет, когда Джон Лондон купил в рассрочку ранчо в Ливерморе – восемьдесят семь лкров земли в теплой долине за Оклендом. Семейство поселилось в старом фермерском доме.
*
Джон Лондон теперь стал безработным Пришлось искать жилье поскромнее, и семья переехала на улицу Сан-Пабло, рядом с Двадцать второй, Недалеко жила няня Дженни, и Джек часто забегал к ней.
Он знал, что там можно рассказать о своих горестях и радостях, там накормят за няниным столом, причешут, хорошенько вымоют шею у раковины и отпустят, ободряюще потрепав по плечу.
Отчим, как ни старался, не мог найти постоянную работу, и кормить семью стало обязанностью одиннадцатилетнего Джека Он вставал затемно, заходил за своей пачкой газет и шел разносить по адресам.
После школы он совершал еще один рейс.
Двенадцать долларов – плату за работу – он каждый месяц целиком отдавал Флоре. Кроме того, по субботам он работал у торговца льдом, развозившего свой товар на фургоне, а по воскресным вечерам устанавливал кегли в кегельбане. Теперь, сражаясь с другими газетчиками, наблюдая скандалы в барах, глядя на колоритные сцены оклендского порта, всегда полного судов, он знакомился с подлинной жизнью, без прикрас. В порту были китобои с Ледовитого океана, охотники за диковинками, вернувшиеся с Южных морей; контрабандисты с грузом опиума, китайские джонки, парусники из северных штатов, устричные пираты, греческие рыболовецкие фелюги, почерневшие от копоти грузовые суда, плавучие дома, шаланды, шлюпы, рыбачьи патрули, От тяжелой домашней обстановки десятилетний мальчик искал спасения в книгах о приключениях. Теперь, в тринадцать лет, он бежал из дому к морю.
Джон Лондон, наконец, отыскал себе место ночного сторожа на складе Дэвис Уорф. Это не означало, впрочем, что Джек сможет тратить заработанные деньги как ему вздумается Ему никогда не разрешалось покупать игрушки, будь то волчок, шарики или перочинный нож. Поэтому лишние газеты он выменивал на вложенные в пачки сигарет серии картинок с изображениями знаменитых скаковых лошадей, парижских красоток, чемпионов бокса. Собрав полный комплект, Джек мог получить взамен вожделенные сокровища, на покупку которых его сверстникам родители давали деньги.
Он стал заправским торгашом, что весьма пригодилось ему впоследствии, когда нужно было вытягивать из издателей деньги за рассказы.
Он научился распознавать стоимость вещи чутьем, таким острым, что приятели-мальчишки, сбывая старьевщику собранные лоскуты, бутылки, мешки и жестянки, призывали его на помощь и платили комиссионные.
Айна Кулбрит рассказывает, как в те времена он являлся в библиотеку, неся под мышкой пачку газет, – плохо одетый, неловкий беспризорник – и просил «почитать что-нибудь интересное». Он был готов наброситься на каждую книгу с заманчивым названием. Если верить мисс Кулбрит, он был самонадеян и не сомневался, что добьется успеха. Так появляется первое основное противоречие в натуре Джека: хаос, царивший дома, сознание, что он – незаконнорожденный, сделали его робким и застенчивым. Но могучий ум вселял твердость и уверенность в себе.
Из того, что известно о его школьных годах, лишь немногое заслуживает внимания Его одноклассник Фрэнк Эзертон рассказывает, как однажды Джек услышал, что китайцы, члены тайного общества, набираясь сил для решительных схваток, едят мясо диких кошек и платят за него большие деньги. Друзья смастерили рогатки и стали ловить диких кошек на Пьедмонтских холмах; заработав деньги, Джек хотел бросить школу и сделаться писателем.
Этот рассказ Эзертона – характерный пример воспоминаний под влиянием последующих событий, В большей степени соответствует характеру Джека Лондона другой эпизод Приятели наняли в порту лодку, отправились охотиться на коростелей и случайно уронили в воду 22-калибровый револьвер Джека. Фрэнк умел плавать, и Джек потребовал, чтоб друг нырнул за револьвером на глубину тридцать футов.
Когда Фрэнк отказался, Джек в припадке ярости швырнул весла за борт, и друзьям пришлось несколько часов беспомощно болтаться на воде.
В школе, каждое утро ученики пели хором. Заметив, что Джек молчит, учительница потребовала объяснений. Он ответил, что она сама не умеет петь, детонирует и только испортит ему голос. Учительница отправила его к директору, но тот отослал Джека с запиской, в которой говорилось, что можно освободить ученика Лондона от пения, но что взамен Джек должен писать сочинения каждое утро в течение той четверти часа, когда другие поют. Впоследствии Джек приписывал этому наказанию свою способность писать каждое утро тысячу слов.
*
К тому времени, как ему исполнилось тринадцать лет, он ухитрился скопить два доллара – подчас он считал себя вправе не отдавать Флоре пять-десять центов. На эти деньги он купил старую лодку и стал ходить на ней по всем извилинам дельты, а иногда решался ненадолго выйти в залив. Ненадолго – поневоле: старая калоша протекала, на ней не было выдвижного киля Ее то и дело заливало водой, она врезалась в другие лодки, опрокидывалась, но испытания и ошибки стали для Джека хорошей школой Он был на верху блаженства, чувствуя, как ходят под лодкой волны, ощущая на губах соленый привкус океана Один-одинешенек на своей лодчонке, он командовал, поворачивая ее: «Круче к ветру!»
Тринадцати лет он кончил начальную школу. В классе он считался знатоком истории. Произносить речь на выпускной церемонии предложили ему – без сомнений, по этой причине. Но показаться было не в чем – не нашлось приличного костюма, он не мог даже явиться на торжество. О том, чтоб поступить в среднюю школу, нечего было и думать – заработки отчима становились все более случайными. Джек продолжал разносить газеты, по вечерам продавал их на оклендских улицах, подметал в Визель-парке бары после воскресных пикников. Этот бедно одетый паренек с открытой белозубой улыбкой, стойкий, вспыльчивый, впечатлительный, брался за любую работу.
Целый год, ничего не говоря Флоре, мальчик работал сверхурочно и мало-помалу скопил шесть долларов, чтоб купить подержанный ялик и таким образом обрести свободу. Еще доллар семьдесят пять центов – и он покрасил свою посудину в яркий, веселый цвет. Еще два доллара за месяц сверхурочной работы – и есть парус. Наконец удалось наскрести доллар сорок центов на пару весел – и перед ним широко распахнулся огромный заманчивый мир. Джек уходил все дальше по заливу Сан-Франциско, рыбачил во время отлива на острове Гоут Айленд и возвращался вечером, вместе с приливом, вслед за последним паромом.
Ветер венчал могучие волны белыми шапками, обдавал Джека брызгами, лодку заливало водой, а он распевал морские песни вроде «Снесло его ветром» или «Виски, Джонни, виски». В открытом ялике он пересекал залив при сильном юго-западном ветре, и матросы с рыбацких шхун говорили, что он плетет небылицы, потому что проделать такое невозможно.
Он был не просто храбр – он был безрассуден. Чем сильнее была непогода, тем отчаяннее он рисковал. Вечно размышляя о том, кто же он такой в самом деле, он мысленно называл себя викингом, потомком могучих мореплавателей, в открытой лодке пересекавших Атлантический океан. «Я сын воинственного народа, – говорил он себе, – я англосакс и ничего не боюсь». Так как он действительно ничего не боялся и будто сроднился с морем, он сделался одним из самых искусных лодочников на коварных водах залива.
В том году ему каждый день удавалось урвать для своей любимой лодки час или два – от продажи газет, от случайной работы Но вскоре – Джеку не было еще пятнадцати лет – отчим попал под поезд и получил тяжелые увечья Теперь Лондоны жили в старом домишке на берегу и терпели самую беспросветную нищету и лишения Поблизости было много лачуг, построенных из обломков потерпевших крушение или отслуживших свое судов. В доме было запущено, грязно; Джек ходил в лохмотьях, непрестанно терзаясь голодом – духовным и физическим. Он нашел постоянную работу на консервной фабрике, ютившейся в заброшенной конюшне у полотна железной дороги. Платили ему там десять центов в час, а его рабочий день – самый короткий – продолжался десять часов, случалось работать и двадцать. Порой несколько недель подряд не удавалось кончить работу раньше одиннадцати часов ночи и предстояло еще проделать длинный путь пешком домой: на трамвай денег не хватало. В половине первого он добирался до постели, а в половине шестого Флора уж трясла его за плечо, стараясь сорвать со спящего мальчика одеяло, за которое он отчаянно цеплялся. Свернувшись калачиком в постели, Джек все-таки залезал под одеяло. Тогда собравшись с духом, Флора стягивала одеяло на пол. Спасаясь от холода, мальчик тянулся вслед, казалось, он вот-вот упадет. Но вспыхивало сознание, он успевал вовремя встать на ноги и просыпался.
Одевшись в темноте, он ощупью шел на кухню к осклизлой раковине. Обмылок, зловеще-серый от мытья посуды, не пенился, несмотря на все усилия От сырого полотенца, грязного и рваного, на лице оставались волокна Он садился за стол и получал кусок хлеба и чашку горячей бурды, ничем не напоминавшей кофе. На улице было ясно, холодно; он зябко ежился Звезды еще не побледнели, город лежал, погрузившись во тьму. В фабричных воротах Джек всегда оглядывался на восток: между крышами на горизонте тускло брезжил рассвет.
1 января 1891 года он завел у себя в записной книжке раздел под названием «Приход и расход». Под рубрикой «Приход» значигся сумма в пятнадцать центов. С 1 по 6 января он истратил пять центов на лимоны, десять – на молоко и хлеб. Это было все, что он мог купить до новой получки. Десять с половиной долларов из этой получки были отданы за квартиру, потом он купил масла, керосину, устриц, орехов, пончиков и другой снеди. Двадцать пять центов стоили пилюли для Флоры. Среди других расходов записаны пятьдесят центов за стирку; по-видимому, Флора не особенно утруждала себя, чтобы свести концы с концами.
Неделя за неделей, месяц за месяцем – время шло утомительно долго. Джек тянул свою лямку. Он больше не мог бывать в библиотеке, читал по ночам, засыпал над книгой Измученный, он спрашивал себя: в том ли заключается смысл жизни, чтоб стать рабочей скотиной? Сильный, коренастый, он мог трудиться как чернорабочий, но интеллект, темперамент, воображение – все восставало в нем против механического труда.
Ему вспоминался ялик, бесцельно стоящий у лодочной пристани и обрастающий ракушками, вспоминался ветер на заливе, восходы и закаты, которых он никогда теперь не видит; острое, Как ожог, прикосновение соленой воды к телу, когда ныряешь за борт. Уйти в море – это значило уйти от тупой, однообразной работы и все-таки поддерживать семью. По его собственным словам, то была пора расцвета его юности, когда им владела жажда приключений, мечта о вольной, полной опасностей жизни.
По воскресеньям, когда он выходил прогуляться на ялике и околачивался невдалеке от берега, ему случалось сталкиваться с пиратамиустричниками Это была компания любителей выпивки, авантюристов, искавших легкой наживы Они устраивали набеги на чужие устричные садки в устье залива и по хорошей цене сбывали добычу на оклендской пристани. Джек знал, что они редко добывают меньше двадцати пяти долларов за ночь «работы». А со своей лодкой можно выручить и двести долларов с одного «улова». Услышав, что один из бывалых пиратов по прозванию Френч Фрэнк («Француз») хочет продать свой шлюп «Рэззл-Дэззл» («Пирушка»), Джек мгновенно решился: «Куплю!»
Он не умел прислушиваться к строгому голосу дисциплины, заставлявшей его товарищей крепко держаться за свою изнурительную, зато честную работу.
Но где мальчишке, считающему каждый грош, добыть триста долларов? И он прямым сообщением отправился к няне Дженни. Она работала медицинской сестрой. Может ли она одолжить деньги своему белому сыну? Что за вопрос! Все, что есть у няни, принадлежит ему.
В ближайшее воскресенье Джек сел за весла и в самый разгар веселой попойки явился на «Рэззл-Дэззл» со своим предложением.
Наутро он встретился с Френч Фрэнком в пивной «Ласт Чане», чтоб уплатить за покупку блестящими двадцатидолларовыми золотыми няни Дженни. Едва спрыснув сделку – это был первый в его жизни глоток виски, – Джек со всех ног помчался к пристани, в одно мгновение поднял якорь и, повернув реи так, чтоб паруса взяли крутой бейдевинд, трехмильными галсами вышел на ветер, в залив. Острый бриз рябил фарватер, врывался в легкие, гнал рыбацкие шхуны, гудевшие, чтобы развели мосты. Стремительно шли мимо краснотрубые буксиры, покачивая «Рэззл-Дэззл» в кильватере. От склада тянули барку с грузом сахара. На воде сверкало солнце, вокруг пенилась, бурлила, кипела жизнь. Вот он, весомый, осязаемый, мятежный дух романтики и приключений!
Завтра он станет устричным пиратом, морским разбойником, вольным как ветер, если это возможно в его время и на этих предательских водах.
Поутру он запасется водой и провиантом, поднимет большой гротпарус и, захватив конец отлива, выйдет навстречу ветру. А после, едва начнется прилив, он сбавит паруса, спустится вниз по заливу к острову Аспарагус Айленд и встанет на якорь в открытом море Наконец-то сбудется его мечта: он проведет ночь на воде.
Ирвинг Стоун. Моряк в седле
«Он хотел сделать из меня евнуха, хотел, чтобы я писал мелочные, ограниченные, беззлобные буржуазные рассказы, он хотел, чтобы я встал в ряды умных посредственностей и тем потворствовал бесхарактерным, ожиревшим, трусливым буржуазным инстинктам».
Джек Лондон об издателе Мак-Клюре
* * *
Ирвинг Стоун. «Моряк в седле»:
Он залез в отчаянные долги; задолжал магазину, ссудной лавке, друзьям. Авторские отчисления за «Бога его отцов» пошли в счет авансов от Мак-Клюра, так что на дальнейшие доходы было мало надежды.
Если откуда-нибудь и приходил чек, он уж месяц как был истрачен; ряд рассказов и очерков Джек сбыл небольшим журналам, но денег добиться не мог. Никудышное занятие литература! Жди месяц за месяцем, пока издатель решит, подходи! ли ему твой рассказ. Взяли – жди еще несколько месяцев, пока напечатают, а там – пока заплатят. Джек с пеной у рта возмущался этой системой. Если покупаешь ботинки или овощи – плати наличными, почему же издательства не платят наличными за рассказы?
Что за недостойное отношение к человеку, чей заработок идет на насущные нужды семьи! И Джек еще сильнее утвердился в намерении заставить издателей в конечном счете платить ему большие деньги.
Летом, когда он безнадежно погряз в долгах, его вызвали в редакцию «Экзаминера» с предложением писать специальные заметки для воскресного приложения. Это был тот самый отдел, для которого четыре года тому назад он написал свой первый очерк, чтобы заработать десять долларов и прокормить Флору, Джонни Миллера и себя самого, пока освободится вакансия на почте. Он строчил спортивные обозрения о боксе, написал истерическую статью о прибытии парохода «Орегон», чем навлек на себя немилость местных литераторов; сочинял заметки о «дуэлях девушек», о приходе в лоно цивилизации индейцев племени Уошу и, наконец, целых десять дней убил на отчет о немецком «Schuetzenfest».
Он силился сделать статьи хлесткими, смелыми – такими, какие «Экзаминер» наобещал читателям. Получалось нечто вымученное и фальшивое, зато куда как реальна была еда, которую получало взамен его семейство!
В августе на Джека свалилась беда. Перечитав и отклонив ряд написанных за несколько месяцев рассказов, в числе которых были «Круглолицый» и «Нам-Бок – лжец», Мак-Клюр потерял в него веру. «Ваша работа, по-видимому, пошла по такому пути, который делает ее неприемлемой для нашего журнала. Я, разумеется, понимаю, что Вы должны следовать велениям Вашего таланта, но если только Вы не сочтете возможным обеспечить нас пригодным материалом, не думаете ли Вы, что нам лучше прекратить выплату Вам жалованья, скажем, в октябре – ноябре?»
Шесть человек на плечах – и единственный верный источник дохода иссяк!
Мак-Клюр дает понять, что стоит ему писать, как прежде, – и журнал будет хорошо платить. Если он поддастся Мак-Клюру, постарается добросовестно подражать своим ранним вещам или писать по заранее заданной схеме, то можно очень неплохо зарабатывать. Если он подчинится велениям своего пытливого разума, требующего, чтобы он и дальше исследовал новые революционные области человеческой деятельности и художественной формы, тогда он, а заодно и те, кто от него зависит, опять столкнутся с полуголодным существованием. Для этого человека, утверждавшего, что он страстно жаждет денег, что за хорошую цену журналы могут купить его с головой; для человека, который поклялся «быть откровенно и последовательно циничным там, где дело касается денег», – для этого человека оказалось приемлемым лишь одно решение. Он мысленно распростился с Мак-Клюром и продолжал писать о том, что его глубоко задевало, о чем, по его убеждению, необходимо было писать.
Еще два месяца – и Мак-Клюр прекращает выплату ста двадцати пяти долларов. Если Джек будет работать бешено, отчаянно, неужели ему не удастся что-нибудь пристроить, разведать новые пути в издательском мире?
* * *
«Для меня новый год начался в тревогах, заботах и разочарованиях».
Долги составляли три тысячи долларов. Вот беда: он внушал людям симпатию и доверие, поэтому ему слишком щедро давали в кредит.
Он не мог заработать столько, чтоб хватило на всех, кого нужно было содержать, а их ведь становилось все больше. Работа, растущая известность не вызывали в нем удовлетворения; и то и другое, по его мнению, продвигалось слишком туго. Однако горести усугублялись главным образом из-за постоянных припадков уныния, периодически мучавших его еще с ранней юности. «Вчера к обеду подавали черепаховый суп и дичь, шампанское и массу других чудесных вин, каких я еще и не пробовал; они согревают сердце и горячат мысль. И тут мне припомнились убогие кутежи моей юности. (В менее подавленном настроении эти кутежи рисовались ему в романтическом свете.) Плохо одетые, плохо воспитанные, грубые, мы глотали дрянную дешевую тошнотворную жидкость.
Я будто видел сны наяву и, выкарабкавшись из липкой грязи к черепаховому супу, дичи и шампанскому, прозрел: единственная разница между тем и этим – степень воздействия искусства на процессы брожения».
Горькие слова, нездоровые, но сказанные лишь под влиянием момента, – не что иное, как рецидив тоски, напавшей на неукротимого индивидуалиста, больше всего занятого тем, как бы покорить мир. Вот что пишет он, поддавшись гнетущей тоске:
«В чем же смысл этого химического фермента, именуемого жизнью?
Неудивительно, что из века в век маленькие, беспомощные люди в поисках ответа сотворяли себе богов. Небольшой божок – симпатичное приобретеньице! Все объясняет! А как насчет нас с тобою? Как быть с теми, у кого нет бога? Материалистический монизм? Чертовски неутешительная штука!»
С деловой точки зрения у Джека не было особых причин падать духом. 27 декабря он получил письмо от Джорджа П. Бретта, президента одного из самых активных издательств Америки, компании Макмиллана.
Бретт писал, что вещи Джека – неоспоримо лучшее из всего, что создано в этом жанре американскими писателями, что компания изъявляет горячее желание печатать произведения Джека Лондона как в Америке, так и в Европе. В ответ Джек послал Бретту ряд рассказов об Аляске и индейцах под общим заглавием «Дети Мороза». Всего через пять дней после появления на свет меланхолических сентенций относительно «химического фермента, именуемого жизнью», Макмиллан принял «Детей Мороза» и согласился выплатить аванс в двести долларов. Апатии как не бывало! «Не знаю, – пишет он Бретту, – являются ли «Дети Мороза» шагом вперед по сравнению с прежними вещами; знаю только, что во мне спрятаны книги – большие книги. Когда я по-настоящему найду себя, они появятся на свет».
В феврале началось «великое переселение народов в горы». Джек подыскал в Пьедмонте дом с участком в пять акров; половина – плодоносящий фруктовый сад, другая покрыта золотистыми маками, вокруг – великолепные сосны. Большая гостиная, столовая, отделанная красноватым деревом секвойи, а в гуще сосен – маленький коттедж для Флоры с Джонни Миллером. «У нас тут замечательная веранда – просторная, прохладная, а вид! За тридцать-сорок миль все как на ладони: весь залив Сан-Франциско, весь берег напротив – и Марин Каунти, и гора Тамальпайс, не говоря уж о Золотых Воротах и Тихом океане. И все за 35 долларов в месяц!»
Если вы можете начать свой день без кофеина, если вы всегда можете быть жизнерадостным и не обращать внимание на боли и недомогания, если вы можете удержаться от жалоб и не утомлять людей своими проблемами, если вы можете есть одну и ту же пищу каждый день и быть благодарными за это, если вы можете понять любимого человека, когда у него не хватает на вас времени, если вы можете пропустить мимо ушей обвинения со стороны любимого человека, когда все идет не так не по вашей вине, если вы можете спокойно воспринимать критику, если вы можете относиться к своему бедному другу так же, как и к богатому, если вы можете обойтись без лжи и обмана, если вы можете бороться со стрессом без лекарств, если вы можете расслабиться без выпивки, если вы можете заснуть без таблеток, если вы можете искренне сказать, что у вас нет предубеждений против цвета кожи, религиозных убеждений, сексуальной ориентации или политики, - значит, вы достигли уровня развития своей собаки.
Уинстон Черчилль
Холодное слово уста оскверняет.
Михаил Лермонтов. Стихотворение К Д. «Будь со мною, как прежде бывала...»
Река Уонгануи в Новой Зеландии, третья по величине в стране, стала первым водоемом в мире, получившим те же юридические права, что и человек. Об этом в четверг, 16 марта, сообщает The Guardian.
Признания равенства реки и человека местное племя маори (Māori) добивалось в течение 140 лет. «Мы считаем реку своим предком, мы с ней единое целое, поэтому мы делали все это», — рассказал изданию Джеррард Альберт (Gerrard Albert), представитель маори, который вел переговоры с парламентом страны.
Закон вступил в силу в среду, 15 марта. Новый статус водоема означает, что причиненный ему вред приравнивается к ущербу, нанесенному племени. Уонгануи также получила двух попечителей, от правительства страны и от племени.
Сообщается, что этот процесс стал самым длинным в истории Новой Зеландии. Газета отмечает, что сотни местных жителей заплакали от радости, когда узнали, что им удалось добиться признания реки живым существом.
На работы по реновации реки власти выделили 80 миллионов долларов, а также один миллион долларов на создание правовой базы.
Маори — коренной народ, являвшийся основным населением Новой Зеландии до прибытия европейцев. Число маори в Новой Зеландии по переписи 2013 года составляло около 600 тысяч человек (приблизительно 15 процентов населения страны).
Зимой 2014 года суд в Аргентине впервые в мире наделил орангутанга правом на личную свободу, которым обладает человек. После этого признания было решено выпустить животное из зоопарка на волю.
lenta.ru
Наушник и двоязычный да будут прокляты, ибо они погубили многих, живших в тишине.
Сир. 28:15
Как считали наши предки, поздно быть бережливым, когда осталось на донышке
Луций Анней Сенека. Нравственные письма к Луцилию (I)
Ср. Гесиод. Работы и дни, 369: «У дна смешна бережливость»
Как составляют полезные лекарства, так я заношу на листы спасительные наставления, в целительности которых я убедился на собственных ранах: хотя мои язвы не закрылись совсем, но расползаться вширь перестали. Я указываю другим тот правильный путь, который сам нашел так поздно, устав от блужданий. Я кричу: "Избегайте всего, что любит толпа, что подбросил вам случай! С подозрением и страхом остановитесь перед всяким случайным благом! Ведь и рыбы, и звери ловятся на приманку сладкой надежды! Вы думаете, это дары фортуны? Нет, это ее козни. Кто из вас хочет прожить жизнь насколько возможно безопаснее, тот пусть бежит от этих вымазанных птичьим клеем благодеяний, обманывающих нас, несчастных, еще и тем, что мы, возомнив, будто добыча наша, сами становимся добычей. Погоня за ними ведет в пропасть. (4) Исход высоко вознесшейся жизни один - паденье. К тому же нельзя и сопротивляться, когда счастье начинает водить нас вкривь и вкось. Или уж плыть прямо, или разом ко дну! Но фортуна не сбивает с пути - она опрокидывает и кидает на скалы.
Луций Анней Сенека. Нравственные письма к Луцилию (VIII)
Перевод С. А. Ошерова
«Я открыл атлас (география для меня не наука, а отношения, которыми я спешу воспользоваться), и вот ты уже отмечена, Марина, на моей внутренней карте: где-то между Москвой и Толедо я создал пространство для натиска твоего океана»
Рильке — Цветаевой
*
«Я жду Ваших книг, как грозы, которая – хочу или нет – разразится. Совсем как операция сердца (не метафора! каждое стихотворение (твое) врезается в сердце и режет его по-своему – хочу или нет). Знаешь ли, почему я говорю тебе Ты и люблю тебя и – и – и – потому что ты – сила. Самое редкое».
Цветаева — Рильке
*
Они не встретились. Рильке умер 29 декабря 1926 в местечке Валь-Мон в Швейцарии. Он сам сочинил надпись для своего надгробия:
Rose, oh reiner Widerspruch, Lust,
Niemandes Schlaf zu sein unter soviel Lidern.
Роза, о чистая двойственность чувств, каприз:
быть ничьим сном под тяжестью стольких век.
Эти «большие слова» (поэзии - С.К.) не значат что-то: они просто есть что-то. И реальность их существования поражает. В «больших словах» поэта мы узнаем слово нашего языка не как смысловую, но как силовую единицу. Да, с поэтическим словом всерьез, по-прозаически (точнее: по-журналистски) спорить будет только невежда определенного толка. Зато их, «большие слова» поэтов, можно просто не слышать. Есть и такое «мы», просто не слышащее поэзии как поэзии. Это те, кто привыкли понимать слова «по отдельности», а поэзия «по отдельности» не говорит.
***
Я же тот, кто только когда Любовь мне дышит, записываю, и таким образом То, что сказано внутри, обозначаю
Данте. Божественная комедия (Purg. XXIV, 52–54).
Веря поэту, мы верим такой возможности быть другим, что с совсем обыденной точки зрения значит – мы верим невероятному. Мы верим тому, что в голосе поэта мы слышим другой голос: его называют голосом Музы, голосом Орфея, одного во всех поэтах (эта тема обсуждается в тройной переписке Пастернак – Рильке – Цветаева), голосом самого языка, голосом того, что существует «внутри», вдали человека, что для него в себе редкостно, но при этом – знакомее и роднее всего. В любимых стихах мы узнаем этого «дальнего и родного себя». Узнаем эти моменты, когда, как писал один из поэтичнейших прозаиков, Марсель Пруст, во «мне» оживает другое «я», само существование которого есть экстаз и счастье («Что это за существо, я не знаю... оно умирает, когда гармония перестает звучать, возрождается, когда встречает другую гармонию, питается лишь общим или идеей и умирает в частном, но в то время, пока оно существует, его жизнь приносит экстаз и счастье, и лишь оно должно было писать мои книги», «Против Сент-Бева»). Добавим: и лишь оно (называют ли его Музой, Орфеем, языком и проч.) и должно, и может писать стихи, которым мы верим. Его пробуждение преображает предметы и лица «внешней» реальности. Потому что оно общается не с рассыпанными вещами, как это делает обыденное «я», а с целым. Ввиду целого, в сети бесчисленных сцеплений и связей отдельный предмет может оказаться неузнаваемым. С вещами, о которых повествует поэт, происходит то же, что с его словами (см. выше, о «больших словах»): они приобретают меру целого. А целое является в наш мир, как замечали еще в досократовской древности, как удар молнии. Поэтому Ариост у Мандельштама «содрогается, преображаясь весь». Веря поэту, мы верим, что жизнь – это нечто большее и лучшее, чем мы привыкли думать, и что, как сказал наш философ Мераб Мамардашвили, «быть живым – это быть способным к другому».
Веря поэту, мы верим той правде, которую можно любить. Есть другое представление о правде, «жестокой» или «низкой», которая не поднимает нас на воздушном шаре, а еще крепче прибивает к земле, нагружая новыми бременами. Такой правды поэты обычно не говорят. Быть может, иногда они и хотели бы ее сказать, но пока они бормочут, в их бормотаньях, на ощупь в темноте нашаривающих форму, закономерность будущей вещи, пробивается электрический разряд – и от «низкой истины» ничего не остается. В ритме целого она двинется другим шагом. Веря поэту, мы верим такой истине, которая, как и его слово, – вещь не смысловая, а силовая. Ее нельзя свести к одномерному и статичному «значению». Она не значит, а делает: делает нас свободными и другими.
Греки называли прозу «пешей речью». Что же тогда, оставаясь в границах этого образа, поэзия? Верховая езда? (Можно ведь вспомнить Пегаса, коня вдохновения). Нет: это шаг танца. Танцуя, никуда не придешь. Но и не требуется приходить: мы уже и так там, где надо, в мгновенном центре мира.
Ольга Седакова. Кому мы больше верим: поэту или прозаику?
«Песня есть существование (присутствие)», - находим в сонетах Рильке.
=
Результатом двух русских путешествий стал сборник «Часослов», написанный в форме дневника православного монаха. Три книги «Часослова» вышли под одной обложкой в 1905 году. В «Часослове» причудливо переплелись впечатления от путешествий по России, следы увлечения немецкой мистикой и, отчасти, романтические интонации. Впервые в России Рильке побывал в 1899 году. "Впервые в жизни мной овладело невыразимое чувство, похожее на "чувство родины", – признавался он позже. И уже в следующем году повторил путешествие. Он встречался с Толстым в Ясной поляне, с Чеховым, Репиным, Леонидом Пастернаком. Свое путешествие по Волге Рильке описывал так: «У меня такое ощущение, как будто я увидел работу Творца». "Чем я обязан России? Она сделала из меня того, кем я стал; из нее я внутренне вышел, все мои глубинные истоки - там!"
=
Одним из поэтических концептов, формирующих художественный (поэтический) мир цикла «Часослов», является концепт «Lied» («Песня»). Цикл «Часослов» по форме представляет собой цикл молитв лирического героя, обращённых к Богу. Значительное место в цикле занимают обращения, которые отличаются от общепринятых обращений к богу в молитве. Именно они главным образом репрезентируют концепт «Бог» в лирике Рильке. Одним из обращений к богу в цикле является обращение du Lied (ты, песня), лирический герой называет бога das Lied der Jahre (песня лет). Подобное обращение к Богу свидетельствует о значимости данного концепта для поэтического мира цикла. Эта точка зрения подтверждается тем, что лирический герой говорит о себе bin ich … ein großer Gesang (я…великая песня).
*
Почему лирический герой называет бога песней? Одним из объяснений может служить тот момент, что для лирического героя Богом является произведение искусства, творчество. Однако это открывает возможность буквального прочтения и понимания данного концепта. Вспомним, что у Рильке всё не так просто. Одним из концептов «Часослова» нами был выделен концепт «Закон тяготения» («Das Gesetz der Schwere»), тот закон, согласно которому существует все сущее в этом мире. Бог для лирического героя является основой всего сущего, он дает жизнь всему живому и сам является этой жизнью. Ключами к прочтению этого смысла концепта являются Семы «гармония», «упорядоченность» и «красота» в лексическом значении слова. Поэтому песня – это не просто произведение, состоящее из звуков, а скорее особый модус бытия, гармония, в которой находятся все элементы бытия. Исходя из этого, становится понятным, почему лирический герой называет Бога Lied. Бог «поётся», творится, всем живым, живётся, животными, деревьями, цветами, вещами. Каждая вещь в этом мире «поёт», «звучит» в соответствии с ним. Всё в мире несет на себе отзвук Бога, созвучно Ему и поет Его. Более того, Бог является упорядочивающим элементом бытия, и отсюда возникает его сравнение с рифмой (Reim), которая служит организации стихотворения: Ich war Gesang, und Gott, der Reim, rauscht noch in meinem Ohr.
*
В другом стихотворении лирический герой говорит, что человек отвлекаясь от суеты и мира, включается в общий хор бытия: Gelöste aus dem Alltag, eingeschaltet/ in große Orgeln und in Chorgesang . В случае если человек нарушает законы бытия, он не может включиться в этот общий хор. Его жизнь не является настоящей жизнью, она остается непрожитой, как мелодия несыгранной: wie eine ungespielte Melodie.
*
В обыденном понимании песня – это звучащее произведение. И выше описанный анализ позволяет думать, что именно об этом и идёт речь. Однако при подробном рассмотрении дистрибуции лексической единицы Lied в других контекстах открывается несколько иное её прочтение. Исследуемая лексема употребляется в одном контексте вместе с лексемой schweigen (молчать). Отсюда получается, что речь идет не о производстве звуков в созвучии с природой и не о музыкальном произведении (искусства). Речь идёт о духовном состоянии, настрое на жизнь, природу, состояние спокойствия и исключенности из «экзистенциального шума». Бог – это du Lied, das wir mit jedem Schweigen sangen. Бог - песня, поющаяся молчанием и в молчании. Ich habe Hymnen, die ich schweige. Под молчанием понимается углубленность в глубины своей души, в свой внутренний мир, предельная сконцентрированность на духовной жизни.
*
О паломниках, идущих к Богу, лирический герой говорит, что они schwer von ihrem Schweigen. Атрибут schwerотсылает нас к концепту «Закон тяготения», «тяжелый» может интерпретироваться как стремящийся к своему онтологическому центру во взаимосвязанной структуре бытия, в «Часослове» таким центром является Бог. Более того, песня как молчание является характеристикой не только человека, но и ангелов (Engel) и скрипок (Geigen) (хотя скрипки по определению должны производить звуки).
*
Молчание становится другой стороной песни. Бог оказывается der Verschwiegene (молчаливым).
«Часослов» заканчивается гимном святому Франциску Ассизскому, «проповедовавшего опрощение и единение с природой». В стихотворении описывается жизнь Франциска, неразрывно связанная с пением:
Und wenn er sang, so kehrte selbst das Gestern
und das Vergessene zurück und kam.
Его пение представляет собой возвращение к забытым истокам das Gestern und das Vergessene, к забытому богу. Это сближает его с русскими кобзарями. В первой части «Часослова» «Книге о монашеской жизни» лирический герой упоминает старика-певца («Eine Stunde vom Rande des Tages» и «Und dennoch mir geschieht». Русские певцы-кобзари в своих песнях передавали новым поколениям забытые мелодии, именно через них Россия соприкасается со своим прошлым.
Для слепого старца, весь мир был внутри, в его душе für ihn ist alles innen, Himmel; Heide und Haus, он передавал его в своих песнях своим слушателям. Однако в настоящее время его песни утеряны Lieder sind ihm verloren, потому что, когда произведения устного творчества стали записываться, когда люди отдалились от своих истоков, «русский Гомер» умер.
*
Подведём итог. Смысл концепта «Lied» («Песня») рассеивается в следующих направлениях:
1) Бог – песня;
2) Песня – основной принцип жизни;
3) Молчание «песни»;
4) Певцы прошлого.
Песня для лирического героя «Часослова» – это неотъемлемый элемент бытия, категория, отличающаяся от обыденного понимания этого явления. Песня представляет собой не музыкальное произведение, а духовное состояние гармонии и равновесия, как мира, так и человека, его созвучие с жизнью. Все живое в этом мире своей «поёт» песню жизни. Песня тесно связано с молчанием, которое символизирует самоуглубление, устремленность в свой внутренний мир, сконцентрированность на истинной жизни, а не на «экзистенциальном шуме». Сконцентрированность на внутреннем мире и проживание своей истинной жизни были характерны для прошлого, когда жизнь людей была больше связана с природой, когда жизнь людей была устремлена к прославлению истинной жизни и гармонии с природой. Во всех вещах этого мира они находили бога. Гимны Франциска Ассизского, песни русских кобзарей прославляли саму жизнь, природу, и обеспечивали связь между поколениями.
Концепт "Lied" ("Песня") в "Часослове" Р.М. Рильке.
Воробей Инна Александровна,кандидат филологических наук, доцент,
кафедра немецкого языка, БУ ВО ХМАО - Югры "Сургутский государственный университет"
Никто из поэтов начала века не жил тише, таинственнее, неприметнее, чем Рильке. Тишина как бы сама ширилась вокруг него... он чуждался даже своей славы. Его голубые глаза освещали изнутри его лицо, в общем-то неприметное. Самое таинственное в нём было — именно эта неприметность. Должно быть, тысячи людей прошли мимо этого молодого человека с немного славянским, без единой резкой черты лицом, прошли, не подозревая, что это поэт, и притом один из величайших в нашем столетии...
Стефан Цвейг. «Вчерашний мир»