Слесарь Гопнер говорит:
«Хлеб и любое вещество надо губить друг для друга, а не копить его. Раз не можешь сделать самого лучшего для человека – дай ему хоть хлеба».
Описание Гопнера:
«Гопнер глядел отвлеченно вдаль, унесенный потоком удвоенной силы - речью оратора и своим спешащим сознанием. Дванов испытывал болезненное неудобство, когда не мог близко вообразить человека и хотя бы кратко пожить его жизнью. Он с беспокойством присмотрелся к Гопнеру, пожилому и сухожильному человеку, почти целиком съеденному сорокалетней работой; его нос, скулья и ушные мочки так туго обтянулись кожей, что человека, смотревшего на Гопнера, забирал нервный зуд. Когда Гопнер раздевался в бане, он, наверное, походил на мальчика, но на самом деле Гопнер был стоек, силен и терпелив, как редкий.
Долгая работа жадно съедала, и съела, тело Гопнера - осталось то, что и в могиле долго лежит: кость да волос; жизнь его, утрачивая всякие вожделения, подсушенная утюгом труда, сжалась в одно сосредоточенное сознание, которое засветило глаза Гопнера позднею страстью голого ума.
Дванов вспомнил про свои прежние встречи с ним. Когда-то они много беседовали о шлюзовании реки Польного Айдара, на которой стоял их город, и курили махорку из кисета Гопнера; говорили они не столько ради общественного блага, сколько от своего избыточного воодушевления, не принимавшегося людьми в свою пользу».
Председатель ревкома Чепурный говорит:
«Чепурный не мог скрыть своей яростной любви к Чевенгуру: он снял с себя шапку и бросил ее в грязь, затем вынул записку Дванова об отдаче рысака и истребил ее на четыре части.
- Нет, товарищ, Чевенгур не собирает имущества, а уничтожает его. Там живет общий и отличный человек, и, заметь себе, без всякого комода в горнице - вполне обаятельно друг для друга».
Описание Чепурного:
«Дванов сидел между Гопнером и Фуфаевым, а впереди него непрерывно бормотал незнакомый человек, думая что-то в своем закрытом уме и не удерживаясь от слов. Кто учился думать при революции, тот всегда говорил вслух, и на него не жаловались.
Партийные люди не походили друг на друга - в каждом лице было что-то самодельное, словно человек добыл себя откуда-то своими одинокими силами. Из тысячи можно отличить такое лицо - откровенное, омраченное постоянным напряжением и немного недоверчивое. Белые в свое время безошибочно угадывали таких особенных самодельных людей и уничтожали их с тем болезненным неистовством, с каким нормальные дети бьют уродов и животных: с испугом и сладострастным наслаждением. <...>
Сзади себя Дванов услышал медленные шаги спускающегося с лестницы человека. Человек бормотал себе свои мысли, не умея соображать молча. Он не мог думать втемную - сначала он должен свое умственное волнение переложить в слово, а уж потом, слыша слово, он мог ясно чувствовать его. Наверно, он и книжки читал вслух, чтобы загадочные мертвые знаки превращать в звуковые вещи и от этого их ощущать.
- Скажи пожалуйста! - убедительно говорил себе и сам внимательно слушал человек. - Без него не знали: торговля, товарообмен да налог! Да оно так и было: и торговля шла сквозь все отряды, и мужик разверстку сам себе скащивал, и получался налог! Верно я говорю иль я дурак?..
Человек иногда приостанавливался на ступеньках и делал себе возражения:
- Нет, ты дурак! Неужели ты думаешь, что Ленин глупей тебя: скажи пожалуйста!
Человек явно мучился. Пожарный на крыше снова запел, не чувствуя, что под ним происходит.
- Какая-то новая экономическая политика! - тихо удивлялся человек.
- Дали просто уличное название коммунизму! И я по-уличному чевенгурцем называюсь - надо терпеть!
Человек дошел до Дванова и Гопнера и спросил у них:
- Скажите мне, пожалуйста: вот у меня коммунизм стихией прет - могу я его политикой остановить иль не надо?
- Не надо, - сказал Дванов.
- Ну, а раз не надо - о чем же сомнение? - сам для себя успокоительно ответил человек и вытащил из кармана щепотку табаку. Он был маленького роста, одетый в прозодежду коммуниста, - шинель с плеч солдата, дезертира царской войны, - со слабым носом на лице.
Дванов узнал в нем того коммуниста, который бормотал спереди него на собрании.
- Откуда ты такой явился? - спросил Гопнер.
- Из коммунизма. Слыхал такой пункт? - ответил прибывший человек.
- Деревня, что ль, такая в память будущего есть?
Человек обрадовался, что ему есть что рассказать.
- Какая тебе деревня - беспартийный ты, что ль? Пункт есть такой - целый уездный центр. По-старому он назывался Чевенгур. А я там
был, пока что, председателем ревкома.
- Чевенгур от Новоселовска недалеко? - спросил Дванов.
- Конечно, недалеко. Только там гамаи живут и к нам не ходят, а у нас всему конец.
- Чему ж конец-то? - недоверчиво спрашивал Гопнер.
- Да всей всемирной истории - на что она нам нужна?»
« - Дай закурить! - попросил тот же пожилой крестьянин.
Чепурный исподволь посмотрел на него чужими глазами.
- Сам домовладелец, а у неимущего побираешься...
Мужик понял, но скрыл обиду.
- Да ведь по разверстке, товарищ, все отобрали: кабы не она, я б тебе сам в мешочек насыпал.
- Ты насыпешь! - усомнился Чепурный. - Ты высыпешь - это да!
Крестьянин увидел вяляющуюся чеку, слез с телеги и положил ее за голенище.
- Когда как, - ровным голосом сообщил он. - Товарищ Ленин, пишут в газетах, учет полюбил: стало быть, из недобрых рук можно и в мешок набрать, если из них наземь сыплется.
- А ты тоже с мешком живешь? - напрямик спрашивал Чепурный.
- Не ина'че. Поел - и рот завязал. А из тебя сыплется, да никто не подбирает. Мы сами, земляк, знатные, - зачем ты человека понапрасну обижаешь?
Чепурный, обученный в Чевенгуре большому уму, замолчал.
Несмотря на звание председателя ревкома, Чепурный этим званием не пользовался. Иногда, когда он, бывало, сидел в канцелярии, ему приходила в голову жалостная мысль, что в деревнях живут люди, сплошь похожие друг на друга, которые сами не знают, как им продолжать жизнь, и если не трогать их, то они вымрут; поэтому весь уезд будто бы нуждался в его умных заботах.
Объезжая же площадь уезда, он убедился в личном уме каждого гражданина и давно упразднил административную помощь населению.
Пожилой собеседник снова утвердил Чепурного в том простом чувстве, что живой человек обучен своей судьбе еще в животе матери и не требует надзора.
При выезде с постоялого двора Чепурного окоротил сподручный хозяина и попросил денег за постой. У того денег не было и быть не могло - в Чевенгуре не имелось бюджета, на радость губернии, полагавшей, что там жизнь идет на здоровых основах самоокупаемости; жители же давно предпочли счастливую жизнь всякому труду, сооружениям и взаимным расчетам, которым жертвуется живущее лишь однажды товарищеское тело человека.
Отдать за постой было нечем.
- Бери что хочешь, - сказал сподручному чевенгурец. - Я голый коммунист.
Тот самый мужик, что имел мысли против чевенгурца, подошел на слух этого разговора.
- А сколько по таксе с него полагается? - спросил он.
- Миллион, если в горнице не спал, - определил сподручный.
Крестьянин отвернулся и снял у себя с горла, из-под рубашки, кожаную мошонку.
- Вот на' тебе, малый, и отпусти человека, - подал деньги бывший собеседник чевенгурца.
- Мое дело - служба, - извинился сподручный. - Я душу вышибу, а даром со двора никого не пущу.
- Резон, - спокойно согласился с ним крестьянин. - Здесь не степь, а заведение: людям и скоту одинаковый покой.
За городом Чепурный почувствовал себя свободней и умней.
Снова перед ним открылось успокоительное пространство. Лесов, бугров и зданий чевенгурец не любил, ему нравился ровный, покатый против неба живот земли, вдыхающий в себя ветер и жмущийся под тяжестью пешехода.
Слушая, как секретарь ревкома читал ему вслух циркуляры, таблицы, вопросы для составления планов и прочий государственный материал из губернии, Чепурный всегда говорил одно - политика! - и задумчиво улыбался, втайне не понимая ничего. Вскоре секретарь перестал читать, управляясь со всем объемом дел без руководства Чепурного.
Сейчас чевенгурца везла черная лошадь с белым животом - чья она была, неизвестно. Увидел ее Чепурный в первый раз на городской площади, где эта лошадь объедала посадки будущего парка, привел на двор, запряг и поехал. Что лошадь была ничья, тем она дороже и милей для чевенгурца: о ней некому позаботиться, кроме любого гражданина. Поэтому-то весь скот в Чевенгурском уезде имел сытый, отменный вид и круглые обхваты тела.
Дорога заволокла Чепурного надолго. Он пропел все песни, какие помнил наизусть, хотел о чем-нибудь подумать, но думать было не о чем - все ясно, оставалось действовать: как-нибудь вращаться и томить свою счастливую жизнь, чтобы она не стала слишком хорошей, но на телеге трудно утомить себя. Чевенгурец спрыгнул с телеги и побежал рядом с пышущей усталым дыханием лошадью. Уморившись бежать, он прыгнул на лошадь верхом, а телега по-прежнему гремела сзади пустой. Чепурный оглянулся на телегу - ему она показалась плохой и неправильно устроенной: слишком тяжела на ходу.
Тпру, - сказал он коню и враз отпряг телегу. - Стану я живую жизнь коня на мертвую тяготу тратить: скажи пожалуйста!
- И, оставив сбрую, он поехал верхом на освобожденном коне; телега опустила оглобли и легла ждать произвола первого проезжего крестьянина.
"Во мне и в лошади сейчас кровь течет! - бесцельно думал Чепурный на скаку, лишенный собственных усилий. - Придется копенкинского рысака в поводу держать - на пристяжку некуда"».
Чепурный глядел на Чевенгур, заключивший в себе его идею.
Начинался тихий вечер, он походил на душевное сомнение Чепурного, на предчувствие, которое не способно истощиться мыслью и успокоиться. Чепурный не знал, что существует всеобщая истина и смысл жизни - он видел слишком много разнообразных людей, чтобы они могли следовать одному закону. Некогда Прокофий предложил Чепурному ввести в Чевенгуре науку и просвещение, но тот отклонил такие попытки без всякой надежды.
"Что ты, - сказал он Прокофию, - иль не знаешь - какая наука? Она же всей буржуазии даст обратный поворот: любой капиталист станет ученым и будет порошком организмы солить, а ты считайся с ним! И потом наука только развивается, а чем кончится - неизвестно".
Чепурный на фронтах сильно болел и на память изучил медицину, поэтому после выздоровления он сразу выдержал экзамен на ротного фельдшера, но к докторам относился как к умственным эксплуататорам.
- Как ты думаешь? - спросил он у Копенкина. - Твой Дванов науку у нас не введет?
- Он мне про то не сказывал: его дело один коммунизм.
- А то я боюсь, - сознался Чепурный, стараясь думать, но к месту вспомнил Прошку, который в точном смысле изложил его подозрение к науке. - Прокофий под моим руководством сформулировал, что ум такое же имущество, как и дом, а стало быть, он будет угнетать ненаучных и ослабелых...
- Тогда ты вооружи дураков, - нашел выход Копенкин. - Пускай тогда умный полезет к нему с порошком! Вот я - ты думаешь, что? - я тоже, брат, дурак, однако живу вполне свободно.
Заперев Пролетарскую Силу в сарай, Копенкин пошел за босым Чепурным, который сегодня был счастлив, как окончательно побратавшийся со всеми людьми человек. По дороге до реки встретилось множество пробудившихся чевенгурцев - людей обычных, как и всюду, только бедных по виду и нездешних по лицу.
- День летом велик: чем они будут заниматься? - спросил Копенкин.
- Ты про ихнее усердие спрашиваешь? - неточно понял Чепурный.
- Хотя бы так.
- А душа-то человека - она и есть основная профессия. А продукт ее - дружба и товарищество! Чем тебе не занятье - скажи пожалуйста!
Копенкин немного задумался о прежней угнетенной жизни.
- Уж дюже хорошо у тебя в Чевенгуре, - печально сказал он. - Как бы не пришлось горя организовать: коммунизм должен быть едок, малость отравы - это для вкуса хорошо.
Чепурный почувствовал во рту свежую соль - и сразу понял Копенкина.
- Пожалуй, верно. Надо нам теперь нарочно горе организовать. Давай с завтрашнего дня займемся, товарищ Копенкин!
- Я не буду: мое дело - другое. Пускай Дванов вперед приедет - он тебе все поймет.
- А мы это Прокофию поручим!
- Брось ты своего Прокофия! Парень размножаться с твоей Клавдюшей хочет, а ты его вовлекаешь!
- И то, пожалуй, так - обождем твоего сподвижника!
О берег реки Чевенгурки волновалась неутомимая вода; с воды шел воздух, пахнущий возбуждением и свободой, а два товарища начали обнажаться навстречу воде. Чепурный скинул шинель и сразу очутился голым и жалким, но зато от его тела пошел теплый запах какого-то давно заросшего, спекшегося материнства, еле памятного Копенкину.
Солнце с индивидуальной внимательностью осветило худую спину Чепурного, залезая во все потные щели и ущербы кожи, чтобы умертвить там своим жаром невидимых тварей, от каких постоянно зудит тело. Копенкин с почтением посмотрел на солнце: несколько лет назад оно согревало Розу Люксембург и теперь помогает жить траве на ее могиле.
Копенкин давно не находился в реке и долго дрожал от холода, пока не притерпелся. Чепурный же смело плавал, открывал глаза в воде и доставал со дна различные кости, крупные камни и лошадиные головы. С середины реки, куда не доплыть неумелому Копенкину, Чепурный кричал песни и все более делался разговорчивым. Копенкин окунался на неглубоком месте, щупал воду и думал: тоже течет себе куда-то - где ей хорошо!
Возвратился Чепурный совсем веселым и счастливым.
- Знаешь, Копенкин, когда я в воде - мне кажется, что я до точности правду знаю... А как заберусь в ревком, все мне чего-то чудится да представляется...
- А ты занимайся на берегу.
- Тогда губернские тезисы дождь намочит, дурной ты человек!
Копенкин не знал, что такое тезис, - помнил откуда-то это слово, но вполне бесчувственно.
- Раз дождь идет, а потом солнце светит, то тезисы ты не жалей, - успокоительно сказал Копенкин. - Все равно ведь хлеб вырастет.
Чепурный усиленно посчитал в уме и помог уму пальцами.
- Значит, ты три тезиса объявляешь?
- Ни одного не надо, - отвергнул Копенкин. - На бумаге надо одни песни на память писать.
- Как же так? Солнце тебе - раз тезис! Вода - два, а почва - три.
- А ветер ты забыл?
- С ветром - четыре. Вот и все. Пожалуй, это правильно.
Только знаешь, если мы в губернию на тезисы отвечать не будем, что у нас все хорошо, то оттуда у нас весь коммунизм ликвидируют.
- Нипочем, - отрек такое предположение Копенкин. - Там же такие, как и мы!
- Такие-то такие, только пишут непонятно и все, знаешь, просят побольше учитывать да потверже руководить... А чего в Чевенгуре учитывать и за какое место людьми руководить?
- Да а мы-то где ж будем?! - удивился Копенкин. - Разве ж мы позволим гаду пролезть! У нас сзади Ленин живет!
* * *
Раненый купец Щапов лежал на земле с оскудевшим телом и просил наклонившегося чекиста:
— Милый человек, дай мне подышать — не мучай меня. Позови мне женщину проститься! Либо дай поскорее руку — не уходи далеко, мне жутко одному.
Чекист хотел дать ему свою руку:
— Подержись — ты теперь свое отзвонил!
Щапов не дождался руки и ухватил себе на помощь лопух, чтобы поручить ему свою недожитую жизнь; он не освободил растения до самой потери своей тоски по женщине, с которой хотел проститься, а потом руки его сами упали, больше не нуждаясь в дружбе. Чекист понял и заволновался: с пулей внутри буржуи, как и пролетариат, хотели товарищества, а без пули — любили одно имущество.
Пиюся тронул Завын-Дувайло:
— Где у тебя душа течет — в горле? Я ее сейчас вышибу оттуда!
Пиюся взял шею Завына левой рукой, поудобней зажал ее и упер ниже затылка дуло нагана. Но шея у Завына все время чесалась, и он тер ее о суконный воротник пиджака.
— Да не чешись ты, дурной: обожди, я сейчас тебя царапну!
Дувайло еще жил и не боялся:
— А ты возьми-ка голову мою между ног да зажми, чтоб я криком закричал, а то там моя баба стоит и меня не слышит!
Пиюся дал ему кулаком в щеку, чтоб ощутить тело этого буржуя в последний раз, и Дувайло прокричал жалующимся голосом:
— Машенька, бьют!Пиюся подождал, пока Дувайло растянет и полностью произнесет слова, а затем дважды прострелил его шею и разжал у себя во рту нагревшиеся сухие десны.
Прокофий выследил издали такое одиночное убийство и упрекнул Пиюсю:
— Коммунисты сзади не убивают, товарищ Пиюся!
Пиюся от обиды сразу нашел свой ум:
— Коммунистам, товарищ Дванов, нужен коммунизм, а не офицерское геройство!.. Вот и помалкивай, а то я тебя тоже на небо пошлю! Всякая б…дь хочет красным знаменем заткнуться — тогда у ней, дескать, пустое место сразу честью зарастет… Я тебя пулей сквозь знамя найду!
Явившийся Чепурный остановил этот разговор:
— В чем дело, скажите, пожалуйста? Буржуи на земле еще дышат, а вы коммунизм в словах ищете!
Чепурный и Пиюся пошли лично обследовать мертвых буржуев; погибшие лежали кустами — по трое, по пятеро и больше, — видимо стараясь сблизиться хоть частями тела в последние минуты взаимного расставания.
Чепурный пробовал тыльной частью руки горло буржуев, как пробуют механики температуру подшипников, и ему казалось, что все буржуи еще живы.
— Я в Дувайле добавочно из шеи душу вышиб! — сказал Пиюся.
— И правильно: душа же в горле! — вспомнил Чепурный. — Ты думаешь, почему кадеты нас за горло вешают? От того самого, чтоб душу веревкой сжечь: тогда умираешь, действительно, полностью! А то все будешь копаться: убить ведь человека трудно!
Пиюся и Чепурный прощупали всех буржуев и не убедились в их окончательной смерти: некоторые как будто вздыхали, а другие имели чуть прикрытыми глаза и притворялись, чтобы ночью уползти и продолжать жить за счет Пиюси и прочих пролетариев; тогда Чепурный и Пиюся решили дополнительно застраховать буржуев от продления жизни: они подзарядили наганы и каждому лежачему имущему человеку — в последовательном порядке — прострелили сбоку горло — через желе%зки.
— Теперь наше дело покойнее! — отделавшись, высказался Чепурный. — Бедней мертвеца нет пролетария на свете.
— Теперь уж прочно, — удовлетворился Пиюся. — Надо пойти красноармейцев отпустить.
Красноармейцы были отпущены, а чекисты оставлены для подготовки общей могилы бывшему буржуазному населению Чевенгура. К утренней заре чекисты отделались и свалили в яму всех мертвецов с их узелками. Жены убитых не смели подойти близко и ожидали вдалеке конца земляных работ. Когда чекисты, во избежание холма, разбросали лишнюю землю на освещенной зарею пустой площади, а затем воткнули лопаты и закурили, жены мертвых начали наступать на них изо всех улиц Чевенгура.
— Плачьте! — сказали им чекисты и пошли спать от утомления.
Жены легли на глиняные комья ровной, бесследной могилы и хотели тосковать, но за ночь они простыли, горе из них уже вытерпелось и жены мертвых не могли больше заплакать.
* * *
Равнодушно обитал пролетариат на том чевенгурском кургане и не обращал своих глаз на человека, который одиноко стоял на краю города со знаменем братства в руках. Над пустынной бесприютностью степи всходило вчерашнее утомленное солнце, и свет его был пуст, словно над чужой забвенной страной, где нет никого, кроме брошенных людей на кургане, жмущихся друг к другу не от любви и родственности, а из-за недостатка одежды. Не ожидая ни помощи, ни дружбы, заранее чувствуя мученье в неизвестном городе, пролетариат на кургане не вставал на ноги, а еле шевелился ослабевшими силами. Редкие дети, облокотившись на спящих, сидели среди пролетариата, как зрелые люди, - они
одни думали, когда взрослые спали и болели. Старик перестал чесать ребра и снова лег на поясницу, прижав к своему боку мальчика, чтобы остуженный ветер не дул ему в кожу и кости.
Чепурный заметил, что только один человек ел - он ссыпа'л что-то из горсти в рот, а потом жевал и бил кулаком по своей голове, леча себя от боли в ней. "Где я видел все это таким же?" - вспоминал Чепурный. Тогда тоже, когда видел Чепурный в первый раз, поднималось солнце во сне тумана, дул ветер сквозь степь и на черном, уничтожаемом стихиями кургане лежали равнодушные несуществующие люди, которым надо было помочь, потому что те люди - пролетариат, и которым нельзя помочь, потому что они довольствовались единственным и малым утешением - бесцельным чувством привязанности один к другому; благодаря этой привязанности пролетарии ходили по земле и спали в степях целыми отрядами. Чепурный в прошлое время тоже ходил с людьми на заработки, жил в сараях, окруженный товарищами и застрахованный их сочувствием от неминуемых бедствий, но никогда не сознавал своей пользы в такой взаимно-неразлучной
жизни. Теперь он видел своими глазами степь и солнце, между которыми находились люди на кургане, но они не владели ни солнцем, ни землею, - и Чепурный почувствовал, что взамен степи, домов, пищи и одежды, которые приобрели для себя буржуи, пролетарии на кургане имели друг друга, потому что каждому человеку надо что-нибудь иметь; когда между людьми находится
имущество, то они спокойно тратят силы на заботу о том имуществе, а когда между людьми ничего нет, то они начинают не расставаться и хранить один другого от холода во сне.
В гораздо более раннее время своей жизни - нельзя вспомнить когда: год назад или в детстве - Чепурный видел этот курган, этих забредших сюда классовых бедняков и это самое прохладное солнце, не работающее для степного малолюдства.
Чевенгур. А. Платонов
Сайт Светланы Анатольевны Коппел-Ковтун
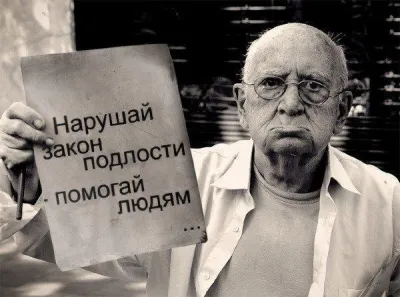

Оставить комментарий