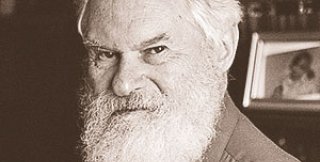Дневник
Всю жизнь, вернее, очень давно, я работаю над таким философским направлением, которое, по-моему, ввёл я, — во всяком случае, я не встречал его нигде, — которое я называю «креациология». Это философия творчества, или осмысление творчества. Как ни странно, мы не оцениваем вообще роли творчества в существовании мира, в существовании человека, каждого из нас. Здесь творчество рассматривается во всех возможных аспектах, — я понимаю, что не успею все их осмыслить, — начиная с сотворения мира и заканчивая стихотворением, которое пишется вот сейчас. Сначала я занимался герменевтикой, которую я называю наукой понимания, читал этот курс в МИФИ, и его слушали математики — в том числе лекцию о том, почему дважды два четыре — это вопрос спорный. Но я понял, что герменевтика не срабатывает, когда речь заходит о том, чем занимаюсь я. Существуют произведения, сила которых — в их непонятности, и когда они начинают пониматься, это их искажает. Их надо принимать вот такими. С помощью целой цепочки умозаключений я пришёл к тому, что изначально существовал некий творческий акт, который мы не можем назвать иначе, нежели акт Бога, — отсюда моё православие. То, что физики называют «большой взрыв», — вероятно, частный случай этого. Отсюда, от этого взрыва, происходит какая-то мощная энергия; в Евангелии поразительно сказано — «вначале бе Слово», не «было слово», а «бе Слово», потому что «было слово» — это, может быть, оно «было» и его уже нет, а «бе Слово» — это славянский аорист, оно было и оно есть. И вот различные преломления этого Слова, которое есть Бог, я и пытаюсь изучать на разных уровнях — и в живописи, и в том, что телевидение назвало «Магистр игры». Это именно тот уровень креациологии, который мне сейчас доступен, и я продолжаю над этим работать.
* * *
Логос в античной философии — это сокровенное. А русское «Слово» лучше передаёт смысл понятия, чем то слово, на котором оно было произнесено: Слово — это откровение. Что касается Логоса, то надо сказать, что такое отношение — как к «сокровенному» — проникло в «античное» православие, отсюда трагедия Византии и её падение: когда они говорили «Логос», трудно было определить, имеют ли они в виду Христа или языческую первооснову мира. Русское «Слово» прямее: это первоначальный творческий акт — и одновременно Тот, кто его совершает, — больше мы о Нём знать ничего не можем.
* * *
Я думаю, человек заговорил, пытаясь назвать это изначальное Слово. Был какой-то возглас, который обозначал Бога; лингвисты не могут до конца это определить. Мы теперь знаем, что около десяти разных гоминид претендовали на то, чтобы стать людьми, а стали ими только те, потомками которых мы являемся. Это очень любопытная тема для разговора. Из последних открытий такого рода — выяснение того, говорили ли неандертальцы? Это связано с устройством гортани, с нижней челюстью. Ведь все языки мира сводятся примерно к ста звукам, доступным механизму человеческой гортани. Вся мировая поэзия — в этих ста звуках. Собственно говоря, человек начал с того, что стал участвовать в самом процессе сотворения себя и мира. И утверждение, что это было какое-то полуживотное существо, неверно; очень может быть, что они превосходили нас в интеллектуальном отношении, потому что мы бы не выжили в ледниковый период, а они — выжили.
* * *
О Рильке:
Рильке. Я перевёл все его стихотворные книги. Его прозу тоже переводил. У него оставалось не опубликованное наследие, оно стало доступно только после его смерти и тоже входит в мои планы. Рильке, Гёльдерлин сыграли огромнейшую роль в моей работе — и переводческой, и оригинальной. Но одно другому нельзя противопоставлять, потому что я субъективно для себя не различаю переводы и оригинальные стихи. Я скажу такую вещь, которая может показаться сумасшедшей: я не переводил из «настоящего» ничего, что я сам бы не написал. Как функционирует переводимое поэтическое произведение — это сложный вопрос. Оно, собственно говоря, предшествует не только мне, но и так называемому его автору; оно угадывается, оно в каком-то смысле в языке всегда было; его автор угадал и я угадываю снова — конечно, с учётом того, что угадал автор. Это у меня высказано в стихотворении: «… в просторечье музыкою сфер / Зовётся бескорыстная стихия, / В которой ты Шекспир и ты Гомер, / В которой Баха слушают глухие». Но этот вопрос для русской культуры очень существенный, так как все поэты у нас переводили, и переводили немало.
* * *
Кретьен де Труа, конечно. Я работал над ним пятьдесят лет и перевёл три его романа в стихах. Пушкин восходит к этим романам, хотя я не уверен, что он знал этого автора. Тем интереснее, что эта традиция у него чувствуется; то, что Пушкин называет «магический кристалл», проявилось уже тогда. У меня возникали проблемы с издательскими планами: мне пришлось дать сокращённый перевод романа Де Труа «Ивейн, или Рыцарь со львом» — по соображениям объёма, бумаги и так далее — для Библиотеки всемирной литературы; это то, что привлекло внимание к Кретьену де Труа. Полный перевод вышел только сейчас в издательстве «Ладомир», в серии «Литературные памятники». Также в 2019 году в моём переводе вышел его роман «Ланселот, или Рыцарь Повозки», а в начале 80-х — его роман «Клижес». Я переводил Новалиса в это время, переводил Свифта. Поэтические произведения Свифта — примечательное явление английской поэзии. Переводил Шелли, а с французского я перевёл очень много Бодлера, Верлена, переводил Рембо, с итальянского перевёл поэму Петрарки «Триумфы», — это произведение, над которым он работал всю жизнь. Так что без работы я не сидел никогда. Если издательство предлагало мне переводить поэта, то уже с учётом моих интересов и индивидуальности.
* * *
Конечно, привлекает абсолютно своё. Но есть один поэт, который для меня имел существеннейшее значение и как для переводчика, и как для пишущего стихи по-русски. Это немецкий поэт Готфрид Бенн. Я не назвал его в перечне этих авторов, потому что для меня он занимает совершенно особое место. Я выпустил недавно большую книгу его переводов «Перед концом света» — это перевод его строки „Vor die Stunde der Welt“. Там есть моя большая статья «Готфрид Бенн — поэт мировой катастрофы». Его отношение к слову, его понимание поэзии именно в современном мире для меня было очень существенным. Любопытно, что в 60-е годы, во второй половине он меня вернул к рифмованному стиху. У меня был период в начале 60-х, когда я писал исключительно свободным стихом. Бенн мне показал, как совмещать одно с другим, — но рифмованный стих у меня тогда стал другим: я стал подчиняться тому, что мне говорит стихотворение. Он научил меня — в поэзии центральное место занимает слово.
* * *
О своём переводу сонетов Шекспира:
Это не собрание отдельных сонетов. Неважно, как они вообще писались, мы этого не знаем, но перед нами результат: единое поэтическое произведение, где сонет выступает как строфа, а не как отдельное стихотворение. Знаете, есть мнение, что так называемая онегинская строфа восходит к шекспировскому сонету: Пушкин ведь писал об этом, что «Суровый Дант не презирал сонета; / В нём жар любви Петрарка изливал; / Игру его любил творец Макбета…». Так вот, перед нами — единое произведение с трагической проблематикой, напоминающее романы XX века — может быть, Кнута Гамсуна. Два человека, которых связывают специфические, не совсем традиционные, отношения — немолодой поэт и молодой красавец — должны образовать какое-то таинственное единство, что-то вроде человеческого философского камня. И вот появляется женщина, в которую они, каждый из них, влюбляются. Она, не соединяясь ни с одним из них, это единство разрушает. Это приближает сонеты Шекспира к его трагедиям, это одна из величайших трагедий, что я и попытался передать в своём переводе. Мой ответ сугубо краткий — на самом деле тут множество тончайших нюансов, и мой перевод надо читать в сочетании с моим исследованием «Роман Шекспира».
* * *
О своей книге стихов «Ток»:
Там есть стихи, которые имеют очень раннее происхождение: те, которые слагались ещё тогда, когда я не умел читать и не умел писать. У меня ощущение, что некоторые стихи этой книги начинались ещё до моего рождения.
Я не считаю, что моя книга написана верлибром. Верлибр — это особое явление, он связан с книгопечатанием. Обратите внимание, что почти все наши верлибристы вслух почти не читаются, их надо читать глазами. Если они вынужденно и читают вслух, то это не то, чего требует данная поэтическая форма. У меня, вероятно, есть стихи, которые можно отнести к верлибру, но я предпочитаю термин «русский свободный стих», которым пользуется, кстати говоря, Иван Ахметьев. И, кстати, у меня там есть стихи, которые по форме не отличаются от прозы. Это характерно для русского стиха — по поводу «Слова о полку Игореве» до сих пор спорят, —проза это или стихи. Это не проза и не стихи, это то, что я называю «стих», а во французской поэзии это называется «версетом». Я, конечно, знал о существовании версета по французским антологиям. И там эта форма очень распространённая: дело в том, что французская поэзия, в отличие от русской, существует очень давно, восемьсот лет. Рифмы во французском языке бедные. Джойс сказал о французских поэтах, что у них мало музыкальных инструментов, но их спасает то, что они прекрасные музыканты. Несомненно, они должны были искать каких-то других форм. Начиная с Алоизиуса Бертрана — современника Виктора Гюго, — они их искали, и какие-то их открытия отразились в моей книге. Хотя особо сильного их влияния всё же там нет: «Ток» в очень большой степени — русская книга.
Стихи делятся на строки. Стих — это как бы единый текст, который делится на строки только по причинам полиграфическим, а также по причине дыхания. И не обязательно это должен быть стих нерифмованный. Например, стих — это «Божественная комедия» Данте. То, что говорят о его терцинах, не совсем правильно: он сам говорил «terza rima» (троерифмие). Его тройственные рифмы переходят одна в другую, и, как отмечал Мандельштам, возникает огромная геометрическая фигура — именно «стих». Так же, как «Стих о Голубиной Книге». В древнерусской поэзии был такой жанр «стих». Стих — это «Ток». Само это название многозначно: во-первых, электрический ток, что говорит об энергетичности книги; во-вторых, ток — это место, где молотят; и, наконец, что важно лично для меня, — это глухариный ток. Таким глухариным током была эта книга, потому что она, в общем, сначала ни для кого не предназначалась; я вообще не представлял, будет ли это когда-нибудь напечатано. Эти три значения очень важны для восприятия книги.
Проза — это другое отношение к миру. Вы знаете, это неплохо определил в своё время Сартр: проза даёт портрет человека, а поэзия даёт миф человека. Кроме того, проза по-особому ритмизирована. Но применительно к моей книге Вы затронули очень любопытный вопрос. На самом деле проза в строгом художественном смысле существует далеко не во всех языках. Вопрос, существует ли она в русском языке или это какие-то варианты стиха? Неслучайно ведь Гоголь называет поэмой «Мёртвые души», а Пушкин «Евгения Онегина» — романом в стихах. У Льва Толстого встречаются крайне ритмизированные фрагменты. Собственно, в России вариантом стиха является вся художественная проза. По-настоящему проза — из тех языков, которые знаю я, — существует по-латыни и по-французски. По-латыни выработался этот жанр, где были очень чёткие определения стиха, причём там был стих в основном нерифмованный. Вообще стихи абсолютно нерифмованными не бывают, рифма эпизодически появлялась даже в шаманском камлании. Но, как правильно сказал Михаил Леонович Гаспаров, стих называется рифмованным, когда рифма регулярная, а не когда она эпизодически появляется. В латинском языке она эпизодически появлялась, но в принципе, это была поэзия сугубо нерифмованная. Так появилась проза. «Записки о Галльской войне» Юлия Цезаря — великолепный образец прозы. Кроме того, проза формируется во Франции по той причине, о которой я уже говорил: там стих — с XII века, ему почти 800 лет. По-французски есть выражение «Прекрасно, как проза». И действительно, скажем, проза Шатобриана — это образец прозы для всех писателей мира, причём интересно, что она меньше поддаётся переводу, чем французская поэзия, — об этом говорил ещё Тургенев. Шатобриан был волшебником стиля для всех — для Флобера, для Арагона, для Мальро, но очарование его фраз совершенно не поддаётся переводу. Я с наслаждением перечитываю их, просто чтобы впитать в себя это искусство.
* * *
О Надежде Манжельштам:
С Надеждой Яковлевной я виделся только один раз и прочитал ей несколько своих стихотворений. Она отозвалась о них более чем положительно, сказав, что это какое-то новое слово после Мандельштама. Причём в каком смысле? Мандельштам всё-таки «поэт с гурьбой и гуртом», а в моём лице, сказала Надежда Яковлевна, она познакомилась «с русским экзистенциалистом, с поэзией изолированной личности, что было Мандельштаму, в общем, чуждо». Но на неё это произвело сильное впечатление — стихи, посвящённые одиноким зимам в Малаховке, где мы с Вами регулярно встречаемся в литературном клубе «Стихотворный бегемот», где я жил с моей матерью в небольшом домике без удобств и переводил, очень много переводил… Но, впрочем, Надежде Яковлевне я читал и рифмованные стихи. Я читал ей стихи, написанные четырёхстопным ямбом, помнится, стихотворение «Интеллигент» — это на неё тоже произвело впечатление. Но это был единственная встреча с Н.Я. У меня тогда телефона не было, связь с ней шла через Сашу Морозова, редактора издательства «Искусство», который очень много занимался Мандельштамом, и позже они с ней разошлись из-за отношений с Харджиевым. Вообще, я попал к ней после того, как написал эссе «Голос поэта», отклик на «Разговор о Данте» Мандельштама — оно тогда не было напечатано (сейчас уже опубликовано под другим названием среди других публикаций о Мандельштаме), но именно прочитав это эссе, Надежда Яковлевна пожелала со мной познакомиться, и мы с ней провели вечер, очень важный для меня до сих пор. Она была, несомненно, очень умна, понимала поэзию очень тонко, и этот вечер оказал на меня бесспорное влияние.
* * *
О премиях:
Моя позиция в этом смысле субъективна, потому что это позиция человека, который не получал никаких премий. Но в некоторых случаях я даже отказывался от премий. Действительно, они, мягко говоря, не играют положительной роли в духовной жизни. По сути, они всегда несправедливы, справедливых — не бывает. А что касается Нобелевской премии, позволю себе напомнить одно обстоятельство: что она появилась после ошибочного некролога о смерти Нобеля: умер «торговец смертью». Этот некролог произвёл впечатления на Нобеля, и он решил учредить премию, чтобы оставить о себе хорошую память, — но от того, что он учредил эту премию, он не перестал быть торговцем смертью. Я не понимаю, почему столь почётной стала премия, учреждённая человеком, торговавшим смертоносным оружием. Почему так авторитетна Шведская академия наук, которая в других областях совсем не авторитетна? Мы знаем множество Нобелевских премий, носители которых просто забыты. При этом Нобелевской премии не было ни у Рильке, ни у Стефана Георге; Нобелевскую премию часто получали эпигоны тех, кто Нобелевской премии не получил. Это не значит, что она во всех случаях вручалась несправедливо: её получали и крупные писатели. Но вот, например, её получают Хемингуэй и Фолкнер, а их учитель Джойс не получает. Как это понять? Получает Бергсон, но не получает Пруст. Что Вы на это скажете? Нобелевскую премию не получил Ибсен — властитель дум, величайший скандинавский поэт. Какого мнения я должен быть об этом просто как любитель и как исследователь литературы? Что касается российских премий, то я умолчу о них. По-моему, к их присуждению примешивается слишком много такого, что не имеет отношения к литературе.
Владимир Микушевич
Интервью здесь
Кулак калек — коллектив.
* * *
Война — бездетна.
Мы — ровесники войны.
И мы не дети.
* * *
Заря — подснежник.
* * *
Осенний полдень.
Розы невыносимы
Владимир Микушевич
Свобода творчества - тайная свобода, когда свобода творчества становится явной, оказывается, никто не творит, кроме Бога.
Владимир Микушевич. Из книги "Пазори"
Конкретные знания - их слишком много, они слишком быстро меняются, они слишком подвижны. А понимание - то, что остаётся.
Сергей Петрович Капица
МОЛИТВА ПРЕСВЯТОЙ ТРОИЦЕ
Пресвятая Троице, единосущная Державо, всех благих Вина, что воздадим Тебе за вся, яже воздала еси нам грешным и недостойным прежде, неже на свет произыдохом, за вся, яже воздаеши коемуждо нас по вся дни, и яже уготовала еси всем нам в веце грядущем!
Подобаше убо, за толикия благодеяния и щедроты, благодарити Тя не словесы точию, но паче делы, храняще и исполняюще заповеди Твоя: мы же, отрастем нашым и злым обычаем внемше, в безчисленныя от юности низвергохомся грехи и беззакония. Сего ради, яко нечистым и оскверненным, не точию пред Трисвятое лице Твое безстудно явитися, но ниже имени Твоего Пресвятаго изрещи довлеяше нам, аще бы не Ты Сама благоизволила, во отраду нашу, возвестити, яко чистыя и праведныя любя, и грешники кающияся милуеши и благоутробне при-емлеши.
Призри убо, о Пребожественная Троице, с высоты Святыя Славы Твоея на нас, многогрешных, и благое произволение наше, вместо благих дел, прииими; и подаждь нам духа истиннаго покаяния, да возненавидевше всякий грех, в чистоте и правде, до конца дней наших поживем, творяще пресвятую волю Твою и славяще чистыми помыслы и благими деяньми сладчайшее и великолепое имя Твое. Аминь.
АКАФИСТ СВЯТОЙ ТРОИЦЕ
Кондак 1
Предвечный Царю веков и Господи, всея твари видимыя и невидимыя Содетелю, Емуже, в Троице Святей славимому Богу, всяко колено покланяется небесных, земных и преисподних: темже и мы, яко крещеннии в Трисвятое имя Твое, аще и недостойнии, хвалебное сие дерзаем принести Тебе пение: Ты же, яко Творец, Промыслитель и Судия наш, вонми гласу раб Твоих, и не отстави милости Твоея от нас, да из глубины души выну зовем Ти: Свят, Свят, Свят еси Господи Боже наш, помилуй ны, падшее создание Твое, имене ради Святаго Твоего!
Икос 1
Архангели и Ангели, Начала и Власти, Престоли и Господствия, предстояще самому Престолу Славы Твоея, не довлеют изрещи величия совершенств Твоих: многоочитии же Херувими и шесто-крилатии Серафими, закрывающе лица своя, точию с трепетом и любовию взывают друг ко другу: Свят, Свят, Свят Господь Саваоф! Нам убо, иже прах и пепел есмы, кольми паче удобее любити молчание: но, да не толиких щедрот, в создании и искуплении на нас излиянных, непамятливы явимся и неблагодарни, подражающе горнему славословию, с верою и любовию взываем:
Свят, Свят, Свят еси Господи Боже наш, неисповедимая совершенств Высоте и неизследимая таин Пучино!
Свят еси Господи Боже наш, везде сый и вся исполняяй, Единый и Тойжде вчера, днесь и во веки!
Свят еси Господи Боже наш, вся могий, нарицаяй не сущая яко сущая, низводяй даже до ада и паки позволяй!
Свят еси Господи Боже наш, испытуяй сердца и утробы человеческия, исчитаяй звезды и всем им имена нарицаяй!
Свят еси Господи Боже наш, Егоже вси путие истинны и все судьбы оправданы вкупе и вожделенны!
Свят еси Господи Боже наш, отдая грехи отцев на чада, милуяй же и награждаяй в роды родов!
Свят, Свят, Свят еси Господи Боже наш, помилуй ны, падшее создание Твое, имене ради Святаго Твоего!
Кондак 2
Видев Тя Исаиа на Престоле высоце и превознесенне, глаголаше: о окаянный аз, яко человек сый и нечисты устне имый, и Господа Саваофа видех очима моима! Егда же угль горящий, носимый от Ангела, прикоснуся устом его, чисте восхваляше Тебе Отца, и Сына, и Святаго Духа, Единаго Бога. Попали убо, о Пресвятая Троице, огнем Божества Твоего терние и наших многих беззаконий, да чистым сердцем возопием Тебе: Аллилуиа!
Икос 2
Разум неуразуменный разумети ищя великий во пророцех Моисей, глаголаше: яви мне лице Твое, да разумно вижду Тя! Ты же к нему: задняя Моя узриши, лице же Мое не явится тебе: не бо узрит человек лице Мое и жив будет. Нам же, аще и недостойным, благоволил еси явити Себе в лице Единороднаго Сына Твоего: темже благодарне вопием:
Свят, Свят, Свят еси Господи Боже наш, Серафимов пламен-ногорящая любы и Херувимов выну светящая премудросте!
Свят еси Господи Боже наш, Небесных Престолов превышний Царю и премирных Господствий всеистинный Господи!
Свят еси Господи Боже наш, Вышних Сил непобедимая Крепосте и Горних Властей всемогущий Властителю!
Свят еси Господи Боже наш, Архангелов всерадостное благовестие и Ангелов неумолкающая проповедь!
Свят еси Господи Боже наш, разумных Начал верховное Всеначало, и всех прочих небесных чинов державный повелителю;
Свят еси Господи Боже наш, Един имеяй безсмертие и живый во Свете Неприступней, со избранными же Твоими, яко со други, лицем к лицу беседуяй!
Свят, Свят, Свят еси Господи Боже наш, помилуй ны, падшее создание Твое, имене ради святаго Твоего!
Кондак 3
Силою неизреченнаго могущества Твоего вся содержиши, Словом неизследимыя Премудрости Твоея вся строиши, Духом уст Твоих вся живиши и радуеши, о Трисолнечне Вседетелю! Измерил еси небо дланию и землю пядию, носиши и питаеши всю тварь, вся по имени призываеши, и несть могий утаитися властительныя десницы и взора Твоего: сего ради со всеми вышними и нижними силами, со умилением припадающе, зовем Ти: Аллилуиа!
Икос 3
Имеяй всякое создание работно повелению Твоему, всюду являеши следы Промысла и неизчетных совершенств Твоих: темже невидимая Твоя и присносущную Силу и Божество, твореньми помышляема, видяще, со удивлением и радостию зовем:
Свят, Свят, Свят еси Господи Боже наш, властительный Содетелю видимых и невидимых, и любвеобильный Строителю настоящих и грядущих!
Свят еси Господи Боже наш, от четырех стихий составивый тварь и четырьми времены круг лета венчавый!
Свят еси Господи Боже наш, повелевый солнцу светити во дни, и луне со звездами просвещати нощь!
Свят еси Господи Боже наш, изводяй ветры от сокровищ, одеваяй небо облаки, и посылаяй дождь и росу в прохлаждение зноя! Свят еси Господи Боже наш, препоясуяй холмы радостию и долы веселием, украшаяй крины сельныя и венчаяй поля класами! Свят еси Господи Боже наш, посылаяй пищу птенцем врановым, напаяяй вся звери сельныя, и полагаяй щедроты Своя на всех делех Своих!
Свят, Свят, Свят еси Господи Боже наш, помилуй ны, падшее создание Твое, имене ради святаго Твоего!
Кондак 4
Бурю внутрь имея душепагубныя ереси, вторый Иуда, Арий безумный, отвержеся Тебе Сына Божия, Единаго от Пребожественныя Троицы быти; мы же аще и ино лице Отчее, ино Сыновнее, ино Святаго Духа глаголем: но Отчее, Сыновнее и Святаго Духа Едино Божество, равну силу, соприсносущно величество, сердцем и устны исповедуем, и яко Трисолнечным светом в купели крещения озареннии, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, Единому Богу покланяемся, зовуще: Аллилуиа!
Икос 4
Слышавше пастырие и учителие Святыя Церкви Ария, яко лютаго зверя, вторгшася в словесное Христово стадо, и восхищающа овцы от истиннаго исповедания православныя веры, сошедшеся в Никеи на соборе, Бога, а не тварь, Христа исповедаша, и равна Отцу Сына и Святаго Духа чтуще, громогласне возгласиша:
Свят, Свят, Свят еси Господи Боже наш, Боже Отче, Боже Сыне, Боже Душе Святый, Единый Истинный Боже, а не три бози!
Свят еси Господи Боже наш, несозданный Отче, несозданный Сыне, несозданный Душе Святый, Едине вкупе несозданне, а не три особь несозданны!
Свят еси Господи Боже наш, Отец раждаяй предвечно Сына, Сын раждаемый безлетно от Отца, Дух Святый из Него же от век происходяй, но не раждаяся!
Свят еси Господи Боже наш, Отец, воззвавый нас от небытия, Сын, искупивый нас падших Крестом Своим, Дух Святый, освящаяй и животворяй всех Своею благодатию!
Свят еси Господи Боже наш, в духе, душе и теле нашем трехчастную скинию на вселение Свое основати благоволивый, и всеконечне грехом разрушитися ей в нас не попустивый!
Свят еси Господи Боже наш, знамение Триипостаснаго Существа Своего на всех делех рук Своих, в мире видимом и невидимом, положивый!
Свят, Свят, Свят еси Господи Боже наш, помилуй ны, падшее создание Твое, имене ради святаго Твоего!
Кондак 5
Пребезначальная и Вседетельная Троице, создав нас по образу и по подобию Твоему, заповедала еси творити угодная пред Тобою: мы же, окаяннии, злую волю нашу возлюбивше, обеты крещения отвергохом, образ Твой помрачихом; ныне же паки к Тебе прибегаем и молимся, подаждь нам благодать Твою, исхити нас из руки враг, видимых и невидимых, и спаси ны, имиже веси судьбами, да во веки веков зовем Тебе: Аллилуиа!
Икос 5
Видя разум превосходящая совершенства Твоя и неизреченная благодеяния к бедным сынам Адамлим (в Тя бо, Триединаго Бога истинно веруяй, мертвый духом оживляется, оскверненный совестию очищается, погибший спасается), благодарным умом, благодарным сердцем, благодарными усты, от Тебе созданными, преклоньше колена, глаголем:
Свят, Свят, Свят еси Господи Боже наш, в Триипостасном Совете Твоем положивый сотворити человека, и в тело его, от персти взятое, дыхание жизней из уст Твоих вдохнувый!
Свят еси Господи Боже наш, образом и подобием Твоим в лице Адама всех нас почтый, и рая сладости наследники учинивый! Свят еси Господи Боже наш, разумом превыше всего видимаго вознесый нас, и тварь всю дольнюю под нозе наши покоривый! Свят еси Господи Боже наш, древо жизни в пищу нам даровавый и даром безсмертия ны обогативый!
Свят еси Господи Боже наш, преслушавших заповедь прародителей наших и по грехопадении не оставивый, но на уповании спасения прямо Едема вселивый!
Свят еси Господи Боже наш, изведый и нас из чрева матере нашея и благодатию Евангелия, по рождении, освятивый!
Свят, Свят, Свят еси Господи Боже наш, помилуй ны, падшее создание Твое, имене ради Святаго Твоего!
Кондак 6
Проповедник правды и ревнитель Святаго имени Твоего, Илиа досточудный, воззван от Ангела, ста в горе Хориве: бысть же дух крепок, низлагаяй горы, бысть трус велий и огнь палящ, но не в сих Тя виде, и по огни глас хлада тонка, и тамо Господь; покрыв убо лице милотию, с веселием и страхом взываше: Аллилуиа!
Икос 6
Возсиял еси в просвещение всему миру сияние Трисветлаго Божества Твоего, отгнал еси вся идольская заблуждения, Триипостасный Боже и Господи; весь же род человеческий от долгия тмы язычества в чудный свет Евангелия привел еси, имже озареннии, славим вседержавный Промысл Твой о нас, зовуще:
Свят, Свят, Свят еси Господи Боже наш, до конца растленную грехом тварь водами потопными потребивый и в лице Ноя обновивый весь род человечь!
Свят еси Господи Боже наш, отлучивый отца верующих Авраама от смешения язык и в потомстве его истинную Церковь основавый!
Свят еси Господи Боже наш, изведый люди Своя из Египта, препитавый их манною в пустыне и введый в землю, кипящую медом и млеком!
Свят еси Господи Боже наш, воздвигий Давида, исполнивый Духом Своим пророки и теми среди Израиля веру в обетованнаго Искупителя сохранивый!
Свят еси Господи Боже наш, пленом Вавилонским согрешшыя люди Своя наказавый и, по скончании его, паки Иерусалиму возградитися повелевый!
Свят еси Господи Боже наш, Маккавеи в вере и преданиих отеческих непоколебимыми до смерти показавый, и Церковь подзаконную, яко невесту, до пришествия возлюбленнаго Жениха, целу соблюдый!
Свят, Свят, Свят еси Господи Боже наш, помилуй ны, падшее создание Твое, имене ради Святаго Твоего!
Кондак 7
Хотя проявити величие любве и милосердия Твоего к падшему роду человеческому, егда прииде кончина лета, послал еси Единороднаго Сына Твоего, раждаема от Жены, бываема под законом, да подза-конныя искупит, Иже, пожив на земли яко человек и искупив ны Крестом Своим, вознесеся на небо, отнюдуже, исполняяй обетование, низпосла нам Пресвятаго Духа Своего, да зовем вси: Аллилуиа!
Икос 7
Дивное воистинну и новое показал еси чудо, дивный в высоких, Господи, егда по низпослании Пресвятаго Духа на избранныя ученики и апостолы, извел еси их на проповедь всему миру, да возвестят великое имя Пресвятыя Троицы и пленят вся языки в послушание веры: тем же, чудящеся силе и действию богодухновенных словес их, с радостию зовем:
Свят, Свят, Свят еси Господи Боже наш, избравый немощная, худородная и буия мира, да посрамят крепкия, славныя и премудрыя!
Свят еси Господи Боже наш, воодушевивый безчисленныя сонмы мучеников, да тмами мучений и смертей запечатлеют истину Евангелия и силу благодати Христовой!
Свят еси Господи Боже наш, сердце равноапостольнаго Константина знамением Креста преклонивый, и тем конец лютым гонением на христиан положивый!
Свят еси Господи Боже наш, седмию Вселенскими Соборы богоносных отец, яко седмию столпы, Церковь оградивши и еретическим треволнением неприступну сотворивый!
Свят еси Господи Боже наш, богомудрым учителем и великим подвижником благочестия, яко пресветлым звездам на тверди Церкви, возсияти даровавый!
Свят еси Господи Боже наш, и владыку земли Российския Владимира к свету истинныя веры наставивый, и тем всю страну нашу от прелести многобожия свободивый!
Свят, Свят, Свят еси Господи Боже наш, помилуй ны, падшее создание Твое, имене ради Святаго Твоего!
Кондак 8
Странно и чудно у дуба Мамврийска узрев Тя Авраам во образе триех мужей, аки к единому беседоваше, глаголя: Господи, аще обретох благодать пред Тобою, не мини раба Твоего! Трием убо, в Триех явльшихся ему Лицах, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, Единому же в существе Богу, до земли поклонися, зовый: Аллилуиа!
Икос 8
Весь еси везде и всегда, не точию могуществом неизчетныя силы Твоея, но и богатством вседетельнaro промышления Твоего о всяцем создании Твоем: нам же, якоже рече Сын Твой, и власи главнии вси изочтени суть у Тебе, да ни един из них падет без воли Твоея: темже, уповающе на Промысл Твой, со дерзновением и любовию зовем:
Свят, Свят, Свят еси Господи Боже наш, благоволивый всему роду человеческому разделитися на племена и языки, и коемуждо их место и время жительства указавый!
Свят еси Господи Боже наш, Имже царие царствуют и сильнии пишут правду, соблюдаяй избранных Своих, яко зеницу ока!
Свят еси Господи Боже наш, от Негоже исходит всяка премудрость и разум, всяка крепость и сила, всяко здравие и лепота!
Свят еси Господи Боже наш, наводяй и отъемляй брани, венчаяй победою правое оружие, нeправое же, посреде самых побед, предопределяяй к сокрушению!
Свят еси Господи Боже наш, даяй знамения на небеси и на земли, посылаяй огнь, язву и глад на люди, да не до конца заблудят от путей Твоих!
Свят еси Господи Боже наш, возносяй смиренныя от земли, еже посадити со князи людей Своих, и низлагаяй гордыя, яко не обрестися месту их!
Свят, Свят, Свят еси Господи Боже наш, помилуй ны, падшее создание Твое, имене ради Святаго Твоего!
Кондак 9
Всякое естество, горе и низу, непрестанно славит Тя, предвечнаго Творца и Бога: на небеси едини, Свят, Свят, Свят, день и нощь взывают, дружин же венцы своя к подножию ног Твоих полагают: на земли же со всею тварию мы, яко украшеннии образом присносущныя Твоея славы, к Тебе молимся и от Тебе великия и богатыя милости чаем, зовуще: Аллилуиа!
Икос 9
Ветия многовещанныя, аще и много труждаются мыслию во испытании, о Таинстве Пресвятыя Троицы, но не могут разумети, како естеством Един есть Бог, в Триех же совершенных Лицех: мы же веруем точию сему и исповедуем, какоже, не испытуем, и неизчетная благодеяния к нам коегождо из Триех Божественных Лиц добре ведуще, с верою и благодарением зовем:
Свят, Свят, Свят еси Господи Боже наш, праведным судом Твоим всем нам в землю, от неяже взяты есмы, возвратитися, и паки в день воскресения из нея востати положивый!
Свят еси Господи Боже наш, солнцу, луне и звездам некогда померкнути, земле и всему, еже на ней, огнем преобразится предопределивый, да вместо их явится небо ново и земля нова, в нихже правда живет!
Свят еси Господи Боже наш, уставивый день, воньже предстанут на суд вся племена и языцы, да восприимет кийждо по делом своим!
Свят еси Господи Боже наш, имеяй в день воздаяния реши праведным: приидите благословеннии Отца Моего, и наследуйте Царствие, уготованное вам от сложения мира!
Свят еси Господи Боже наш, от Него же нераскаяннии грешницы услышат тогда со страхом: отъидите от Мене проклятии во огнь вечный, уготованный диаволу и аггелом его!
Свят еси Господи Боже наш, обещавый Церковь Свою до конца мира непоколебиму соблюсти, во еже неодоленней быти ей и от врат адовых!
Свят, Свят, Свят еси Господи Боже наш, помилуй ны, падшее создание Твое, имене ради Святаго Твоего!
Кондак 10
Спасти хотя мир, явилася еси на Иорданстей реце, Пресвятая и Пребожественная Троице: Отец во гласе с неба, свидетельствуяй о возлюбленнем Сыне, Сын во образе человечестем, приемляй Крещение от раба, Дух Святый, сходяй на Крещаемаго в виде голубине: темже во имя Единаго Бога, в Три же Лица, Отца, Сына и Святаго Духа, научихомся просвещати Крещением всякаго грядущаго в мир человека, зовуще: Аллилуиа!
Икос 10
Царю Превечный, сияяй солнце Свое на благия и злыя, праведныя любяй, грешныя же милуяй, скверну душевную и телесную нашу омый, обитель Свою в нас, аще и недостойных рабех Твоих, сотворити благоволи, потреби нечистая наша помышления, изглади неподобная деяния, направи язык глаголати благоугодная пред Тобою, да чистым сердцем и устны со умилением зовем:
Свят, Свят, Свят еси Господи Боже наш, о Немже апостольский лик яве глаголет, к Нему же пророческий собор выну взирает! Свят еси Господи Боже наш, Его же полк мученический боголепно исповедует, и преподобных воинство Пресвятое имя славословит!
Свят еси Господи Боже наш, о Нем же пустынников множество присно воздыхает, от Него же постников подвиги венчаются! Свят еси Господи Боже наш, Ему же святители и пастыри благодарственное приносят пение, Имже вселенстии учители во спасение наше богомудрствуют!
Свят еси Господи Боже наш, приими мольбу о нас и предстательство всех святых, паче же простирающую к Тебе о нас руце Своя, Деву Пречистую!
Свят еси Господи Боже наш, огради нас святыми Твоими Ангелы, и отжени от нас духов злобы поднебесных!
Свят, Свят, Свят еси Господи Боже наш, помилуй ны, падшее создание Твое, имене ради Святаго Твоего!
Кондак 11
Пение всякое изнемогает, тщащееся принести должное благодарение Тебе о всех и за вся, в Троице славимому Богу: не обретается бо ни разума, могуща сраспростретися мыслию ко множеству щедрот Твоих на нас, ни слова, во еже достойне изрещи я: обаче за вся, нами видимая и нам подаемая, буди Тебе, Пресвятая Троице, благодарение от нас, честь и слава, яковы же Ты Сама Твоего величества достойны и Тебе угодны веси: мы же, покланяющеся Тебе, со смирением и любовию зовем: Аллилуиа!
Икос 11
Яко светоподательна Тя во обетованиих Твоих светильника, сущым нам во тме неведения о будущем жребии нашем явльшася, благодарне исповедующе и поне единаго из блаженств, Единородным Сыном Твоим возвещенных, улучити желающе, всеумильно с верою вопием:
Свят, Свят, Свят еси Господи Боже наш, уготовавый избранным Своим блага, ихже око не виде, ухо не слыша, и яже на сердце человеку не взыдоша!
Свят еси Господи Боже наш, Его же вси чистии сердцем узрят, якоже есть, и познают, якоже от Него сами познани суть!
Свят еси Господи Боже наш, в Немже вси алчущии и жаждущии правды обретут, николиже оскудевающее насыщение!
Свят еси Господи Боже наш, от Него же миротворцы, яко подражатели вся умиротворившаго Единороднаго Сына Твоего, возлюбленными сынами нарекутся!
Свят еси Господи Боже наш, у Него же кротцые наследят землю, и нищии духом улучат некончаемое Царствие!
Свят еси Господи Боже наш, обещавый вечное помилование милующым, и безконечное радование плачущым!
Свят, Свят, Свят еси Господи Боже наш, помилуй ны, падшее создание Твое, имене ради святаго Твоего!
Кондак 12
Благодать Твою всесильную подаждь нам, Пресвятая Троице: приими исповедание грехов наших пред величеством славы Твоея, призри на воздыхания наша, низпосли нам духа умиления и щедрот, да, очищеннии душею и сердцем, сподобимся неосужденно звати к Тебе на земли, якоже взывают Ангели на небеси: Аллилуиа!
Икос 12
Поюще Твое всечеловеколюбное смотрение, славим Тя вси, Пребезначальная Троице, веруем во Единаго Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святаго, иного, разве Тебе, Господа не вемы, к Тебе припадаем и Тебе молимся, вопиюще:
Свят, Свят, Свят еси Господи Боже нaш, буди нам во спасение, да не убоимся никоегоже зла, и в защищение живота нашего, да не устрашимся никоегоже врага!
Свят еси Господи Боже наш, грешныя кающыяся спасаяй, спаси убо и нас многогрешных!
Свят еси Господи Боже наш, умножаяй всем милость Твою, умножи ю и на нас, и помилуй ны, яко немощни есмы!
Свят еси Господи Боже наш, продолжи нам век к покаянию и не осуди нас на посечение с смоковницею безплодною!
Свят еси Господи Боже наш, избави ны искушений, от мира, плоти и диавола находящих, и укрепи в вере и любви к Тебе!
Свят еси Господи Боже наш, сподоби ны лицем к лицу узрети Тя, и внити в светлый чертог Твой на брак Агнчий!
Свят, Свят, Свят еси Господи Боже наш, помилуй ны, падшее создание Твое, имене ради Святаго Твоего!
Кондак 13
О Пресвятая, Животворящая, Неразделимая и Вседетельная Троице, Отче, Сыне и Душе Святый, Едине истинный Боже и Творче наш! Нынешнее наше приемши благодарение, низпосли нам благодать и силу от высоты Святаго Престола Твоего, да, поправше вся плотския похоти, во всяком благочестии и чистоте поживем до конца дней наших, выну восхваляюще Пресвятое имя Твое и зовуще: Аллилуиа!
(Этот кондак читается трижды, затем икос 1 и кондак 1)
Икос 1
Архангели и Ангели, Начала и Власти, Престоли и Господствия, предстояще самому Престолу Славы Твоея, не довлеют изрещи величия совершенств Твоих: многоочитии же Херувими и шесто-крилатии Серафими, закрывающе лица своя, точию с трепетом и любовию взывают друг ко другу: Свят, Свят, Свят Господь Саваоф! Нам убо, иже прах и пепел есмы, кольми паче удобее любити молчание: но, да не толиких щедрот, в создании и искуплении на нас излиянных, непамятливы явимся и неблагодарни, подражающе горнему славословию, с верою и любовию взываем:
Свят, Свят, Свят еси Господи Боже наш, неисповедимая совершенств Высоте и неизследимая таин Пучино!
Свят еси Господи Боже наш, везде сый и вся исполняяй, Единый и Тойжде вчера, днесь и во веки!
Свят еси Господи Боже наш, вся могий, нарицаяй не сущая яко сущая, низводяй даже до ада и паки позволяй!
Свят еси Господи Боже наш, испытуяй сердца и утробы человеческия, исчитаяй звезды и всем им имена нарицаяй!
Свят еси Господи Боже наш, Егоже вси путие истинны и все судьбы оправданы вкупе и вожделенны!
Свят еси Господи Боже наш, отдая грехи отцев на чада, милуяй же и награждаяй в роды родов!
Свят, Свят, Свят еси Господи Боже наш, помилуй ны, падшее создание Твое, имене ради Святаго Твоего!
Кондак 1
Предвечный Царю веков и Господи, всея твари видимыя и невидимыя Содетелю, Емуже, в Троице Святей славимому Богу, всяко колено покланяется небесных, земных и преисподних: темже и мы, яко крещеннии в Трисвятое имя Твое, аще и недостойнии, хвалебное сие дерзаем принести Тебе пение: Ты же, яко Творец, Промыслитель и Судия наш, вонми гласу раб Твоих, и не отстави милости Твоея от нас, да из глубины души выну зовем Ти: Свят, Свят, Свят еси Господи Боже наш, помилуй ны, падшее создание Твое, имене ради Святаго Твоего!
Икос 8
Яко Вавилонская башня разрушится счастие земное. Жалки все начинания человеческия. Благо мне, яко смирил мя еси, яко открыл еси мне в согрешениих и падениих моих всю слабость и ничтожество мое. Без Тебе не можем творити ничесоже, но благодатию Твоею уповаем спастися:
Прииди убо, единый мудрый Строителю жизни.
Прииди и уясни нам непостижимыя пути Твоя.
Прииди, яко молния, и освети конец нашего земнаго бытия.
Прииди и благослови всякое благое начинание наше.
Прииди и буди помощник в добрых делах.
Прииди и озари ум наш в час недоумений.
Прииди, даруя дух покаяния, да отвратятся тем грядущия на мир скорби.
Прииди, Утешителю, Душе Святый, и вселися в ны!
********************************************
АКАФИСТ СВЯТОМУ ДУХУ
Кондак 1
Приидите, вернии, Духа Святаго прославим сошествие. Иже от Отеческих недр на Апостоли излиявся, яко водами, боговедением покры землю, и живоносныя благодати богоусыновления, и горния славы сподобляет чисте притекающих к Нему, освящает же и обожает зовущих: Прииди, Утешителю, Душе Святый, и вселися в ны!
Икос 1
Ангели на небеси светлыми лики Духу Святому немолчно славу воспевают, яко Источнику жизни и Свету невещественному. С ними же и мы прославляем Тя, Душе непостижимый, за вся явныя и тайныя милости Твоя, и смиренно просим блаженнаго осенения Твоего:
Прииди, Свете истинный и Радосте духовная.
Прииди, росоносный Облаче и Красото неизреченная.
Прииди и приими, яко курение благовонное, хвалу нашу.
Прииди и даждь нам вкусити радость излияния Твоего.
Прииди и возвесели ны обилием даров Твоих.
Прииди вечное Солнце незаходимое, и обитель в нас сотвори.
Прииди, Утешителю, Душе Святый, и вселися в ны!
Кондак 2
Видом огненных язык, во свете и дыхании бурном и радостотворном, сниде Дух Святый на Апостолы. Тем же пламенем Его объяты бывше, рыбари мир весь в Церковь Христову призваша. Беды на суше и на водах радостно терпяще, лютых смертей не убояшася. И во всю землю изыде вещание богокрасныя песни их: Аллилуиа!
Икос 2
Чаше дождеродная и огнеточивая, излившаяся на Апостолы в горнице Сионстей: Тебе поем, Тебе благословим, Тебе благодарим, Боже Душе Святый.
Прииди, Освятителю и Хранителю Церкви.
Прииди и даждь едино сердце и едину душу верным Твоим.
Прииди, и воспламени наше хладное и безплодное благочестие.
Прииди и разжени огустевающий над землею мрак безбожия и нечестия.
Прииди и веди всех на путь праведныя жизни.
Прииди и настави нас на всяку истину.
Прииди, Мудросте непостижимая и ими же веси судьбами спаси нас.
Прииди, Утешителю, Душе Святый, и вселися в ны!
Кондак 3
Тайна глубочайшая! Боже Душе непостижиме, со Отцем и Словом Создателю всех! Ты украсил еси горния чины Ангелов во храме неприступнаго света! Ты воззвал еси к бытию лики огненных светил с великолепием славы. Ты плоть и дух в чудное единство согласуя, сотворил еси род человеческий. Тем же всякое дыхание поет Тебе хвалу: Аллилуиа!
Икос 3
Альфа и Омега, Начало и Конец, Ты Душе вечный, необъятною силою парения над водами, и страшным кругообстоянием оживотворил еси всех и вся: от живоноснаго дыхания Твоего из безвидныя бездны возсияла есть неизреченная красота первозданного мира. Сего ради взываем Ти:
Прииди к нам, Премудрый Художниче мира.
Прииди, Великий и в малом цветке, и в небесной звезде.
Прииди, Многообразие неизреченное и Красото вечная.
Прииди и озари мрачный хаос души моея.
Прииди и яви нас новою тварию во Христе.
Прииди, Утешителю, Душе Святый, и вселися в ны!
Кондак 4
Непостижимый и Всеблагий Душе, освещения Источниче! Ты одеял еси Пречистую Деву Марию в ослепительный и неприступный блеск Твоего Божества, соделав Ю, Матерь Бога Слова, Царицу Ангелов, спасением людей. Силою премирною Ты осеняеши пророки и Апостолы. Ты возносиши их до третьего небесе. Ты уязвляеши их сердца красотою небесною, влагая в их речи пламенное стремление, влекущее людей к Богу. Ты обращаеши последних грешников, и они, полные горячаго восторга поют: Аллилуиа!
Икос 4
Святым Духом всяка душа живится, Его силою возстановятся к общению воскресения вся создания в последний час нынешняго века, и в первый будущаго. Тогда воздвигни нас, Утешителю Благий, из гробов наших не к осуждению, но к богосветлому блаженству со всеми святыми, близкими и сродными нам!
Прииди же и избави нас от смерти духовныя.
Прииди и пред кончиною нашею насыти нас Телом и Кровию Спаса Христа.
Прииди и даждь нам успение тихое с чистою совестию.
Прииди и сотвори светлым наше пробуждение от смертного сна.
Прииди и сподоби нас узрети с радостию утро вечности.
Прииди и сотвори ны сыны нетления.
Прииди и, яко солнце, просвети тогда безсмертная тела наша.
Прииди, Утешителю, Душе Святый, и вселися в ны!
Кондак 5
Услышав глас Твой: «Аще кто жаждет, да грядет ко Мне и да пиет», молим Тя, Сыне Божий, утоли нашу жажду духовныя жизни, даждь нам воду живую. Излей нам струю благодати от срасленнаго Ти Духа Святаго, да не возжаждем во веки, с умилением поюще: Аллилуиа!
Икос 5
Нетленный и Несотворенный, вечный и щедрый Душе, праведных Хранителю и грешных очищение. Свободи нас от всяких нечистых дел, да не погаснет в нас сияние благодатнаго света Твоего, вопиющих Ти:
Прииди, Всеблагий, и даждь нам умиление и источник слез!
Прииди и научи нас поклонятися Тебе духом и истиною.
Прииди, Истино высочайшая, и уясни сомнения скуднаго разума.
Прииди, Жизнь нестареемая, и приими нас с краткостию века земнаго.
Прииди, Свете Вечный, и разсеются призраки и страхи.
Прииди, вечно иная Сила, освежи изнемогших чад Твоих!
Прииди, Безконечная Радость, и забудутся невзгоды временныя.
Прииди, Утешителю, Душе Святый, и вселися в ны!
Кондак 6
Ликуй, дщерь света, святая мати Сион! Украшайся великая невесто, небеси подобная, светлоблистающая вселенская Церковь Христова! На Тебе почивает Дух Святый, немощная врачуя, оскудевающая восполняя, мертвыя оживляя и к вечной жизни приводя всех, достойно и праведно зовущих: Аллилуиа!
Икос 6
«В мире скорбни будете», — рече Господь. Где обрящем отраду, и кто утешит нас? Душе Утешителю, Ты утоли наша печали! Ходатайствуй о нас воздыханиями неизреченными и облегчи сердца молящихся Тебе:
Прииди, сладкая Прохлада труждающихся и обремененных.
Прииди, Собеседниче узников и Опора гонимых.
Прииди, ущедри изнуренных нищетою и гладом.
Прииди и уврачуй страсти наших душ и телес.
Прииди и посети всех жаждущих Твоего озарения.
Прииди и осмысли наша скорби надеждою вечныя радости.
Прииди, Утешителю, Душе Святый, и вселися в ны!
Кондак 7
«На Святаго Духа хулившему, не простится ни в сем веке, ни в будущем», — рече Господь. Слышавше сие страшное изречение, трепещем, да не осудимся с непослушными Тебе и богоборными. Не даждь уклонятися Душе Святый, сердцам нашим в словеса лукавствия. Обрати от расколов, ересей и безбожия всех заблудших, и всех с Церковью первенцев Твоих сподоби во веки веков воспевати: Аллилуиа!
Икос 7
Егда отступи Дух Святый от Саула, тогда страх и уныние постиже его, и тьма отчаяния низверже его в преисподнюю. Тако и аз в день уныния и ожесточения моего разумею, яко удален есмь от Твоего света. Но дай мне неослабно звати Тя, души моея Ограду, дондеже свет Твой озарит мя малодушнаго:
Прииди убо, и не отвержи мене за роптание и нетерпение мое.
Прииди и умиротвори лютую бурю смятения и раздражения.
Прииди и успокой озлобленных житейскими невзгодами.
Прииди и смягчи сердца в день ожесточения и гнева.
Прииди и сокруши козни смущения и устрашения духов тьмы.
Прииди и вдохни в ны дух сокрушен, да терпением спасем души наша.
Прииди, Утешителю, Душе Святый, и вселися в ны!
Кондак 8
Спаси ны, Отче Небесный! Мы убоги и немощны, и слепы, и наги духовно! Даруй нам злато Твое, огнем очищенное, покрый нас от срама одеждою белою, исцели помазанием Твоим очи наши. Благодать Животворящаго Твоего Духа да снидет в нечистые сосуды душ наших, и возродит нас поющих: Аллилуиа!
Икос 8
Яко Вавилонская башня разрушится счастие земное. Жалки все начинания человеческия. Благо мне, яко смирил мя еси, яко открыл еси мне в согрешениих и падениих моих всю слабость и ничтожество мое. Без Тебе не можем творити ничесоже, но благодатию Твоею уповаем спастися:
Прииди убо, единый мудрый Строителю жизни.
Прииди и уясни нам непостижимыя пути Твоя.
Прииди, яко молния, и освети конец нашего земнаго бытия.
Прииди и благослови всякое благое начинание наше.
Прииди и буди помощник в добрых делах.
Прииди и озари ум наш в час недоумений.
Прииди, даруя дух покаяния, да отвратятся тем грядущия на мир скорби.
Прииди, Утешителю, Душе Святый, и вселися в ны!
Кондак 9
Тако возлюби Бог, яко и Сына Своего Единороднаго дал есть, Иже от Духа Святаго и Марии Девы вочеловечився, на кресте простре зиждительныя Свои руце, Кровию же Своею весь мир от греха и смерти искупи! Темже вся тварь, свободы славы чад Божиих чая, Отцу возлюбившему, Сыну искупившему и Духу освящающему поет: Аллилуиа!
Икос 9
Дух Животворящий, яко голубь сошедший на Христа на Иордани и на мене опочил есть при купели крещения. Но помрачися действие доброты Его от тьмы грехопадений моих. Темже, яко путник заблудшийся в лесу нощию, ожидает зари, тако и аз жажду лучей Твоих, Блаже, да не погибну до конца:
Прииди убо к запечатленному страшным именем Твоим.
Прииди и облегчи совесть мучимую, нещадно палимую.
Прииди и обнови во мне омраченный Твой образ.
Прииди и разсей греховныя видения.
Прииди и научи сострадати чуждему горю.
Прииди и подвигни мя любити всякое создание Твое.
Прииди и воздаждь ми радость спасения Твоего.
Прииди, Утешителю, Душе Святый, и вселися в ны!
Кондак 10
Дух Святый возраждает в жизнь вечную, Дух Святый вдохновляет мучеников, освящает священников, венчает праведников, хлеб и вино совершает Телом и Кровию Божественными. О, глубино богатства и премудрости Божия! Даруй нам венец Твоих даров — всепрощающую вечную любовь, скорбящую за врагов, хотящую всем спастися, да озареннии ею, яко чада света, поем: Аллилуиа!
Икос 10
Кто ны отлучит от любве Божия: скорбь ли или теснота, или гонение, или глад, или нагота, или беда, или меч? Аще и всего лишимся на земли, имамы наследие неувядаемо на небеси. Но даруй нам, Господи, любити Тя не словом или языком, а истинным делом и подвигом всея жизни:
Прииди же, Душе Всесильный, и умножи нам всепобеждающую веру.
Прииди и даждь нам дерзновение молитвенное.
Прииди и согрей сердца наша, да не охладеет любовь наша в сердце за преумножение беззаконий.
Прииди и не даждь нам отпасть во дни гонений и осмеяния веры.
Прииди и сохрани нас от непосильных искушений и соблазнов.
Прииди и оживи сердца наша кроплением росы Твоея.
Прииди, уврачуй, освяти и возстави нас, Блаже, Твоею благодатию.
Прииди, Утешителю, Душе Святый, и вселися в ны!
Кондак 11
Тако глаголет Господь: «Излию от Духа Моего на всяку плоть, и прорекут сынове ваша и дщери ваша, и юноши ваша видения узрят, и старцы ваши сония увидят». Душе всежеланный, даждь токмо едину от крупиц с трапезы избранных сынов утешения Твоего и нам умильно зовущим: Аллилуиа!
Икос 11
Аще и на краткое мгновение, яко блистание молнии, Ты возсияеши в тайне души, но незабвенно есть светолитие откровения Твоего, от негоже страшным и боголепным изменением преображается бренное естество. Сподоби убо, Утешителю Благий, и нас еще в земнем житии чистым сердцем узрети Тя, вопиющих Ти:
Прииди, светоподательная Молния вечности.
Прииди и озари нас невечерним сиянием.
Прииди, Сокровище смиренномудрия и веселие кротких.
Прииди, Вода живая и прохлади нас среди зноя страстей.
Прииди, ибо вдали от Тебе нет радости и покоя.
Прииди, яко с Тобою всюду Небесное Царство.
Прииди и напечатлей в душе солнцевидный лик Твой.
Прииди, Утешителю, Душе Святый, и вселися в ны!
Кондак 12
Благодати реко неистощимая, Душе Святый, грехов разрешителю! Приими моления наша о всем мире, о верующих и неверующих, и о сынах противления: и всех приведи к вечному Царствию Святыя Троицы; да упразднится Тобою и последний враг — смерть, и мир, возрожденный очистительным огнем, воспоет новую песнь безсмертия: Аллилуиа!
Икос 12
Зрю духом град Божий — Иерусалим небесный, яко невеста украшенный, солнцевидный, торжествующий. Слышу ликования праведных на трапезе Господней, и гласы Ангелов и пресветлаго Господа посреде избранных Своих, и отбеже болезнь и печаль и воздыхание. Царю Небесный, Душе Святый, седмерицею даров Твоих сподоби и нас причастниками быти сия вечныя радости, в Бозе зовущих Ти сице:
Прииди, Блаже, и возбуди в нас жажду загробного бытия.
Прииди и затепли в душе чаяние жизни истиннаго века.
Прииди и открый нам радости грядущаго Царствия.
Прииди и даждь нам снегосветлую ризу чистоты.
Прииди и исполни нас блистанием Божества.
Прииди и возми нас на брак Агнчий.
Прииди и сподоби в вечной славе Твоей царствовати.
Прииди, Утешителю, Душе Святый, и вселися в ны!
Кондак 13
О, светоносная пучино спасающей любве, Душе Животворящий! Согрей дыханием наития Твоего оледеневший в беззакониих род человеческий, силою непостижимых судеб Твоих ускори погибель зла, и яви вечное торжество Божественныя правды. Да будет Бог всяческая и во всех: и всяко колено небесных и земных и преисподних да воспоет: Аллилуиа! Аллилуиа! Аллилуиа!
(Этот кондак читается трижды, затем икос 1 и кондак 1)
Икос 1
Ангели на небеси светлыми лики Духу Святому немолчно славу воспевают, яко Источнику жизни и Свету невещественному. С ними же и мы прославляем Тя, Душе непостижимый, за вся явныя и тайныя милости Твоя, и смиренно просим блаженнаго осенения Твоего:
Прииди, Свете истинный и Радосте духовная.
Прииди, росоносный Облаче и Красото неизреченная.
Прииди и приими, яко курение благовонное, хвалу нашу.
Прииди и даждь нам вкусити радость излияния Твоего.
Прииди и возвесели ны обилием даров Твоих.
Прииди вечное Солнце незаходимое, и обитель в нас сотвори.
Прииди, Утешителю, Душе Святый, и вселися в ны!
Кондак 1
Приидите, вернии, Духа Святаго прославим сошествие. Иже от Отеческих недр на Апостоли излиявся, яко водами, боговедением покры землю, и живоносныя благодати богоусыновления, и горния славы сподобляет чисте притекающих к Нему, освящает же и обожает зовущих: Прииди, Утешителю, Душе Святый, и вселися в ны!
Почему готика прижилась и расцвела именно на Западе? Христианский Запад воспринял аристотелевский лес-hyle как древний прообраз материи и мира наиболее буквально. Это восприятие, возможно и отразилось в образе пылающего или цветущего леса-храма (сакрального Древа). Для готской традиции, видимо давшей название готике, восприятие храма как живого растущего леса, как священной чащи, вполне естественно. Горгульи и другие монстры готических соборов как чудища, обращённые от храма в мир и некогда населявшие ночной лес готов, франков и вандалов, дополняют эту картину. Образ священного леса или древа, воплотившийся в «цветущей» готике отсылает не только к Древу Жизни из Книги Бытия и к аврамическому Мамврийскому дубу – месту ветхозаветного явления Святой Троицы, но и к Древу Спасения – Кресту Господа Иисуса Христа. Символизм «пламенеющей» готики напоминает отнюдь не об адском пламени, как можно было бы подумать, а о пламени неопалимой купины, в котором Господь впервые явился Моисею, об огненном столпе, пылающем над скинией в книге Исход. И, конечно, огонь «пламенеющей» готики говорит о могуществе и гневе Всевышнего, не позволяющего забыть о том, что Бог одновременно и абсолютная, безусловная Любовь и «огонь пожирающий» (Евр. 12:29). Встреча с таким огнём, вернее, с Огнём, – с заглавной буквы, – не синоним уничтожения и гибели. Столкнувшись с ним, ложное и гибельное сгорает, а подлинное, живое – закаляется, становясь бессмертным. Изначально, пламя в готической архитектуре – апокалипсический огонь последнего преображения.
Справедливости ради, стоит заметить, что Рим и другие города-государства Италии, подвергшиеся готскому нашествию, долгие годы отвергали чуждый им варварский франко-готический стиль, продолжая придерживаться романской строгости. Противниками готики были, например, Петрарка и Веронезе. Распространению нового стиля послужил в частности готический витраж, способствовавший проникновению в храм большого количества света. Это не только выгодно отличало готику от герметичного романского стиля, но и подчёркивало, что «Бог есть свет, и нет в нём никакой тьмы» (1 Ин. 1:5).
Однако, земной свет, в отличие от Света Фаворского, умножает количество теней и иллюзий. Поэтому не удивительно, что жанр романа ужасов, возникший на пике эпохи романтизма и подаривший нам истории о мрачных вампирах и мстительных приведениях, позаимствованные им у европейского фольклора и языческих мифов, получил название готического.
Ещё одна причина, по которой готика стала ассоциироваться с тёмными потусторонними силами, состоит в том, что внешняя отделка готического храма нередко изобилует не только флористической и вообще лесной символикой, но и сценами адских мук, а также изображениями змеев и драконов. Такое убранство аллегорически говорит о нашем мире, лежащем во зле. Однако, романтизм, с его склонностью к гротеску и сентиментальности, прочёл готическую символику буквально. Но ещё буквальнее это сделала «неоромантическая» субкультура современных «готов», воспринявшая от классической готики атрибутику погребения, а от классического романтизма – декадентское преклонение перед неизбежностью физической смерти.
Франко-германские романтические корни готического стиля противопоставляют идее «всесилия разума», традиционной для эпохи Просвещения, идею хтонического «сна разума». Того самого сна, который став концептуальным предтечей феномена бессознательного, согласно Гёте, «рождает чудовищ». С точки зрения романтиков, этот «сон» способен рождать не только чудовищ, но и ангелов. Именно поэтому Уильям Блейк называл готические соборы воплощёнными в камне сновидениями о Небесном Иерусалиме и бездне Преисподней.
К слову, полностью фраза Гёте о сне разума звучит так: «Сон разума рождает чудовищ, которыми можем стать мы сами». Так готическая эстетика переводит ужасное из оккультно-мистической плоскости в аллегорическую и архетипическую плоскость психологической перверсии. Этой метаморфозе отвечает и печальное признание из шекспировской «Бури»: «Ад пуст, все бесы здесь» («(...) Когда он прыгнул в волны, закричав: "Ад пуст! Сюда все демоны слетелись! "»).
В любом случае, готика как один из наиболее известных архитектурных и художественных стилей прошла эволюцию от мифопоэтического образа леса-храма, цветущего древа жизни и символа искупления и преображения до романтического стиля в литературе и искусстве, открывшего «эпоху ужасного» и преддверия одной из важнейших проблем психоанализа.
Григорий Хубулава для НесочетаеМОЕ. Просто о сложном
Свт. Иоанн Златоуст:
"Облак и мрак окрест Его: правда и судба исправление престола Его" (Псалом 96:2).
Т.е. царствующего. Разумеется Христос, тело которого называется облаком по причине его тонкости и чистоты. С облаком соединяется мрак, – что Симмах перевел словом туман, потому что плоть, подобно туману, закрывала многим глаза и препятствовала познать божественное достоинство Единородного. Потому-то в другом месте тот же псалмопевец говорит: «и мрак сделал покровом Своим, вокруг Его – скиния Его» (Пс.17:12)...
Гете, преодолевая и свое бытие поэта, и бытие литератора, вновь и вновь достигал наивысшего бытия, покоя над всеми вихрями - именно это влекло к нему, побуждало заново перечитывать его сочинения, даже сомнительные, даже неудачные. Ибо нет более высокого живого образа, чем человек, достигший мудрости и сбросивший оковы всего временного и личного. И если мы знаем, что кто-то добился этого в своей жизни, такой человек нас интересует так, как никто и ничто на свете. Если же нас постигнет разочарование во всякой вере и мудрости, дух наш окрепнет, когда, прослеживая пути мудреца, мы увидим, каким обыкновенным человеком, каким слабым и далеким от совершенства бывал порой даже он...
Герман Гессе. «Магия книги»
Что может быть вреднее человека, обладающего знаниями самых сложных наук, но не имеющего доброго сердца? Он все свои знания употребит во зло.
Григорий Сковорода
«Потому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою».
(Ин. 13:35)
Приходит к престарелому батюшке молодая пара и просит их развенчать по той причине, что они, мол, характерами не сошлись. Батюшка с сочувствием отнёсся к их просьбе:
– Ну, коли так, то нужно горю помочь. Пойдёмте, развенчаю вас.
Муж с женой радостно идут за батюшкой, предвкушая сладостный момент, когда бремя неудавшегося брака будет снято с них, и они смогут с чистой совестью попробовать ещё раз.
Батюшка вошёл в алтарь, облачился в праздничные белые ризы, возжёг светильники – ну, в общем, всё как на венчании.
Развенчивающихся поставил перед амвоном, отверз царские врата, взял в руки напрестольное Евангелие (оно обычно заковано в железный чеканный оклад и весит, "ни много, ни мало", килограммчиков 16-ть) и, подойдя к жениху, торжественно спросил его:
– Желаешь ли, раб Божий Иоанн, развенчаться с рабой Божией Еленой, попрать обеты, данные Богу в таинстве венчания, стать клятвопреступником?!
– Да, честный отче, желаю.
Батюшка со всего размаху огрел мужа Евангелием по голове и, пока тот приходил в себя от шока, подошёл к невесте и также не менее торжественно вопросил и её:
– Раба Божия Елена, желаешь ли развенчаться с рабом Божиим Иоанном, попрать обеты, данные Богу, и стать клятвопреступницей?
– Да, честный отче, желаю.
Эхом отозвался в пустом храме удар Евангелия по голове супруги, а батюшка уже стоял перед мужем и вновь задавал ему тот же вопрос, и, получив утвердительный ответ, хорошенько размахнулся и опустил Евангелие на голову незадачливого мужа.
После этого подошёл к невесте и совершил ту же процедуру.
Так и ходил батюшка от жениха к невесте, от невесты к жениху, вопрошая их об одном и том же и хорошенько прикладываясь к их головам святым Евангелием, пока те в отчаянии не закричали:
– Батюшка! Да сколько ж длится чин развенчания-то?!
– А покуда смерть не разлучит вас!
Супруги в ужасе выбежали из храма и, отдышавшись на соседнем переулке, потирая шишки на макушках, решили всё-таки сохранить узы брака до конца. Как бы не вышло чего.
Мы должны пройти сквозь одиночество и трудности, сквозь уединение и тишину, чтобы найти то волшебное место, где мы можем плясать свой неловкий танец и петь свою печальную песню. Этот танец и эта песнь являются древнейшими ритуалами, с помощью которых сознание приходит к осознанию собственной человечности.
Пабло Неруда
Любовь к мудрости - это процесс достижения истины в условиях её принципиального дефицита... Философия - это свободная профессия... Можно не кончить ни одного факультета и стать философом. Можно кончить тысячу факультетов и не стать философом. Из этого, правда, не вытекает, что не надо учиться.
Бёме был сапожником, Спиноза - стекольщиком, а Кант и Гегель были классическими преподавателями философии. Пути философии очень разнообразны, они изнутри вырастают. Ясперс говорил, что философ просыпается в человеке внутри, он сам почувствует, когда он стал философом.
* * *
Философия - это внутренняя свобода. Потому что можно быть свободным внутри самого тоталитарного режима и быть абсолютно несвободным внутри самой оголтелой демократии.
* * *
Философия - вневременный диалог идей. Именно диалог, а не спор.
* * *
Россия - идеократическая страна, поэтому у нас в теории влюбляются.
Владимир Миронов
Поучающий кощунника наживет себе бесславие, и обличающий нечестивого – пятно себе.
Не обличай кощунника, чтобы он не возненавидел тебя; обличай мудрого, и он возлюбит тебя; дай наставление мудрому, и он будет еще мудрее; научи правдивого, и он приумножит знание.
Начало мудрости – страх Господень (Пр. 9:7–10).
Медийное управление - вся работа будет идти только и исключительно в пространстве языка.
Чем с моей точки зрения плохо семантическое управление? Понятия, слова, термины - они в конечном итоге вписываются в картину мира. Они её образуют. С точки зрения программиста онтология это не учение о бытии и не картина мира, онтология - это просто формальное описание предметной логики, чтобы с ней можно было работать. Задача семантического управления - это разрушение предметных областей тех людей, которыми управляют, чтобы у них не было картины мира. Чтобы они могли, например, в течение месяца проголосовать за два абсолютно противоположных предложения, даже не заметив, что они сменили позицию за этот месяц. Да, управлять людьми, не имеющими картины мира, гораздо легче, чем теми, у кого картина мира есть. Но вопрос заключается в том, что люди, не имеющие картины мира, в принципе абсолютно не способны защищать ни себя, ни свою страну, ни свой язык, ни свою культуру, ни свой образ мира, которого у них просто нет.
Когда в 1940 году немцы напали на Данию, датчане принимали швартовочные концы от швартующихся немецких транспортов. В результате в войне с Данией Вермахт потерял 6 или 8 человек (подчёркиваю - человек, а не тысяч человек), и честь Дании спасли только король и королева, которые надели на себя жёлтые еврейские звёзды и тем самым заставили немцев махнуть рукой на соблюдение еврейских законов в Дании. Но при этом страна не оказала никакого сопротивления. Такой любопытный и важный момент.... Семантическое управление точно создаст людей, которые не будут различать свою и чужую землю.
... Говоря о семантическом управлении, мы должны сказать то же самое и про Россию, и США, и про Францию, и про Великобританию, и про Германию и т.д. А это означает, что с каждым шагом развития этого управления, этой формы воздействия, этих катастроф, эпидемий (кстати ВОЗ заявила, что у нас очередная угроза теперь Эболы, это уже серьёзно, это не коронавирус) , мы приближаемся к фазовому барьеру. А фазовый барьер, если его не удастся преодолеть - это сверхкатастрофа. Вблизи катастрофы исчезают верные решения и исчезают верные люди. Верные и умные. В этой ситуации государственный, общественный организм теряет иммунность, после чего его может сломать любой вирус. То, что происходит в России сейчас - это даже не потеря иммуности, это попытки убить иммуность.
Семантическое управление - это всегда манипулирование. Семантическое управление - это разрушение подлинного смысла слов. Соответственно, как люди реагируют на манипуляцию? Первым делом они её вскрывают. Второе - значения слов восстанавливаются. Но для того, чтобы восстановить исходное значение слов, необходима философия. Как ни странно, мы сейчас оказались в очень необычной ситуации. Я не буду утверждать, что такого не было никогда - такое бывало в истории, но достаточно редко. Для нас сейчас - для нас русских, англичан, американцев.., для мира философия снова становится реальной, практической, работающей, абсолютно необходимой дисциплиной. То есть, мы должны погрузить свои знания, свои представления об окружающем мире, в сильные религиозные или философские концепты, с которыми семантическое управление со стороны небольших и неукоренённых в философии групп людей ничего сделать не может.
Семантическое управление, которое против нас организовано - это попытка обращаться с огромным количеством мыслящих людей как с людьми в принципе не способными ни к какому мышлению, кроме сублимированного, т.е. к мышлению заданному множеством медиаобразов.
Три базовых типа мышления: мышление знаками (текстами, книгами), мышление медиаобразами, мышление базами данных (не переводя их ни в тексты, ни в медиаобразы). Сублимированное мышление медиаобразами - это когда вы мыслите не собственными медиаобразами, а заимствованными (своих у вас нет), это мышление чужими заимствованными кусочками, не связанными между собой, не образующими целого, не обращающимися к целому ни на знаковом, ни на образном уровне.
Знаковая культура сменяется культурой образа. Реально изменить мир сможет тот, кто сможет эти три базовых мышления (мышление текстами, образами и данными) с умеет связать воедино.
Борьба будет вестись за удержание сложных форматов мышления.
Сергей Переслегин
Охранять свою душу от помыслов - это трудное дело, значение которого даже непонятно людям мирским. Нередко говорят: зачем охранять душу от помыслов? Ну, пришла мысль и ушла, чего же бороться с нею? Очень они ошибаются. Мысль не просто приходит и уходит. Иная мысль может погубить душу человека, иной помысл заставляет человека вовсе повернуть на жизненном пути и пойти совсем в другом направлении, чем он раньше шел. Святые отцы говорят, что помыслы есть от Бога, помыслы от себя, т.е. от своего естества, и помыслы от бесов. Для того, чтобы различать, откуда приходят помыслы, внушаются ли они Богом, или враждебной силой, или происходят от естества, требуется великая мудрость.
Прп. Варсонофий Оптинский
Смотри, чадо, не осуждай ни одну душу, потому что осуждающему ближнего Бог попускает падение, чтобы он научился сочувствовать своему немощному брату.
Всех нас укрепляет милость Божия, и, если мы возгордимся, Бог забирает Свою благодать и мы становимся хуже других.
Когда мы судим своего брата, мы осуждаем самих себя в великом грехе. Когда же мы покрываем нашего брата, тогда покрывает и Бог наши тяжкие грехи. Сбрасывая покров с ближнего, мы отгоняем от себя благодать Божию и нам попускается впасть в те же прегрешения, чтобы научиться тому, что все мы немощны и что нас поддерживает благодать Божия. Хранящий свой язык сохраняет и душу свою от многих грехов и падений.
Нужно терпеть немощи другого человека, ибо кто из нас совершенство? Кто может похвалиться тем, что свое сердце сохранил неоскверненным? Стало быть, все мы больные, а судящий своего брата просто не чувствует того, что он больной, ибо больной больного не осуждает.
Любите, терпите, не замечайте немощей ближних, не гневайтесь, не горячитесь, прощайте друг друга, дабы уподобиться Христу и удостоиться быть рядом с Ним в Его Царстве.
Избегайте, чада мои, осуждения. Это очень большой грех. Бог очень печалится, когда мы осуждаем и гнушаемся людьми. Будем заботиться лишь о своих ошибках, о них да будем болезновать, самих себя да будем осуждать и тогда обрящем милость и благодать от Бога.
Архимандрит Ефрем Филофейский
Никогда не забывать о главном. Во всех обстоятельствах жизни (а особенно в тяжелых) нужно помнить, что мы живем вместе не для того, чтобы выяснять, кто прав, кто виноват, или перевоспитывать друг друга, а для того, чтобы вместе спасаться. Стремиться к миру, любви и счастью.
Священник Павел Гумеров
Кукша Одесский был в 1938 году арестован и приговорен к пяти годам концлагерей. 64-летний старец оказался на тяжелых лесоповалочных работах в суровой северной тайге.
«Это было на Пасху, – вспоминал о. Кукша. – Я был такой слабый и голодный – ветром качало. А солнышко светит, птички поют, снег уже начал таять. Я иду по зоне вдоль колючей проволоки, есть нестерпимо хочется. А за проволокой повара из кухни в столовую охранников носят на головах противни с пирогами. Так вкусно пахнет, а над ними вороны летают.
Я взмолился: «Ворон, ворон, ты питал пророка Илию в пустыне, принеси и мне кусочек пирога!» И вдруг слышу над головой: «Кар-р-р!» – и к моим ногам упал пирог с мясом – это ворон стащил его с противня у повара. Я поднял пирог со снега, со слезами возблагодарил Бога и утолил голод».
В конце 1822 года молодой и никому не известный драматург Ганс Андерсен пришел на прием к начальнику Морского кадетского корпуса адмиралу Петеру Вульфу. Высокопоставленный флотский офицер имел необычное для его круга увлечение — он занимался переводами произведений Шекспира и Байрона, в чем достиг внушительных высот. Мнение Петера Вульфа высоко ценили в театральных кругах, и Андерсен, 17-летний сын прачки и сапожника, решил заручиться его поддержкой.
Вульф не отказался принять молодого человека и ознакомиться с его работой. Пьеса Андерсена показалась старому театралу очень слабой, зато сам Ганс Андерсен ему понравился. Увидев в парне интересного собеседника и очень доброго человека, адмирал пригласил его на ужин, а чуть позже сделал почти членом своей семьи. В одном из роскошных Амалиенборгских дворцов, где обосновался со своей семьей Вульф, у Андерсена появились даже свои комнаты, где он мог появляться когда угодно. В семье адмирала к молодому сказочнику относились очень хорошо, но особенно теплые отношения сложились у Ганса с Генриеттой Вульф — старшей дочерью офицера.
Генриетта была очень маленького роста, почти карлица, а кроме того горбунья. Физические недостатки не позволяли ей блистать в высшем свете и все свое время девушка проводила дома, среди множества книг, собранных отцом по всему миру.
Милая Генриетта, постоянно находившаяся рядом, была, по словам Андерсена, «его светлым эльфом» и музой, которая вдохновляла и всегда была готова помочь советом.
К сожалению, судьба прототипа Дюймовочки была ужасной. Генриетта с братом Христианом отправилась путешествовать, побывала в Америке и на некоторых островах Вест-Индии. Тропики были безжалостны к гостям с севера и вскоре брат Генриетты заболел лихорадкой и умер. Христана Вульфа похоронили на чужбине, а Генриетта вернулась в родную Данию. Долгие годы она мечтала посетить могилу брата и решилась на далекое путешествие в 1858 году. Последнюю весточку от нее получила сестра — Генриетта писала, что пересаживаясь в Англии на трансатлантический рейс, испытала беспричинный страх и едва заставила себя продолжить поездку.
Утвердиться в решении помог покойный брат, который являлся к ней во сне и просил приехать к нему как можно быстрее. Генриетте не суждено было вернуться домой — пароход «Австрия» сгинул без следа на просторах океана и только через месяц стало известно, что на судне произошел пожар и оно затонуло. Погиб 471 человек, в том числе и маленькая горбунья.
Андерсен был глубоко потрясен гибелью своей подруги. Много дней все валилось у него из рук и писатель не мог думать ни о чем другом, кроме как об ужасной смерти Генриетты. В своем дневнике он так описал свои переживания:
Волнение и думы об одном и том же, наконец, так расстроили меня, что мне однажды стало чудиться на улице, будто бы все дома превращаются в чудовищные волны, перекатывающиеся одна через другую. Я так испугался за свой рассудок, что собрал все силы воли, чтобы, наконец, перестать думать все об одном и том же. Я понял, что на этом можно помешаться. И едкое горе мало-помалу перешло в тихую грусть.
Смерть Генриетты так потрясла впечатлительного Андерсена, что он до конца своих дней панически боялся пожаров и больших объемов воды.
Фотография Юрия Литвиненко «Последний день картины».Одесса.
На фотографии запечатлена огромная картина 4 на 3 метра и сидящий рядом на стуле ее создатель – преподаватель одесского художественного училища имени Грекова, известный живописец Валентин Захарченко. У этого полотна – любопытная история.
Как рассказал автор фото «Думской», картина называется «Слепцы». Захарченко написал ее в 1978-м году, а совсем недавно, в декабре 2012-го… распилил болгаркой.
«Картина находилась в старой мастерской Валентина Андреевича, которая расположена в аварийном доме на улице Новосельского, — говорит Литвиненко. — Художник получил от города другое помещение и должен был переехать. Однако при подготовке к переезду выяснилось, что это и еще несколько полотен настолько велики, что их просто невозможно вынести из дома. И свернуть никак — за много лет масло на картинах буквально зацементировалось и при первой же попытке снять холст с подрамника начало осыпаться. А расширить оконный проем Захарченко не дали соседи, которые и так недовольны тем, что живут в одном доме с художником. По их словам, его картины так тяжелы, что из-за них разрушается здание. В конце концов, мастер нашел выход — распилил работы болгаркой и перевез в училище. И хотя картины можно восстановить, резать собственное произведение – это тяжкое испытание для художника, которое оставляет после себя психологическую травму. В момент принятия этого непростого решения я его и запечатлел».
К слову, Валентин Захарченко собирался подарить «Слепцов» Одесскому художественному музею, но там почему-то отказались.
Захарченко Валентин Андреевич — член Союза художников Украины, старший преподаватель Одесского художественного училища им. М.Б. Грекова. Родился в Житомирской области. В 1968 году поступил на художественно-графический факультет Одесского педагогического института. Получив диплом, остался преподавать на кафедре живописи.
Павел Ковальчук