Впервые статья под заголовком «Дело Хайдеггера» была опубликована в сборнике «Философия Мартина Хайдеггера и современность» (М.: Наука, 1991). Впоследствии в существенно переработанном виде этот текст в качестве вступительной статьи был опубликован в книге: Хайдеггер М. Время и бытие: Статьи и выступления (М.: Республика, 1993). Настоящая публикация представляет собой последнюю редакцию статьи.
В тексте сохранены авторские орфография и пунктуация.
Заговорив о Мартине Хайдеггере, попадаешь в сильно поляризованное поле. Со стороны одних — аванс благоговения, готовность замирать над каждым словом мудреца. Отвернись от хайдеггерианцев с их заумью — и тебя приветствуют философы-профессионалы, которые, казалось бы, благополучно прошли мимо спорного мыслителя, но нет: неясная тревога их не оставляет, время от времени они теряют самообладание, и тогда по морю философской публицистики проходит очередная волна разоблачений, развенчаний и обличений «баварского мага». Бессильные уже что-либо изменить в доме хайдеггеровской мысли, эти волнения лишний раз показывают, как она жива, и поневоле зовут вчитаться в книги знаменитого человека — сейчас в ФРГ выходит его полное издание, приближающееся к ста томам. Предметом равнодушной историко-философской инвентаризации фрейбургский мыслитель не стал и, возможно, не станет вообще никогда.
Хайдеггер родился 26 сентября 1889 г. на юге нынешней федеральной земли Баден-Вюртемберг в городке Месскирхе. Здесь, на краю Шварцвальда («Черного леса»), исторической области алеманнов, они, преимущественно католики, смешиваются с протестантами-швабами. Отец Мартина, ремесленник-бочар, был причетником и звонарем католического храма св. Мартина в Месскирхе; мать родом из деревни в Верхней Швабии. Здесь кстати вспомнить, что философы Гегель, Шеллинг, поэты Виланд, Шиллер, Гёльдерлин, писатели Вильгельм Гауф, Эдуард Мерике, Герман Гессе происходили из швабов; швабом был Альберт Великий; и его ученик Фома Аквинский принадлежал, по-видимому, к швабскому (свевскому) роду, осевшему в Южной Италии.
Всю жизнь, кроме редких поездок за границу, Хайдеггер провел в родных местах, хранил преданность им и не позаботился очистить свой язык от диалектных особенностей. Граждане мира любят говорить о его «почти варварском провинциализме». Но он вступал в философию совсем не как провинциал.
Читатель серьезных книг и крайний нападающий местной футбольной команды, Мартин поступил в гимназию иезуитов в Констанце, потом прослушал четыре семестра теологии, столько же математики и естественных наук в университете Фрейбурга, одном из старейших в Европе (основан в 1460 г.). Профессор Финке разбудил в «чуждом истории математике» уважение к традиции. Хайдеггер учился у Риккерта, был ассистентом при Гуссерле; Рудольф Бультман, молодой Гадамер, Карл Ясперс, Николай Гартман, Макс Шелер — вот его круг в 1910–1920-е годы. Его философское ученичество пришлось на сложное время, полное не только внешними событиями, — время, когда вышел полный Ницше, возвратилось внимание к Гегелю и Шеллингу, были переведены на немецкий Кьеркегор и Достоевский, началось издание собрания сочинений Дильтея, был заново открыт Гёльдерлин; когда Рильке и Тракль создавали свои главные вещи; когда восходил Пауль Клее; когда Вернер Гейзенберг сформулировал соотношение неопределенностей в квантовой механике.
В 1914 г. Хайдеггер опубликовал докторскую работу «Учение о суждении в психологизме», в 1916 г. — диссертацию «Учение Дунса Скота о категориях и значении», защита которой дала ему доцентуру. Потом в течение почти двенадцати лет Хайдеггер ничего не отдавал в печать. Слава о «тайном короле философии» (Ханна Арендт) расходилась, правда, и так. Его аудитории во всяком случае были полны. «То, о чем он читал, люди видели перед глазами, словно телесное и осязаемое», вспоминает Гадамер.
В 1927 г. появилось «Бытие и время» — книга, изменившая путь европейской мысли, до сих пор еще не осмысленная вполне. Субъект, объект, сознание, познание, антропология, историзм, культурология — все эти привычные ориентиры, без которых, казалось, современный разум не может ступить ни шагу, были здесь оставлены. Этой главной работе Хайдеггера, только сейчас переводимой на русский язык, придавала собранную энергию попытка дать неопределимому человеческому существу определение, которое не нанесло бы ему вреда, не упустило бы из виду его простую цельность. Человек — сущее, существо которого в бытии-вот, в присутствии (Dasein). Этим последним плотная среда природных вещей разомкнута. Человек — то неопределимое, но очевидное «вот», которое не «состоит из» разных элементов мира, а открыто всему как единственное место, способное вместить Целое. Присутствие не предмет. Оно весомее вещей, но о нём нельзя сказать заранее ничего, кроме того, что оно есть. Человек существует постольку, поскольку осуществляет возможности своего «вот». Присутствие, если можно так сказать,— нечеловеческое в человеке, его бездонность. Его возможностям не видно края. Оно может всему отдаться и всем быть захвачено, от полноты бытия до провала ничто. Присутствие «понимает в бытии», «умеет» быть в мире. Не личность решает, присутствовать ей или нет. Во сне, наяву, рассуждая и не рассуждая, человек брошен в собственную открытость. Не последняя среди его возможностей — упустить себя. Как раз прежде всего и всего чаще человек «делает как люди». Безличные «люди» (das Man) орудуют в нас и через нас вместо нас. Вне чистого присутствия прослеживаются сплошные причинно-следственные цепи, только в нём свободный просвет и поэтому только в него бытие и сущее могут войти своей истиной, а не только своей функцией. Об этой единственной собственной возможности присутствия не перестает говорить совесть, не давая прекратиться заботе. Мерой осуществившегося присутствия отмеривается время человека и вмещаемого им мира.
В те годы, вкус которых нами забыт, Европа жила вразнос, на рискованном размахе, набираясь решимости перед историческим перевалом, высоту которого ощущали все. Голос Хайдеггера звучал в гулкой атмосфере предчувствий и тревог с сосредоточенной силой. Время искало вождей. Дважды, в 1930-м и в 1933 г., Хайдеггера приглашали в Берлинский университет, он отказался. В начале мая 1933 г. сосед Хайдеггера ординарный профессор медицины фон Мёллендорф после всего лишь двух недель ректорства в университете Фрейбурга был снят властями за такие поступки, как запрещение вывесить в помещениях университета так называемый «еврейский плакат». Фон Мёллендорф пришел к Хайдеггеру и попросил его выставить свою кандидатуру на новых выборах ректора. Хайдеггер не имел опыта административной работы, сомневался и колебался, но самоотвода не сделал и был избран. Было из-за чего колебаться: по тем временам стало уже совершенно обязательно, чтобы на таком посту, как ректор университета, находился член партии. Почти сразу в кабинет нового ректора пришел «штудентенфюрер», а потом звонили из отдела высшей школы Штаба штурмовых отрядов с той же рекомендацией разрешить вывешивание «еврейских плакатов». Хайдеггер не разрешил. Дисциплина была строгой, в обход ректора действовать не осмелились. Его даже не сместили. В конце того же 1933-го он задумал крупные изменения и перемещения в университете, включавшие назначение деканом медицинского факультета того же фон Мёллендорфа, социал-демократа, а деканом юридического факультета профессора Эрика Вольфа, одного из тех, против кого были нацелены зловещие плакаты, — и понял, что ему не позволят сами же коллеги, в своем большинстве уже взбаламученные новыми политическими ветрами; а если позволят они, то не позволит партия. Он попробовал обратиться к стране от имени науки. Но в стране всё хотела решать партия, собиравшаяся не слушать ученых, а учить их. В феврале 1934 г., т. е. до смерти Гинденбурга и за полгода до единовластия Гитлера, Хайдеггер подал в отставку. Был избран новый ректор, на этот раз человек, которого местная партийная газета приветствовала жирным шрифтом: «Первый национал-социалистический ректор университета». На торжествах передачи ректорства Хайдеггер не присутствовал. Встретившийся ему вскоре после того коллега приветствовал его словами: «Ну как, господин Хайдеггер, вернулись из Сиракуз?» [ 1 ] .
В эти годы Хайдеггер оставляет позади последние привычные интеллектуальные вехи. Не философия, не метафизика, не фундаментальная онтология, даже не бытие («я уже неохотно употребляю это слово»), а «другое мышление» отныне его задача. Знаменитый «поворот» 1930-х годов многими был истолкован как расписка в неудаче «Бытия и времени», признание тупика. Хайдеггер не стал говорить, что на его родном наречии поворотом (Kehre) зовется место, где серпантин горной дороги поворачивает почти назад, чтобы подобраться еще ближе к перевалу. За невольное свидетельство его безысходных блужданий было принято и название сборника «Holzwege», которое переводили на разные языки и как «Дороги, ведущие в никуда», и как «Лесовозные дороги», и, наконец, как «Дебри». Но в воспоминаниях Карла Фридриха барона фон Вейцзеккера читаем: «Однажды он повел меня по лесной дороге, которая сходила на нет и оборвалась посреди леса в месте, где из-под густого мха проступала вода. Я сказал: “Дорога кончается”. Он хитро взглянул на меня: “Это лесная тропа (Holzweg). Она ведет к источникам. В книжку я это, конечно, не вписал”» [ 2 ] .
В тех редчайших случаях, когда Хайдеггер пробовал прояснить возникавшие вокруг него недоразумения, мало что менялось. Так произошло с основным из этих недоразумений, с отнесением его к экзистенциалистскому направлению в современной философии. Он не раз подчеркивал, что его мысль не имеет отношения к этой школе. Всё равно: он — экзистенциалист, читаем мы в справочных изданиях [ 3 ] . Между тем энергичное и многозначительное размежевание Хайдеггера с экзистенциализмом произошло еще задолго до «Письма о гуманизме» (1947, см. в данном сб. с. 192–220), в самом начале 20-х годов. В его большой рукописной рецензии 1921 г. на книгу Карла Ясперса «Психология мировоззрений» признавалось, что Ясперс сумел подняться над простым собиранием фактов к новому широкому обзору реалий человеческого существования. Но что это значит, что Ясперс «непосредственно и непредвзято созерцает» экзистенцию, развертывающуюся перед ним между своими «пограничными ситуациями»? Разве такое созерцание не частица экзистенции самого исследователя? Важно не то, что именно может разглядеть в своем объекте зоркий субъект. Мало ли что он может в нём разглядеть, да еще в таком богатом, как человеческая экзистенция. Исследователь упускает спросить: что стоит за рассмотрением экзистенции? Кто ее рассматривает? Она же сама. А что если все это пришедшее с экзистенциализмом занятие анализа и описания человека — лишь тайное следствие каких-то изменений в способе его исторического бытия? Ясперс не дочитал рецензию младшего друга до конца, она ему показалась скучной [ 4 ] ; напечатана она была только в 1973 г. Экзистенциализм продолжал свое странствие по переулкам «существования» с его проектами, трансцензусами, шифрами, диалогами. Хайдеггер очень рано задумался об одном: благодаря чему человек вообще видит всё то многое, что он видит.
Назовем эту постоянную и по существу единственную мысль Хайдеггера. Что бы ни понял, что бы ни увидел своим умом, что бы ни открыл, что бы ни изобрел, чем бы ни был захвачен человек, пространство, в котором он так или иначе ведет себя в своей истории, устроено не им. Раньше самой ранней мысли — ясность или неясность того, о чем она: просвет Lichtung), в котором имеет место всё. По-русски можно было бы сказать просто свет в смысле мира, белого света. В санскрите loka (от lōk, смотреть) тоже значит и просвет, открытый простор, и мир, человечество. Сходная связь понятий — во французском monde, мир. Во всяком случае, сцена, на которую человек каждый раз выступает, думая и поступая, всегда заранее уже есть. «Когда бы человек ни раскрывал свой взор и слух, свое сердце, как бы ни отдавался мысли и порыву, искусству и труду, мольбе и благодарности, он всегда с самого начала уже обнаруживает себя вошедшим в круг непотаенного, чья непотаенность уже осуществилась, коль скоро она вызвала человека на соразмерные ему способы своего открытия». Непотаенное, греческая а-летейя — это истина не в смысле правильного суждения, а в исходном смысле того, что так или иначе всегда заранее уже есть. Увидев что-либо умственным зрением, мы спешим схватить предмет и упускаем из виду свет, в котором увидели. Чем больше света, тем цепче взгляд привязан к предмету, тем меньше замечен сам по себе свет. Однако моменты озарения составляют наше бытие в более важном смысле, чем схваченные или не схваченные нами предметы. Озарение нам неподвластно. В наших силах быть только готовыми к нему.
Хайдеггер думает здесь о чем-то настолько простом, что за ним трудно следовать. Он неудобен для технического сознания, которое теряет почву под ногами, встречаясь с чем-то не только неуправляемым, но и невидимым. Техника в любом случае гарантирует какой-то успех. Ее владение надежными и выверенными методами получения обеспеченного результата опирается на науку, но наука в свою очередь подчинена технике, существом которой в Новое время делается, по Хайдеггеру, постав — настойчивое приведение всего в природе, в обществе и человеке к «состоянию в наличии». В образе новоевропейской науки постав задолго до своего теперешнего размаха поставил перед теорией задачу сплошного опредмечивания всей действительности, обеспечения бытия. Бытие не поддается обеспечению.
Представление Хайдеггера поэтическим мечтателем далеко уводит от его понимания. Хайдеггеровская мысль не проповедь о золотой старине и не романтическое устремление, а онто-логия: слово о том, что всегда уже есть прежде, чем человек начнет свою работу осознания. Речь не о том, что было и могло бы быть. «Осмысление существа Нового времени вводит мысль и волю в круг действия подлинных сущностных сил нашей эпохи. Они действуют, как они действуют, не задеваемые никакой обывательской оценкой. Перед лицом этих сил только и даны либо готовность вынести их, либо выпадение из истории... Эпоху никогда не отменить отрицающим ее приговором. Эпоха только сбросит отрицателя с рельс. Однако Новое время, чтобы впредь устоять перед ним, требует в силу своего существа такой исходности и зоркости осмысления, какую мы, нынешние, возможно, и способны в чем-то подготовить, но никоим образом — сразу уже и достичь».
Это говорилось в 1938 году, в докладе «Время картины мира» (см. ниже). Работы Хайдеггера несли на себе напряжение исторического места и момента, дышали близостью события и сами были событием. Но главное событие, о котором в них шла речь, не было похоже на революции, войны и учреждение новых порядков. Во всех таких сдвигах Хайдеггер видел уже только неотвратимые последствия решающего неслышного события — явления или ускользания бытия как озарения.
Осенит ли оно своим богатством человеческое существование, не от человека зависит. Человеку дано только принять и хранить подарок. Всё, что устраивается насильственно, не становится событием или становится совсем не тем событием, которого хотели устроители.
В годы, когда Гитлер начинает и проигрывает войну за контроль над планетой, Хайдеггер думает и говорит о нигилизме как последнем забвении бытия. Озарение с предметной, объективной точки зрения — не вещь, ничто. Поэтому сам по себе опыт ничто, опыт невозможности опереться ни на что существующее, еще не нигилизм. Нигилизм может принять форму благонамеренного отшатывания от «нигилистической пустоты». Но озарение дает о себе знать и в опыте ненадежности всего сущего, его провала. Бытие не всегда день, оно и ночь. Нигилизм не выносит ночи и спешит зажечь в ней свои искусственные огни. Не зная ночного мрака, он не замечает и рассвета. Только в ненавязчивом слове мысли и поэзии еще слышна тишина бытия. «Мысль внимает просвету бытия, вкладывая свой рас-сказ о бытии в язык как жилище экзистенции... Будущая мысль уже не философия, потому что она мыслит ближе к началам, чем метафизика... Мысль поднимается до опускания в нищету своего предваряющего существа». А поэзия? Настоящая поэзия тоже не поддалась нигилистическому активизму и, мало понятая, продолжает в оскудевшем мире призывать Спасительное.
После войны, лишенный французскими оккупационными властями права преподавания, забытый почти всеми, достигший небывалой известности, восстановленный в правах, осмеянный, снова обвиненный, прославленный, разгадываемый как мистик, тайный томист, возродитель христианской апофатики, пророк восточной мысли на Западе, Хайдеггер отдает в печать работы двадцатилетней, тридцатилетней давности, звучащие как философская новость, и думает о слове и о тайном родстве современной техники с техне — художеством античной классики. «Рукоделье письма», еще в «Бытии и времени» заставившее признать в нём мастера слова, поднимается у него теперь до диалога мысли с языком. Хайдеггеровское бытие требует от человека почти невозможного: внимания к ближайшему. Сложным так или иначе можно овладеть; простое гораздо труднее. Не человеку судить о бытии, оно — судьба человека, если только человеку еще суждено вернуться к своему собственному существу. Простота — удел благородной нищеты «пастухов», которые «живут неприметно и вне бесплодной равнины опустошенной земли», вынося и храня истину бытия. Без нищей простоты у человека, каким бы хитроумным строителем он ни стал, нет родины и нет дома. Люди взвинчивают себя говорением. В век информации слышен уже почти только крик. Бытие никогда не говорит другим голосом, кроме зова тишины. Тишина кажется пустой. Но для вслушивающейся мысли пустота бытийного ничто открывается впускающим простором. Открытость благородной нищеты допускает вещам быть тем, что они есть. Слово мыслителя и поэта оказывается способно хранить мир, что не дается всей деловитой организации постава. Мир не сумма предметов. В своем существе он спокойное согласие.
Повсеместная гонка всестороннего и непрестанного обеспечения, поглощающая надолго вперед все силы и ресурсы земли и человека, — откуда это, что это такое? Современный коллектив подчинен двум механизмам, технике и историческому процессу, которые требуют себе не меньших жертв, чем античный рок. Полновесно звучат слова о том, что техника стала нашей судьбой. Ее, орудие всеобщего контроля, никакими силами не удается взять под контроль. Посвящение всех сил человечества, всех запасов земли поставу по видимости служило избавлению из-под власти природных стихий. На деле оно было подчинением новому року как раз тогда, когда зависимость от природы переставала быть гнетущей.
Однако и постав в своей скрытой от него самого сути оказывается тоже вскрытием бытия, только не путем художественного про-изведения, а путем добывающего, поставляющего и изготовляющего производства. Истина бытия, светящаяся в произведении искусства, забыта лихорадочной научно-технической деятельностью. И всё равно именно благодаря поставу впервые в истории человеком теперь правит само бытие и только оно — в манящем обманчивом облике единого окончательного упорядочения всего мирового сущего. Постав оказывается таким образом и крайней опасностью последней разлуки с бытием, и немыслимой близостью к нему, неузнанному.
При таком положении вопрос «что делать?» показывает себя вдвойне неуместным. Сделано уже почти всё, о чем задумывались в самых смелых проектах, — и уже почти всё в мире, который устроило себе и который так не устраивает современное человечество, сделано в смысле поделки и подделки. Не «что делать?», а «как начать думать?» — спрашивает Хайдеггер. Бытие неподдельно — или его вообще нет. В допущении его — опережающее всякую деятельность дело мысли.
Оно дело всей жизни Хайдеггера. Но трудно назвать продолжением этого дела расплеснувшееся на всех континентах огромное исследование Хайдеггера, насчитывающее сейчас уже десятки тысяч публикаций. «Делом Хайдеггера» его можно назвать только в совсем другом смысле. Не будет преувеличением сказать: почти всё это исследование остается по существу расследованием. Кто он всё же был на самом деле? Не воплощение ли он какой-то темной силы или опасного соблазна? Настоящий ли он философ? Не зен-буддист ли он? Не нигилист ли? Может быть, он поздний реакционный романтик? Может, он крипто-томист, замаскированный богослов? Конечно, убежденно говорят одни. Надо посмотреть, говорят другие, и прибавляют новые страницы к безбрежному делу. Расследование идет широким фронтом, не прекращаясь, вот уже более шестидесяти лет. Конца ему не видать. Меня начнут понимать лет через двести или триста, говорил Хайдеггер. Он ошибся. Расследования философов длятся дольше, не сотнями, а тысячами лет. Расследование дела одного древнего афинянина, который ездил зачем-то к сиракузскому тирану Дионисию, продолжается и в нашем веке. Со страстью.
Дело Хайдеггера до сих пор для большинства означает только одно — обдумывание загадки, которая подлежит разгадке. Понять дело Хайдеггера иначе, предположив, что он, возможно, начал в нашем веке дело первой важности, которое завещал другим, — до этого нам пока еще очень далеко. Гораздо ближе нам другое. Разоблачить его как псевдофилософа, недемократа. Или, наоборот, оправдать, — скажем, как возродителя истинного христианства или как единственного глубокого, подлинного антифашиста. Кто-то теряет терпение и спешит с крайними выводами, криминальными или, наоборот, восторженными; или теми и другими вместе. Это, так сказать, нервические выкрики из зала, в котором напряженно ведется процесс. Закричавших утихомиривают, расследование продолжается.
Здесь кто-нибудь возразит: позвольте, но ведь дело, которым он был занят, — это как раз дело анализа, спрашивания, дознания. Разве не так? Разве, спрашивая теперь уже и о нём самом, мы не продолжаем его дело? Нет, не продолжаем. Нам только кажется, будто, спрашивая среди прочего теперь уже и о нём самом, мы просто продолжаем заниматься тем же самым исследованием, что и он. Дело Хайдеггера по-настоящему другое, чем постановка и разбор исследовательских вопросов. За хайдеггеровской «деструкцией» стоят не еще и еще вопросы, за ними просвечивает ответ. Об этом напомнил Жак Деррида в своей книге «О духе. Хайдеггер и вопрос». Он вспомнил о том, что Хайдеггер говорил в конце 1957 г. в лекции «Существо языка»: «Мысль не средство познания. Мышление проводит борозды в поле бытия... Собственный жест мысли — не вопрошание» [ 5 ] . Жак Деррида говорит по поводу этих слов: «Вопрос оказывается не последним словом в языке. Прежде всего — потому что он не первое слово. Во всяком случае прежде всякого слова располагается то слово, иногда бессловесное, которое мы называем “да”. Род предшествующего всякому началу залога, который, всё опережая, делает нас заложниками: вовлеченными участниками слова и поступка» [ 6 ] . Залог этот, нами вносимый и нас делающий заложниками истории, завязывающий наше отношение со словом и делом, отменить никакой возможности нет. Возврата назад нет.
Собственное дело мысли — всё-таки не вопрос, пусть даже самый неотступный. Собственное дело мысли — это дело, поступок, который совершает человек в раннем «да» миру и который одновременно впервые делает человека участником того, в чем он только и может осуществиться как человек,— входящим в событие мира. Начало мысли — поступок принятия того, что всё такое, какое оно есть: согласие с миром.
Здесь снова неизбежно возражение. Как это так — мысль дело? Разве мысль дело? Мы ведь давно привыкли считать, что как раз мысль это одно, а дело — совершенно другое. Теория это одно дело, практика совсем другое дело. Правда, у Аристотеля в «Этике Никомаховой» (X 8, 1178 b 7–8) стоит: «Совершенное счастье есть некая теоретическая действенность», т. е. такая «теория», которая одновременно полнота действительности, «энергия». По Плотину, который еще больше заостряет эту мысль, практика есть то, во что сползает человек, обессилевший душою для теории: «Люди, когда у них перестает хватать силы для мысли, начинают заниматься тенью мысли — практикой» (III, 8, 4).
Но подобные места относятся как раз к непопулярным в истории философии. Во всяком случае, мы их даже не начали еще по-настоящему осмысливать. Дело и мысль, поступок и мысль для нас пока не только разные, но и противоположные вещи.
Если современная мысль такова, то может ли быть какая-то другая мысль, которая оказывается делом в исходном, сущностном, безобманном смысле? Не для того, чтобы доказать что-то при помощи этимологии, а для того, чтобы не тесниться внутри только привычного и стершегося значения слова, которое обычно бывает уже суженным, вспомним, что наше слово «дело» того же происхождения, что немецкое Tun, «деяние», «поступок» и греческое тесис, θέσις: «полагание» не в смысле мнения, а в смысле выкладывания, выставления, предложения, например, в качестве залога. «Залог» — одно из значений слова тесис. Залог это знак, который я даю о том, что не собираюсь только, а уже сделал какой-то решительный первый шаг, уже поступил, т. е. тем самым уже вложил себя. Залог — это начало дела, в которое я намерен вложить себя, в котором я настроен выложиться.
В какое дело вкладывает себя или, вернее, каким делом-вкладыванием должна быть другая мысль? Хайдеггеровская другая мысль не хочет быть изобретением чего-то небывалого. Она возвращается к тому, чем мысль с самого начала должна была быть, т. е. к тому, чем мысль каким-то образом уже была. Мысль давно, даже раньше, чем она узнала себя в самосознании, вложила себя в дело мира — в то большое дело, каким оказывается целый мир. Раньше всего, еще не зная ничего, еще не зная даже себя, мысль уже имела дело с целым миром, сказав ему свое раннее «да». Даже если потом, на стадии развитого сознания, она не принимает мир или говорит, что не принимает, она может его не принимать и может так говорить только потому, что тем первым «да» целому миру когда-то уже была. Вернее, она сама самим же миром как согласием целого и согласным принятием целого уже была. Была раньше, чем забыла.
Мир-целое, мир-согласие остается первым делом мысли — и вместе тем, что она куда-то дела, не успев заметить, куда и как она его дела или куда девался целый мир — тот, с которым в своем младенчестве мысль вела беседу, когда была еще мифом. Наш язык здесь снова с нами. Русское «мысль» — то же слово, что греческое μύθος, «миф». Об этом, конечно, мы имеем право забыть или не знать. Мысль давно успела стать сознанием и с пренебрежением оттолкнула от себя миф — свое начало. Мы спокойно повторяем слова учебника: «Становление философии произошло в борьбе мысли против мифа». Мы не задумываемся, что мысль сделала над собой этой своей борьбой с мифом, с самою же собой в своем начале.
За свою забывчивость мысль, расставшаяся с собственным началом, вынуждена платить. Современная мысль почти только то одно и делает, что гонится за упущенным целым. Ранний мир ускользнул, но мысль осталась его заложницей. Она обречена снова и снова рисовать себе его картину и иметь дело с этим суррогатом целого. Забыв, что ее началом было дело мира, она пытается отыскать себя на ею же нарисованной картине. Это очень странно, но современная мысль действительно пытается найти, понять и организовать себя, разглядывая свое собственное изображение на нарисованной ею же схеме. Она обнаруживает себя там на переднем плане, именуемом «человек», в части «культура человека», на фигуре «философия», в уголке «мыслящий субъект».
Дело мысли — найти себя не на своей картине мира, а там, где она, сама плохо понимая зачем, снова и снова, непрестанно и всё быстрее рисует, теперь уже только вчерне успевая набросать, всё более глобальные картины мира. Она должна разобрать себя за своей картиной мира. Можем ли мы тогда по-честному сказать, что этот разбор, эта деконструкция построек мысли — дело Хайдеггера? Да, он был им занят, но в гораздо более прямом смысле, чем дело Хайдеггера, это наше дело. Хайдеггер вместо нас был занят нашим прямым делом. Ведь это нам жизненно важно вспомнить, что наши картины, проекты мира — замена упущенному и забытому целому. Мысли пора узнать себя как способную к миру и захваченную миром. Пока мы будем видеть целое только в конце наших построений, мы никогда не увидим нашим построениям конца: чему же конец будет в конце, если ему не нашли начала?
Решимся сказать, что дело, которым был захвачен Хайдеггер, — это вовсе не личное дело Хайдеггера и даже не просто какое-то одно дело среди многих человеческих дел, а дело по преимуществу, дело само по себе, если только дело человека на земле можно назвать делом мира. Первое дело мысли — мир. Наша она мысль или не наша, вопрос уже второй. Не мы должны распоряжаться мыслью, скорее мы должны быть в ее распоряжении, насколько она дает слово миру.
Поэтому «дела Хайдеггера» в строгом смысле нет. На его месте дело мира. Мир сам от себя и есть уже то первое дело, которое требует нас и требуется нам потому, что только в деле мира и мире как большом деле мы можем найти себя и иначе как в целом мире себя не найдем. Именно это отсутствие личного дела Хайдеггера и заставляет главным образом вести исследование его творчества как расследование. Не может быть. Не верится. Не бывает, чтобы ничего личного не было, чтобы всё было настолько просто. Человек растворился. Стал чистым присутствием — через него — дела мира. XX век, век расследований, век-волкодав душит нас, не отпускает. Надо дознаться. Докопаться. Сыскать человека. Кто такой по-настоящему Хайдеггер? Исследователями движет вовсе не простое любопытство, а очень большое желание, чтобы путь мысли, путь хайдеггеровской мысли, путь всякой мысли, путь нашей мысли всё-таки не вел только туда, куда он ведет у Хайдеггера, — к смирению человека, т. е. к измерению его мерой мира, мерой согласия; к тому, чтобы человек уступил себя целому.
Один из хайдеггеровских докладов о планетарном поставе, «Вопрос о технике», кончался, казалось бы, на главной ноте XX века, ноте расспрашивания, допытывания: «Ибо спрашивание есть благочестие мысли». Но еще четырьмя месяцами раньше, в докладе «Наука и осмысление» упрямое неотступное спрашивание уступало у Хайдеггера другому: готовности забыть себя, чтобы дать слово миру. «Даже там, где благодаря особой расположенности бытия была бы достигнута высшая ступень осмысления, пришлось бы довольствоваться лишь подготовкой готовности к вести, в которой нуждается наше сегодняшнее человечество. Ему требуется осмысление, но не для того, чтобы преодолеть временные затруднения или переломить свое отвращение к мысли. Осмысление требуется ему как отзывчивость, которая среди ясности неотступных вопросов потонет в неисчерпаемости того, что достойно вопрошания, в чьем свете эта отзывчивость в урочный час утратит характер вопроса и станет простым сказом».
Переводчик просит не судить о том необозримом, что сделано Хайдеггером, по неизбежно несовершенному переводу. Кроме того, не очень важно, как мы должны или как мы будем судить о мыслителе, итог работе которого подводить не нам здесь и даже не нашим близким потомкам. Нам сейчас нужно главное: школа чистой мысли.
Перевод Хайдеггера, строго говоря, невозможен. Без всякого преувеличения каждое слово, каждая частица своего родного языка услышаны им заново во всем размахе их современного и исторического звучания. Здесь точно так же, как в поэзии, перевод намекает на оригинал не больше, чем оборотная сторона ковра дает догадаться о его лице (Данте).
Совершенно неожиданно на помощь приходит русский язык — не своей гибкостью, способностью к приспособлению, имитации, а своим пока еще никем почти не разведанным философским запасом. Переводчик решил, что искусственных образований для передачи хайдеггеровской словесной ткани почти не требуется, потому что русский язык, так сказать, не хуже немецкого для мысли. Иногда в русском появляется даже то, чего Хайдеггеру в его немецком как будто бы не хватает. Например, у Хайдеггера пустота, как сказали бы на философском жаргоне, продуктивна в качестве вмещающей открытости; эта неожиданная сторона пустоты особенно ясно показана в поздней работе «Искусство и пространство». Русский язык подсказывает: пустота — это нечто отпущенное на простор и потому способное в себя впустить. В немецком das Leere этого нет. Еще. В работе «Путь к языку» Хайдеггер называет существом речи указывание и опять не находит в немецком языке слова, которое прямо свидетельствовало бы об этом; но в русском оно есть («сказ»). И еще. Расположение бытия: его расположение таково, что оно расположено к человеку. Эта плодотворная двузначность словесного смысла в русском слове на виду; в соответствующем немецком слове она стерта и прослеживается только в отдаленной этимологии. Наконец, центральное слово хайдеггеровской зрелой мысли, событие заставляет в русском переводе настойчивее вспомнить о бытии, чем немецкое Ereignis; хотя, с другой стороны, в русском пропадает исторически таящийся в Ereignis смысл прозрения, воссияния, озарения.
Но, конечно, нетронутое философское богатство русского слова поневоле остается в переводе недоиспользованным. Хайдеггер не ходил и не мог ходить путями, намеченными нашим языком. Впечатление неполной просвеченности слова, обрыва смысловых связей, «лишних», провисающих словесных значений, общей «сырости» текста создается целиком переводом и совершенно отсутствует при чтении немецкого оригинала, поражающего, наоборот, полновесным участием всех сторон слова в мысли. Достичь чего-то хотя бы подобного в переводе, к сожалению, невозможно и никогда не будет возможно. Потому что если бы та долгая, более чем шестидесятилетняя работа продумывания родного слова, которую вел Хайдеггер в Германии, была проделана у нас, — а почти вся громадная задача философского обживания русского языка остается еще делом будущего, — то даже и тогда она не оказала бы большой помощи переводчику, потому что шла бы своими путями, не всегда похожими на хайдеггеровские.
* * *
К сожалению, я не могу посоветовать читателю пользоваться моими старыми переводами, выходившими в разное время в малотиражной печати. За исключением «Основных понятий метафизики» (Вопросы философии, 1989, 9), все они для данного издания переделаны; некоторые, особенно «Путь к языку», «Из диалога о языке», «Слово», «Учение Платона об истине», переписаны совсем. Из «Европейского нигилизма» (с. 63–176) раньше выходила только примерно 1/4 часть. Впервые для данного сборника подготовлены также «Введение к: “Что такое метафизика?”» и «Время и бытие». Постоянное обновление переводов, по-моему, и необходимо, и неизбежно, даже если согласиться, что подход к представлению Хайдеггера на русском языке сейчас можно считать в главных чертах сложившимся. Без неотступного усилия самостоятельного осмысления того, что звучит или не звучит на родном языке, ничто не удержит переводчика, излагателя, комментатора от соскальзывания в колею очередного бессмысленного философского жаргона, и тогда, как в случае с Гегелем уже было, мы получим противоположное тому, что нужно мысли.
За щедрую помощь и советы я благодарен Юрию Николаевичу Попову, знатоку философской культуры, редактору и переводчику, а также Вардану Айрапетяну, любезно согласившемуся прочесть корректуру. Неоценима постоянная и разнообразная поддержка, которую оказывал мне с 1972 года мой Институт философии (РАН).
Сноски
1. Weizsäcker C. F. von. Der Garten des Menschlichen. München; Wien: Hanser, 1977, S. 410.
2. Weizsäcker C. F. von. op. cit., S. 407.
3. Эта привычная, но неверная характеристика была включена в политиздатовский словарь «Современная западная философия» (1991), хотя противоречила смыслу статьи о Хайдеггере (с. 365).
4. Jaspers K. Notizen zu Martin Heidegger. Hg. von H. Saner. München; Zürich: Piper, 1978, S. 225.
5. Heidegger M. Das Wesen der Sprache // Heidegger M. Unterwegs zur Sprache. Tübingen: Neske, 1959, S. 173, 175.
6. Derrida J. De lʼesprit. Heidegger et la question. P.: Galilee. 1987, p. 148.

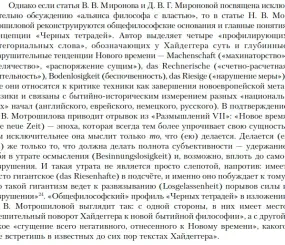
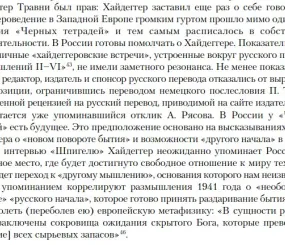

Оставить комментарий