Здесь много путей, по которым можно пойти и многочисленные проблемы возникают, они возникают в связи с психоаналитической революцией. Из них я возьму лишь те, которые относятся к характеру аппарата психоанализа, концептуального аппарата.
Коротко помечу одну основную особенность этого аппарата. Она состоит в том, что аппарат психоанализа носит в самых существенных своих моментах и решающих мысленных связках символический характер, что и является источником многих недоразумений. Поскольку психоанализ, родившись на рубеже веков, родившись в рамках традиционной культуры позитивного научного знания, в том числе и эволюционистского, биологического и т. д., ассимилировался согласно интеллектуальным навыкам, навыкам классической науки XIX века. Ассимилировался он также и в культуре, согласно наглядному языку и предметному языку, который обычно в культуре всегда циркулирует; преобразовывался согласно устоявшимся и до психоанализа существующим традициям и теориям.
Скажем, теориям биологической науки или психологической науки, неврологии и т. д. И основное новое понятийное содержание психоанализа, роднящее его скорее с такими явлениями в научной культуре XX века, как теория относительности, квантовая физика, ускользало от внимания. Тем более, что появление психоанализа было некоторым шоком для почтенной, буржуазной в классическом смысле этого слова, культуры (ну, если под словом «буржуа» понимать этимологический смысл этого слова, а не чисто классовый), имея в виду определенную этику, определенную традицию и прежде всего этику такую, которая ряд явлений человеческого поведения и психики, и сознания исключало по цензурным соображениям из поля своего внимания и из объектов возможного разговора. Последняя причина, уже в основном не действует в западной культуре, но продолжает действовать в российской культуре, где всякий разговор о психоанализе, независимо от содержания, блокируется просто цензурой нашего привычного российского сознания, я имею в виду не какую-нибудь внешнюю цензуру, а саму структуру нашего языка, на котором мы говорим, наших мысленных привычек где мы все явления, связанные с сексуальной жизнью, стыдливо избегаем и не имеем даже языка, чтобы говорить о них, если бы даже захотели и нам разрешили бы о них говорить.
Ну, скажем, в русской литературе, по ее традиции трудно себе представить хорошее в смысле художественном, эротическое описание. [Оно] почти что невозможно, просто по свойствам самой языковой традиции, которая пока еще устойчива и не склонна к каким-либо изменениям, или во всяком случае ее трудно допускать в свою толщу. Очевидно, что такой хулиганский характер психоанализа, как он был воспринят почтенной культурой начала XX века, был не основной причиной недоразумений связанных с ним. В основном недоразумения шли, конечно, не от тех, кто отталкивался от психоанализа, не принимал его, а от тех, кто принимал его. И принимали его как замечательное, манящее, дразнящее открытие тайных глубин человеческого существа, каких-то слоев, лежащих на уровне той связи, которая связывает воедино и человека и весь остальной животный мир, и в которой под внешним благополучием, благополучным сознанием содержатся чудовищные вожделения. Какие-то «ночные чудовища», которые при свете дневного сознания скрываются и не видны, а ночью сознание, будь то сон или безумие, заболевание, — с «ночью сознания» они выходят на поверхность. И теория Фрейда казалась прежде всего разоблачительной теорией, [которая] вводит высшие проявления человеческого духа, помеченные знаками самых высоких ценностей, [и] сводит их к человеческому «низу». И во-вторых, [она] была понята как теория, воспевающая силу инстинктов, прежде всего самых сильных человеческих инстинктов, конечно, сексуального инстинкта, потому что это инстинкт, структурированный вокруг продолжения человеческого рода, и тем самым самый сильный из них. И вокруг этого была построена масса романтических представлений о том, что нужно освободить инстинкты. То есть одни кричали, что нужно освободить, а другие кричали, что их нужно загнать назад, что не нужно выпускать их из этого ящика.
Короче говоря, фрейдовская теория была понята как биологическая теория, и новизна психоанализа состояла якобы в новизне взгляда на человеческое существо, в котором оказался важным не «верх», а «низ». Все это, на мой взгляд, гора недоразумений. У самого Фрейда, конечно, присутствовали, в силу привычек его [как] позитивного ученого XIX в., чисто эволюционистские биологические представления о человеке. Можно найти ряд экскурсов такого рода у Фрейда сама структура ассоциаций и запас слов, вступающих в эти ассоциации у Фрейда, был чисто позитивистским. Конечно, в этом позитивистском свете он сам некоторые вещи осмыслял так, что давал повод для подобного рода истолкований, о которых я говорил. Но психоаналитическая работа, проделанная Фрейдом, сначала на себе, а потом оформленная в виде школы или секты врачей, которые особым образом посвящались в эту секту, поскольку Фрейд проделал на себе так называемый дикий психоанализ, т. е. первичный психоанализ, потом запретил, т. е. в этике психоанализа содержится запрет так называемого дикого психоанализа, — психоаналитиком может быть только тот человек, который с свою очередь подвергся психоанализу другим человеком, уже практикующим психоаналитиком; появление этой странной вещи, называемой психоанализом, было действительно революцией в интеллектуальном инструментарии, которым мы располагали к началу XX века. Есть ряд особенностей этой революции, которые роднят психоанализ в плане онтологических или философских проблем с аналогичными какими-то сдвигами и смещениями, происходившими вообще в науке и способе мышления в XX веке. Я возьму один основной стержень, вокруг которого я попытаюсь дальше рассуждать.
Стержнем является следующее простое различение, которое позволит мне взять из Фрейда то, что мне кажется [интересным]. Я могу, естественно, ошибаться, но мне кажется самым интересным в философском отношении у Фрейда и вообще в психоанализе различение между физическими явлениями и сознательными явлениями. В каком смысле? В одном фундаментальном смысле. Вся современная наука, называя современной наукой ту, которую мы унаследовали к началу XX века, покоится на резком утверждении, что для нас постижимы, научным образом могут быть воспроизведены, и следовательно обладают рациональной структурой, определенного рода явления, имеющие место в природе, в мире. Это — физические явления. Явления же, которые связаны, и мы знаем об этом, и этого нельзя избежать, с понятиями о первых, т. е. о физических явлениях, и которые сопровождают любую нашу возможность проникнуть в физические явления, эти явления, называемые сознательными, т. е. вот те, которые сопровождают анализ физических явлений, они в принципе не укладываются в ту же самую картину мира, которая рисуется точной наукой или физикой, и не поддаются рациональному анализу. То есть научно мы знаем в мире о том, о тех явлениях, которые физически в нем имеют место, и мы не знаем научно о тех явлениях, которые несомненно имеют место в мире и которые являются сознательными явлениями. Сознательные явления характеризуются, в отличие от физических процессов и действий, имеющих место в мире, прежде всего [тем], что все сознательные действия связаны с индивидуализацией действующего агента или предмета, объекта действующего. Он индивидуализирует себя в самом этом действии, и, во-вторых, экранирует себя. Этот экран называется сознанием. Такие явления в физическом мире не встречаются. Они встречаются в мире сознания. Вот это самое грубое различение. Так вот, значит, об одних мы знаем научно, можем в них проникать, а вторых мы не знаем научно, в силу свойств индивидуализации и экранизации.
В этом заслуга Фрейда, и на этом основывается резкое различение, вернее, даже не различение — разрыв между физическими науками и науками о сознании. Этот разрыв до сих пор наблюдается Мы не умеем еще в одном гомогенном языке, т. е. таком языке, который выполнял бы правила однородности, которые требуют от него физика и математика, мы не можем в языке, который оставался бы однородным, говорить одновременно о физических и сознательных явлениях. О чем, кстати, свидетельствуют некоторые забавные парадоксы в квантовой механике, где особым образом стоит проблема сознания. Так вот, заслуга Фрейда была в том, что он был первым в XX веке, кто попытался ввести сознательные явления в область научного рассмотрения. То есть в область такого рассмотрения, где [об обоих этих явлениях], сознательность которых не отрицается, не элиминируется и не редуцируется, можно было бы говорить объективным и контролируемым образом. Тем самым я хочу сказать, что в действительности основной проблемой психоанализа является не бессознательное, а сознательное. То есть сознание стало проблемой. Здесь под проблемой имеется в виду нечто, над чем начинают ломать голову и это ломание головы продуктивно, т. е. приводит к каким-то результатам, новым понятиям и к новым представлениям. Фрейд сделал шаг к объективному анализу сознательных явлений, открыв явления, которые было бы можно назвать смешанными явлениями или явлениями третьего рода. Я сказал, что есть физические явления в составе мира и есть сознательные явления в составе мира, а оказалось, что есть еще и смешанные явления в составе мира. И вот это выявление смешанных явлений, или явлений третьего рода, и выработка соответствующих методов анализа такого рода вещей, произвела некоторые преобразования во всей классической методологии физической науки, поскольку под физической наукой я понимаю всякую науку. В той мере, в какой она наука, она физика. Что я имею в виду?
Я начну тогда с простого примера, чтобы как-то лучше двигаться. Введем сначала одну посылку. Ход, вот к этим явлениям, о которых я говорил, начинается с того, что появляется и реализуется идея, что в самом сознании, не выходя за рамки сознания, возможны и существуют, действуют неконтролируемые неявные механизмы и зависимости. Не те, которые вне сознания лежат и на сознание действуют, трансцендентные сознанию, нет, в самом сознании есть неявные механизмы и зависимости.
Пример к введению вот этой посылки, которую я пока ввел кратко и не разъясняя. Один джентльмен, [которого], очевидно, (как потом окажется или оказалось) возмутило какое-то явление или обстоятельство, событие, сообщая о котором другим, сказал, по-русски говоря, так: обнаружилось какое-то обстоятельство или выступило какое-то явление. По-немецки это zum vorschein kornmen. (Vorschein — значит, выйти на передний план, выйти на сцену.) Это стандартная стилистическая конструкция в немецком языке. Употребляя ее, чтобы сказать о чем то, о каком-то явлении, на которое [джентльмен] хотел обратить внимание (при чем он не собирался высказывать никакой оценки этому явлению, он просто формально говорил о том, пользуясь этим стилистическим построением, что вот явление появилось, оно имеет место, выступило на передний план), он сказал: zum vorschwein gekommen ist. Ну, «швайн» вы, конечно, знаете. Всякий школьник, начавший учить немецкий с третьего класса, знает, что такое «швайн». Zum vorschwein... это так называемый lapsus linguae, который Фрейд первый и изучал. Lapsus linguae, lapsus calami, т. е. описки, оговорки и т. д. Такой вот «монстр». Такого слова в немецком языке не существует. Есть vorschein, есть Schwein, а вот такого чемоданного слова vorschwein, которое имело бы еще смысл, такого слова не существует. Это совмещение нескольких слов, но живущих своей определенной жизнью. Какой жизнью? Жизнью симптома. Вот это показывает, что, в действительности, не зная и не отдавая себе в этом отчета, думал человек, произнося эту фразу. Он считал, вот то, о чем он хотел сказать, большим смыслом, и он это и сказал. Вернее, не он сказал, это сказалось. Значит, мы имеем здесь две вещи. Значит, нечто, что говорится помимо или через прямо говоримое, отличается от этого прямо говоримого. Следовательно, мы имеем некоторые прямые аналитические объекты мысли и имеем какие-то другие косвенные объекты мысли, которые высказываются через первые, отличаются от них и, в-третьих, являются действительным содержанием первых. Т. е. действительным содержанием сказанного аналитически прямо, ясного содержания сознания, было другое, скрытое содержание. И проблема, раз она существует, состоит в том, чтобы нам уметь его обнаруживать. А ведь можно и не уметь, потому что описки, оговорки были известны давно, они считались просто мусором, отходным материалом, сбивом в общем нормальной работе психического аппарата. То есть случайностями, которые бывают при всяком процессе и в котором можно участвовать. А взять эту случайность как нечто существенное и сквозь нее увидеть что-то — это было как раз заслугой Фрейда. Так же мы со счетов сбрасываем сны, как такие неупорядоченные, сбивчивые формы работы нормального сознания. Ну, просто мы спим, и сознание вытворяет там неконтролируемо все, что угодно, и это все не имеет значения. Отходный, побочный продукт. Нет, наоборот, Фрейд все это переворачивает.
Теперь я хочу обратить внимание на следующее обстоятельство, что vorschwein — это монстр, т. е. особый предмет, имеющий материальную форму. При этом, это предмет абсурдный, не существующий. То есть он не существует по нормам языка. И во-вторых, как я говорил, он что-то выражает. Другой такой же пример каких-то образований, которые существуют в физической материальной форме.
Джентльмен предлагает даме проводить ее, по-немецки это begleiten — провожать, а есть в немецком языке еще другой глагол — leidigen, — наносить ущерб. Ну, и предложения проводить даму, редко бывают невинными, хотя те другие соображения, которые за этим есть, тоже не стоит порицать. Просто они не высказываются прямо, а высказываются в виде предложения даме руки, дама пока еще «без сердца», но вот — «проводить даму». И он сказал ей: разрешите мне вас begleidigen. To есть там соединился begleiten, один глагол, с дру гим — leidigen, и образовался третий глагол, монстр, не существующий в немецком языке и тоже поддающийся анализу. То есть поддающийся анализу по типу, что это выражение, в котором высказалось действительное состояние мыслей человека, сделавшего эту оговорку И вслушавшись в то, что она говорит, мы понимаем, что подсознательно этот молодой человек определенным образом оценивал сам свое предложение проводить даму. Он считал свое предложение наносящим ущерб даме. Теперь сделаем еще один шаг.
Такого рода образования распадаются, не живут долгой жизнью Они именно оговорки или описки. Но представьте себе, что такими же могут быть другие предметы, которые и есть вот те предметы, которые требуют, поддаются и являются предметом психоанализа. Вот скажем, я обращаю внимание для начала на такую вот монструозную сторону этих предметов. Но хотя в литературном творчестве, вы знаете, что могут [быть] специальные образования, которые живут литературной жизнью и остаются в литературном языке, так называемые «чемоданные слова», где вот эта штука делается вполне сознательно в поисках художественного эффекта. Я даже сам в свое время придумал такое чемоданное слово — «холостяпа». Понятно, из чего состоит оно или?.. Растяпа и холостяк — холостяпа. Селин был один из великих (я имею в виду [Луи]-Фердинана Селина, французского писателя), мастеров по сочинению такого рода слов-чемоданов, очень выразительных. Скажем, наблюдая сограждан своего города, которые в порыве патриотизма организовались в нечто [вроде] национальной гвардии и маршировали с какими-то повязками по городу и патрулировали, он обогатил французский язык новым словом. Он назвал их [patriottrouille]. Потому что есть два слова во французском языке: patriote — патриот, такое же как в русском, и патруль, но по-французски patruille. Как раз очень выразительно, и есть эффект, и понимания, и эффект художественный.
Я хочу сказать, что реально в нашей психической жизни существуют ходячие и долго живущие — в отличие от обмолвок — иероглифы, где материальное тело совмещено со смыслом. И сам иероглиф не имеет с другой стороны постижимого рационального смысла, прямого аналитического содержания сознания, ясного для самого себя и выражаемого им. Вот, скажем, в некоторых психозах, как Фрейд показывал, вот таким вот монстром является, например, особый блеск или лоск, или нет, как сказать, лоснящийся [нос]. По каким-то причинам какие-то смыслы, реальные психические смыслы сцепились или зацепились за этот предмет, упаковались в нем и живут в нем, порождая некоторые патогенные действия. Но это не обязательно. Такого рода явления имеют более широкое в нашей сознательной жизни место и не всегда порождают патогенные явления. Я оговаривал с самого начала, что психоанализ — это тогда, когда такого рода вещи порождают патогенные эффекты. Чтобы расширить поле ваших возможных ассоциаций (а я именно движусь так и вовсе не собираюсь вам никакого догматического содержания передать, которое вы записали бы, запомнили, и это было бы какой-то системой знания, в данном случае о психоанализе — это все пустое дело), я приведу вам пример из области, где этот факт, родственный психоанализу, но в то же время отличный, потому что без патогенных последствий, использовался для художественного эффекта, и причем как весьма содержательный и гениальный новаторский литературный метод в XX веке. Я имею в виду Марселя Пруста, и просто хочу вам сказать, что вот пирожное Мадлены, называемое «Мадлен» — разновидность пирожного, или плитка от тротуара Венеции — это ведь структура та же самая, о которой я вам сейчас говорю. Наложите образ обмолвки на это,«т. е. имея в виду вот это вот, во-первых некоторое какое-то физическое существо, ну, физическая форма слова, и в нем упаковано, уложено что-то. И это все вместе — монстр, абсурдно. Поедая в зрелом возрасте, (сомнительно в зрелом возрасте, потому что для слишком зрелого возраста Пруст не дожил) пирожное, Пруст вдруг мысленно и в памяти своей вот сейчас, вот здесь вступил в страну детства, для него зазвучала масса вещей, звуков и запахов, которые никакого отношения к пирожному «Мадлен» не имели, которые когда то, когда он их переживал, он хотел бы их запомнить сознательно, но потом, как он прекрасно понимал, — и на этом основывался его метод, вот эта идея «потерянного времени», — наша память работает совершенно иначе. Мы можем хотеть запомнить впечатление, а оно как раз избежало нашего сознательного усилия и упаковалось непроизвольно в какой-то предмет и в нем осталось. Вот целая страна упаковалась в пирожное, которое он ел в детстве в саду и на террасе целыми образованиями, смыслов, представлений, которые требовали додумывания, которые еще не были ясны самому субъекту; они так сработались, вложились в пирожное. Так же, как (и я сейчас дам другую ассоциацию) какие-то смыслы уложились в «лоснящийся нос», который потом стал навязчивым, повторяться в снах, диктовать формы поведения и даже языковые формы. Когда человек даже стал изобретать себе фамилию, воображаемую биографию, где есть персонаж по фамилии Глянц. А Глянц — это как раз — блеск, лоск и т. д.
Так вот, значит, мы имеем предметы: пирожное — словесная вещественная форма в случае тех вот, которые я приводил, которые есть вещи совершенно особого рода. Я их как раз и называю вещами третьего рода. В них упаковано что то, что переживалось, не было понято или было неправильно понято и ушло в эту вещественную монструозную форму. Что происходит потом? А потом происходит, по каким-то причинам, просто спонтанно, а у Фрейда посредством определенным образом организованной и контролируемой методики, Раскалывание формы, высвобождение прошлого и понимающее его переживание. То есть другой сознательный опыт, в котором — что происходит? — в котором расцепляется предшествующее сцепление. В этом и состоит весь метод Фрейда. Как лечиться и что лечить? Лечатся вот эти монстры, имеющие патогенные следствия, но лечатся путем активного переживания нового сознательного опыта, который смог бы расцепить вот это сцепление и эту упаковку. Здесь, кстати, скрыта очень важная черта психоанализа как теории, которая отличает его от классического вида теории. А именно, что у всех классических теорий есть всегда какой-то заранее заданный объект или область объекта, которая может быть дана путем определения или перечисления как заранее готового множества. И в этом смысле теория есть картина этих объектов или этого множества, в которое, повторяю, может быть введено даже определение. Психоанализ такого объекта не имеет и это часто вызывает недоразумение, и поэтому психоаналитиков часто обвиняют в шарлатанстве, что это не наука, потому что понятия и эксперименты невоспроизводимы, т. е. самым основным свойством научного эксперимента не обладают. То есть не могут быть повторены и воспроизведены другим исследователем в другом месте и в другое время. И т. д. Но дело в том, что такие упреки всегда предполагают, что это теория в обычном смысле этого слова. Это не так. И кстати говоря это не новинка, потому что уже Людвиг Витгенштейн в свое время говорил, что (чувствуя очевидно эту особенность некоторых теоретических построений, причем, не психоаналитических вовсе, а в математике, в физике) есть такие теории, которые похожи на лестницу. Мы лестницей пользуемся, чтобы подняться, скажем, на чердак или на второй этаж, но ведь мы, когда пришли туда, куда шли, не тащим за собой лестницу. Мы ее можем отбросить. Он имел в виду, следовательно, некоторые теории, которые есть построения, посредством которых мы куда-то приходим и которые, следовательно, могут не храниться вовсе, как картина независимо от картины существующего предмета, который дан был бы как нечто готовое. Короче говоря, если мы построим определенную процедуру, которая переключит нас на какой-то другой регистр сознательного опыта и в котором произойдет то, что я говорил, скажем, расцепление вот этих вот связок, замыкание на вот эти особые вещественные психические образования, то что мне потом описывать и о чем иметь теорию? Нечего. Только есть одно, и вот здесь я впервые ввожу намек на то, что я обещал вам с самого начала, а именно на символический характер аппарата психоанализа. Действительно, самых решающих его понятий. Тогда оказывается, что понятия (и в психоанализе это именно так), относятся не к описанию предметов, прежде всего, а задают и описывают условия определенного рода работы с этими предметами. И за этим вот косвенным или символическим характером психоанализа стоит другая черта, о которой я скажу позже, и [которая] является собственно основанием этого качества или свойства психоаналитической процедуры. Что здесь скрывается за вот этой теорией, — одно свойство, [о] котором я уже говорил и которое направлено на эти особые монстры нашей психической жизни? А эти монстры живут своей, описуемой объективно жизнью, и являются одним из примеров неконтролируемых и неявных зависимостей и механизмов в нашем сознании. Почему в сознании, а не в бессознательном?
Это я объясню, зайдя в рассуждении с другого конца, чтобы пояснить одновременно и философско-онтологическую проблему, скрытую за этой проблемой сознания, вернее, этой проблемой употребления термина сознания вот в такого рода случаях. В классической науке физические процессы описываются, грубо говоря, в перспективе некоего абсолютного наблюдателя. Общеизвестно, что это так, но академик Фок это выражал следующим образом. То есть поскольку ли не философ, он имел право так говорить, а мне придется это перевести на философский язык. Он говорил так, что классической физике свойственны некоторые абсолютизации наблюдения физических процессов. Речь конечно идет об абсолютном наблюдении, допущении абсолютного наблюдения. Вот, я сейчас сразу грубо иду к психоанализу, опуская многие звенья. Ведь отдайте себе отчет. Как мы анализируем сознание? Мы всегда предполагаем, что есть, нам известны каким-то путем предметы вне этого сознания и мы сопоставляем сознание с этими предметами. Ну, простая вещь. Вот это факт, что передо мною сидит девушка, а рядом молодой человек. Есть факт: различие полов. Но в действительности, и из-за этого весь сыр-бор загорелся, что именно называть фактами, это является фактом в той перспективе, которая является внешней перспективой абсолютного наблюдения. Потому что исходным тезисом психоанализа (и сейчас я поясню, что я имею в виду, все сразу станет понятно) является следующее: невысказываемый тезис, но пронизывающий весь психоанализ и являющийся ядром всего этого дела, что различие полов не является фактом психической жизни человеческих существ. Различие полов является фактом только тогда, только в том смысле и только для того, кто узнал это различие. А факт не существует в том смысле, что ребенку нельзя передать знание. Знание ведь существует, что один ребенок мальчик, а другой — девочка. И эта разница не существует и передать знание о ней невозможно. Эти факты, все опыты наблюдения психиатрические и т. д. и другие, показывали одну очень «страшную» вещь, что разница полов, чтобы с ней жить как с фактом, должна быть сначала воображена. Вот тогда она становится фактом. Физическим фактом. То есть, что события или факты происходят одновременно не только в пространстве внешнем субъекту, а одновременно во времени смысла и понимания. Оказывается, что ребенок должен открыть для себя этот факт, который станет фактом после особой работы воображения и фантазии. Все дети, оказывается, являются, ну, не философами, а сочинителями особого рода. Без фантазмов, оказывается, нет физического факта. Или фактом является то, что получило смысл, проработалось во времени смысла и понимания. Дети сочиняют теорию происхождения. Вот, скажем, знаменитый комплекс кастрации есть отложение в психической жизни и в истории индивидуального сознания интенсивной работы, которая проделана ребенком, чтобы установить, посредством этой работы, факт тот, что у одного существа, простите меня за выражение, выпуклость, а у другого существа — впуклость, или ничего, дыра. Как это, что это?» Откуда это? И в психоанализе это обозначено, например, таким термином — «комплекс кастрации». Обычно понимают так, что дело в том, что психоанализ предполагает реально в человеческом существе некоторые позитивные качества или свойства... какие-то вещи, которые мы потом, post factum в психологическом наблюдении называем качествами или свойствами. Вот, скажем, человек скуп. Фрейд показывает, (потом это вошло даже в расхожие литературные описания, например это у Сартра в новелле, вернее, даже повесть это, «Шеф» или «Вождь», или я не знаю как она переводилась на русский) что такое скупость. Это означает, что какие-то смыслы неотъемлемые от данной психики, потребности духовные и т. д. замкнулись на отношение к деньгам и стали осуществляться и реализовываться через что то, не имеющее к ним в прямом смысле никакого отношения. Точно также Фрейд показывал, что такое галлюцинация. Бессмысленно галлюцинацию, также точно как различие полов у детей, сопоставлять с фактом. Ведь ты не можешь ребенку сказать, что ты мальчик, а это девочка. Это не имеет значения. Также как человек, у которого галлюцинация, вы не можете ему сказать, послушай: «розовых слонов» не существует, тебе кажется это. То есть методика Фрейда и философия фрейдовская выпадает из различений «истинно-ложно». В каком смысле выпадает? А просто, если видение розового слона выполняет какие-то другие смыслы, то это видение реально. В смысле, оно не может исчезнуть от указания на внешнюю в абсолютной перспективе наблюдения реальность, в которой нет розовых слонов. Чтобы иметь дело с розовыми слонами, как действительным предметом, скажем, психоаналитического лечения, нужно выявить ту реальность, в которой эти слоны существуют, как носители или замыкатели на себя каких-то других смыслов. То есть пирожное «Мадлен», которое уложило в себя цветы и запахи и краски пейзажа, никакого отношения к пирожному не имеющие. И если [розовые] слоны оказались таковыми, то вы не снимете их никакими рассуждениями, поучениями, указаниями, тыканием пальцем на реальность, свободную от розовых слонов.
Значит, вот эти вот третьи или смешанные вещи есть реальные события, которые случаются не только в физической действительности, но одновременно в пространстве и времени смысла и понимания. Следовательно, они не есть события в абсолютном смысле этого слова. Точно также как разница полов не есть абсолютный факт с точки зрения анализа такого рода вещей, о которых я только что говорил. С несообщаемостью знания мы сталкиваемся очень часто, но просто не даем себе в этом отчета. Ведь то, что я называл классической процедурой анализа, свойственной физической науке, как она и по сегодняшний день работает, предполагает существование такого пространства наблюдения, по всем точкам которого знание переносимо. Я могу всегда оказаться в другой точке, в которой кто-то наблюдал что то, и воссоздать рефлексией и т. д. процесс этого наблюдения, повторить его. Так ведь? Так. Хорошо. Ну тогда вы мне скажите: а как быть с вещами, которые таковы, что существенно важен и неустраним сам эмпирический факт их случания? Что они должны быть или не быть. Ну, скажем, вы можете сказать, имея опыт, вам, допустим, 40 лет, а тому, кому вы говорите, ему 16, и он впервые влюбляется. И вы хотите передать ему умные и опытные знания, вообще,- как себя вести в такого рода случаях. Не [передается] это знание. В ту точку, там, где человеку 16 лет, не перельется. Так же, как ребенку (я подчеркиваю сходность случая), вы не передадите знания, что он мальчик, а вот девочка, и что это значит. Нечто становится фактом, а не является фактом. Фактом просто самим по себе. То есть нечто становится фактом после актов смысла и понимания. Я ведь повторяю, вот эта вот классическая процедура предполагает, что знание передаваемо по всем пунктам, точкам пространства наблюдения. Психоанализ от этой посылки отказывается. Отказывается, по одной простой причине. И сейчас я выхожу к очень важному обстоятельству в характере психоанализа. Если мы призадумаемся, мы поймем, что не только есть проблема, что нужно, чтобы какие-то чувства были пережиты, реально, эмпирически имели место, и их нельзя заменить знаниями об этом, а это событие в мире: переживаемая любовь, эмоция, но не только эмоция — это казалось бы ничего не значит, это простая банальность, а акты понимания, например? Ведь вы поймите, и мы это прекрасно знаем, просто не задумываемся над этим, ведь понять-то ни за кого нельзя. И в этом смысле знание ведь не передаваемо. Вообще, в принципе, в обучении. Мы можем максимально детерминистически организовать процесс обучения, определить каждое звено, каждый шаг, но когда доходит до головы, куда знание должно перелиться, там будет неминуемый зазор. Ваша цепь обусловливания не дойдет до конца, потому что он должен понять. И ничего с этим не сделаешь. Он должен понять. То есть всегда предполагается некоторый дополнительный и спонтанно на собственном основании существующий акт, который все это дело сопровождает, существование которого для определенных проблем мы можем не учитывать, а для каких-то проблем не можем не учитывать. И я тогда, чтобы замкнуть сразу все эти ходы, приведу одну простую цитату, известную вам из совсем другой области. Из квантовой физики. Я имею в виду слова гениального, удивительно пластичного по образу мыслей физика — Нильса Бора, который пытаясь пояснить своим оппонентам и окружающим людям, что, собственно, за дело, что это за дополнительность и вообще все эти проблемы, и делая это в общем-то не очень то уклюже и т. д., но с большой, как мне кажется, ясностью тем не менее, (это казалось бы парадоксально, что ясность не может быть неуклюжей, а ясность как раз она самое неуклюжее явление какое только может быть, какое только есть), говорил, что в ряде случаев мы имеем дело не с объектами, над которыми мы можем ставить эксперименты, а с проявлениями действий той же самой природы, к которой принадлежит сам экспериментатор. Грубо говоря, это и есть область самого психоанализа, то есть психоанализ в своих проблемах, а именно, в проблемах созревания человеческого существа. Т. е. предметом психоанализа является детство. Это не общая психологическая теория, не тем более какая-нибудь идеология. Психоанализ имеет один единственный узкий предмет. Он имеет следующее. Он говорит: на определенном рубеже, грубо — с двух до шести-восьми лет — происходит такая-то работа. Она иногда создает таких монстров, которые имеют патогенные действия. Они уходят, эти монстры, скрываются, не видны, а патогенные действия мы наблюдаем. Мы должны иметь метод реконструкции и нахождения этих монстров. В предположении, что и почему именно они, или на них зацепились, какие-то жизненно важные смыслы, психические смыслы данного человеческого существа. И, во-вторых, и сейчас я снова возвращаю вас к Бору, то, что здесь будет происходить при анализе и при лечении (т. е. анализ и терапия неразделимы в психоанализе — не существует психоанализа вне практики, вне терапии), — это не исследования глубин бессознательного, которое лежало бы, как скрытый ящик лежит в столе, а (и это опять Бор прекрасно понимал, потому что он столкнулся с аналогичными вещами в физике, это отношение чисто структурно, методологически, а не по содержанию), мы имеем дело не с исследованием чего то, а с новым сознательным опытом. То есть не с объектом, над которым мы можем поставить эксперимент, а с проявлением действия природы, к которой принадлежит сам наблюдающий и экспериментирующий субъект. И проблема в том, чтобы заново, в новом сознательном опыте пережить то, что когда-то пережилось неадекватным или непонятным образом, ушло и уложилось в какие-то вещественные сцепления и получило какую-то самостоятельную жизнь.
Вот отсюда понятно, что эти явления, которые принадлежат к проявлениям действия природы, к которой принадлежит сам же экспериментатор, они, во-первых, их эмпирическое наличие или отсутствие, не заместимы. Они происходят внутри исследования, а не в объекте, который исследуется. Это очень важная вещь. Они внутри исследования, во-вторых, индуцируются. То есть фактически то, что называется новым сознательным опытом, есть максимальная организация такой индукции, чтобы внутри этой индукции, в какой-то точке, к которой мы не приходим непрерывным движением, также как [к] вашей голове я не могу прийти непрерывным движением, там стоит зазор, за которым вспыхивает акт понимания. Но до зазора этого можно доходить грамотно или неграмотно. Так вот, психоанализ есть организация вот такой вот индукции. Но вспыхнуть опыт должен сам. Отсюда все эти сложные проблемы взаимоотношения между пациентом и врачем, где, естественно, психоаналитик пытается организовать свое общение так, что он ведь не врач, он имеет дело не с предметом, о котором он знает то, что сам пациент-предмет не знает. Ведь физические предметы на нас не обижаются, когда мы предполагаем, а именно это мы предполагаем, и это есть собственно знание, что такое знание о физическом мире — знание о чем то, что само этого знания не имеет. Так ведь? Мы предполагаем, что пациент для психоаналитика — это открытая книга, открытая путем исследования (конечно, сама по себе любая книга закрыта, ее нужно открывать), о которой он знает, например, что в действительности думает пациент. Что в действительности хочет пациент? А пациент не знает, ни что он думает в действительности, ни что он хочет и т. д. И он, т. е. врач, производит с ним какие-то магические операции и передает фактически эти знания. Но, во-первых, оказывается, что вообще не должен быть так называемый трансфер, т. е. [должна] возникнуть ситуация реального переживания и реального общения между врачом и пациентом, совсем не врачебного, а человеческого. Ну, также как вот 16-ний человек должен реально проиграть все стадии любви и обмана. А любовь, по определению, иллюзия. Это не оценка любви, а содержание любви. В лечении это все должно совершиться. То есть врач должен занять в психике пациента определенное место, определенного существа, на которое могут быть перенесены глубочайшие привязанности, влечения и инстинкты. И все это должно быть разыг-рано в ходе психоаналитического лечения, которое может длиться годами. И, следовательно, мы имеем дело с такими ситуациями, относительно которых мы не имеем никакой заранее данной истины. Мы имеем дело с ситуациями, которые есть организация, или машины, построенные так, чтобы что-то произошло. А может и не произойти. Передаваемо ли это, коммуницируемо ли это знание? То есть обладает ли оно чертами и особенностями научного знания? Ведь, хотя в квантовой механике часто приходится иметь дело с индивидуальными явлениями (но особого рода конечно, не таким, как в психоанализе), но тем не менее индивидуальными явлениями, но то знание, которое строится о мире, тем не менее однозначно, и может быть воспроизведено и повторено другим исследователем или экспериментатором. А в случае психоанализа как? И вот этот вопрос как раз очень сложный.
Ну, с одной стороны, безусловно, это особого рода научное знание и особого рода теория. В той части, в какой понятия этой теории описывают не какой-нибудь предмет, а описывают условия работы с этим предметом, они описывают лишь косвенно. Ну, скажем так, Фрейд когда-то говорил (и это замечание прошло мимо внимания многих слушателей и многих психоаналитиков также), что: «Я, — говорил он, — никогда не говорил о комплексе Эдипа». Хотя, казалось бы, комплекс Эдипа самое основное, что есть в психоанализе. Поймите, ведь, обычно, предполагается, что вот то, о чем говорит психоанализ, есть в человеческой душе, Это, в том числе, и комплекс кастрации, и комплекс Эдипа, и т. д. Или что психоанализ имеет в виду какие-то реальные события, случившиеся в детстве. Ну, скажем, чтобы иметь комплекс Эдипа, нужно хотя бы, чтобы у тебя был отец. Так ведь? Ну, а мы знаем массу случаев, когда люди не имели отцов. Как же быть тогда? И очень часто говорят: а вот смотрите, что значит, чушь такая... потому что предполагается каждый раз, [будто] и Фрейд говорит, и психоанализ вообще говорит о свойствах людей, и о реальных событиях в их жизни. Или, например, вы знаете [что такое] «первичная сцена соблазна», это известное понятие в психоанализе. Это или взаимоотношение мальчика или девочки с взрослым членом семьи, где там дяди, тети, где возникают ситуации первичных эротических отношений, якобы попытка соблазна со стороны взрослого дяди своей племянницы. Или наблюдаемая якобы ребенком сцена полового акта между его родителями. И вот, было это или не было? Значит, можно опровергнуть психоанализ, [если действительно] Установить, что вот этого не было. Так дело в том, что ни о чем этом Психоанализ не говорит. И я снова вернусь к тому, что я сказал, подвесив половину фразы. Я сказал, [что Фрейд] говорил: «Я никогда не говорил о комплексе Эдипа». И добавлял: «Я всегда говорил только о метафоре отца». О метафоре отца. То есть он говорил, что понятие комплекса Эдипа относится к работе фантазмирования и воображения, и смысловой трансформации физических фактов, которые еще не являются физическими фактами со стороны субъекта. То ес со стороны ребенка. А и метафора к тому же еще есть вещественно? образование. Ведь мы часто чисто духовно относимся к нашему языку. Думаем, что там смысл. А что такое метафора? Метафора — это вещи, заменяющие другие вещи, метафорически заменяющие их. Я говорю лишь о метафоре отца, и оказывается совершенно не важно — был ли реальный отец у этого ребенка или нет. Точно такжсе сцена соблазна, сцена наблюдаемого полового акта — оказывается что все это структурные элементы вот этой работы психики, которая описывается в этих понятиях, и они воспроизводимы другими исследователями. Потому что каждый раз имеются в виду генеративные, а не отражающие свойства психики. Что я имею в виду. Вот Юнг тоже столкнулся с этим, и из-за этого собственно он и выработал понятие «коллективного бессознательного». Понятие довольно-таки мифологическое. Фрейд в общем остерегался такого рода вещей. Он больше все-таки придерживался ощущаемого им символического характера своего же собственного аппарата анализа. Что имелось в виду? Чтобы пояснить это, я замкну то, что я говорил перед этим простым утверждением. Те события, о которых идет речь в психоанализе, не есть события, которые произошли в индивидуальной истории. Соблазны, отец, кастрация — это все, и т. д. То есть в работе анализа мы не имеем этих событий как реальных событий, найдя которые мы потом могли что-то объяснить. Точно также, как скажем, Юнг говорил об этом в связи с анализом биографии, скажем, великих людей и великих писателей. Есть ряд событий, которые имели место в индивидуальной истории и которые имеет смысл найти, потому что они объясняют что-то. А анализ снов и т. д. говорит о том, что какие-то события явны, но они не имели места в индивидуальной истории. Так вот как раз об этом и идет речь в психоанализе. Речь идет о том, что какие-то явления, описываемые в понятиях психоанализа, имеют структурное, а не реальное происхождение в истории какого-нибудь субъекта. И, следовательно, наоборот, описание и выявление такого рода структур есть теоретическая работа вполне воспроизводимая и сообщимая. Но там есть одно все-таки в психоанализе не воспроизводимое и не сообщаемое. Может быть также как вообще не воспроизводим и не сообщаем ум. Простое понятие нашего обыденного языка, которое мы почему то забываем, когда рассуждаем о мышлении и сознании, можно описать в виде определенных структур и т. д. Ну, скажем, можно описать структуру мышления как то, есть еще, что никогда не входит в описание структуры мышления, например, логикой. Есть ум, или, как говорил Кант, способность суждения. Ум, или способность суждения. Вот все есть, но нужна способность суждения увидеть это — ум. Я не случайно это говорю, потому что я веду к следующему. Я еще один момент, последующий шаг сделаю на уровне обыденного смысла. Как вот, что вы думаете о профессии врача? Вот врачей учат, несомненно. Но я, например, весьма скептически относясь к своим умственным способностям, никогда не осмелился бы быть врачом, потому что как бы тебя не учили, сколько бы ты не знал, есть вот, нужно быть очень умным человеком в простом смысле этого слова. Решиться на это очень трудно. Такое рассуждение в общем можно продолжить на все, но зависит от того, насколько, с каким почтением, мы относимся к самой профессии. В данном случае, скажем, профессия врача вызывает у меня трепет и отдаю себе отчет, что какого ума она требует в суждениях врача, в способности суждения врача. Ну, послушайте, скажите мне, очень часто, все занимаются интерпретацией сновидений и всяких таких вещей — это действительно предмет. Но, что здесь можно, и как мы можем научиться интерпретировать сновидения? В каком-то смысле, чему-то можем научиться? Опыту. Но опыт [может] наращиваться у умного, а у глупого он как-то не очень наращивается. Так вот, какого просто ума или способности суждения требует проделывание простейшей интерпретации простейшего сна? Это чудовищно... По-моему, он как раз (это видишь, когда читаешь Фрейда), когда он сам это делал — чудо. А чудо не воспроизводимо, конечно, не передаваемо. Только нас спасает то, что чудо не случается однократно, что бывает много чудес. Ну, несколько чудес. Вот, чтобы закончить свое рассуждение (я уже много у вас времени отнял) я скажу вот о чем. Значит, пожалуй, в 50-х годах (будем условно считать) нашего века произошло известное вам, своеобразное такое — не расцвет психоанализа, потому что психоанализ в США действительно является чумой и это, не ожидая именно этой формы чумы, предвидел Фрейд. Потому что, как вы знаете, сойдя с парохода во время одного своего визита в Соединенные Штаты, и видя встречающих, он сказал, своему собеседнику, стоявшему рядом: «они не знают, что мы привезли чуму».
Так вот, действительно, одна из самых распространенных вещей, модных и т. д. в американской медицинской практике, я не говорю о психологии в данном случае. Так вот, не расцвет, конечно, но какое-то особое явление в психоанализе произошло в 50-х годах, примерно, во Франции и называется это — школой Лакана. Она причудливым образом носит такой, очень такой лингвистический характер. Так вот, я хочу сказать следующее. Независимо от оценки определенных понятий, достижений этой школы — реальных терапевтических и т. д. я должен сказать, что представители этой школы и, в частности, Лакан прежде всего правы в том, что они говорят, что это возвращение к Фрейду. Потому что это школа в действительности есть попытка довольно таки удачного восстановления Фрейда в чистом его виде. В том виде, как я его перед этим описывал. Я имею в виду не биологи-заторство, не инстинктивистов. Совершенно без всяких драматических рассуждений о том, что давать дорогу инстинктам (да здравствуют инстинкты!), или наоборот нужно давить их, без превращения психоанализа в общую психологию, потому что такие попытки делались и т. д., здесь все это срезается, и интересно, что существо, классическим существом Фрейда или фрейдизма оказывается язык. То есть языковая реальность. Ну, там есть свои преувеличения, я связываю это с заумным употреблением некоторых лингвистических методов и пр., но это действительно так. В каком смысле? В одном проком смысле.
Психоанализ имеет дело с теми явлениями, которые даны всегда в языке и никогда вне его. Или явления такие, которые даны вместе с языком их осмысления. И нет никакой точки зрения и никакого пункта, с которого мы могли бы посмотреть на предмет и его язык отдельно один от другого. Мы не можем этого сделать и найти В этом смысле как раз это и есть смешанные явления, где объект никоим образом не дан вне языка о самом себе. В принципе не может быть дан. А это вот как раз то, что я говорил вам о том, что события происходят не только во внешнем пространстве, но одновременно во времени смысла и понимания. И только в этом континууме, где и вещи и смыслы понимания вместе, можно четырехмерным его назвать или как угодно, в этом континууме и существует то, что называется фактом, явлением, событием и т. д. И не случайно, повторяю, такое вот внимание к языку и к языковым явлениям в новой разновидности психоанализа и представлено французской школой психоанализа Ну, вот пожалуй все.
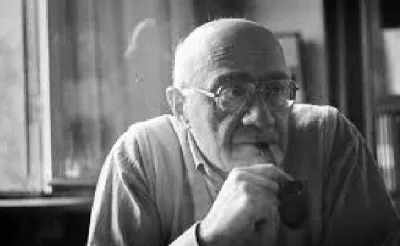

Оставить комментарий