Когда русских философов выселили в Европу, они нашли там собеседников. Одним из них был Мартин Бубер. То, что их объединяло, можно понять, читая «Проблему человека» Бубера. Бубер делит всех философов на необустроенных (проблематичных) и обустроенных (непроблематичных, не ставших сами для себя проблемой). К обустроенным Бубер относит Аристотеля, Аквината, Гегеля, а к необустроенным - Августина, Паскаля, Кьеркегора. Эти имена сами за себя говорят. Бросается в глаза, что русские философы «проблематичны», необустроены, «экзистенциальны» (если ввести еще один термин, возникший как раз тогда, после первой мировой войны). Русские философы и европейские экзистенциалисты (одним из которых был Бубер) - люди потрясенного, кризисного сознания. Не профессионалы, занятые обобщением результатов наук, а мыслящие лирики, ищущие дороги от субъективного к «транссубъективному», более реальному, чем субъективное и объективное в оторванности друг от друга. Слово «транссубъективное» принадлежит Бердяеву, но оно вполне подходит к Буберу. А стиль лирического трактата «Я и Ты» перекликается с лиризмом Бердяева, Флоренского, Шес-това. Этот стиль впервые был найден в «Записках из подполья» Достоевского.
Одна из хрестоматий «экзистенциальных» текстов начинается с «Подполья». Название этой книги - «Экзистенциализм от Достоевского до Сартра». Отказ смириться с выводами естественных наук, с миром абстрактных сущностей, доказанных как дважды два четыре, перенос акцента на конкретное существование, на внутреннее чувство тоски по целостной истине, - все эти карамазовские вопросы были открыты русской литературой до русской философии в собственном смысле слова, в стихах Тютчева, в размышлениях героев Толстого и, конечно, в кружении мысли Достоевского.
Решающим религиозным переживанием Бубера был паскалевский страх бездны пространства и времени, страх бесконечности, который в русском читателе расшевелили Тютчев, Толстой, Достоевский. Бубер впоследствии сблизил этот метафизический страх с библейским страхом Божьим - началом премудрости, то есть страхом, из которого рождается хахма, софия, премудрость, целостное чувство одухотворенности мира. «Всякая религиозная действительность, - пишет Бубер в «Затмении Бога», - начинается с того, что библейская религия называет «страх Божий», то есть с того, что бытие от рождения до смерти делается непостижимым и тревожным, с поглощением таинственным всего казавшегося надежным... Тот, кто начинает с любви, не испытав сначала страха, любит кумира, которого сотворил себе сам и которого легко любить, но не действительного Бога, первоначально страшного и непостижимого. Если же впоследствии человек, как Иов или Иван Карамазов, замечает, что Бог страшен и непостижим, он ужасается или отчаивается.., если только Бог над ним не сжалится, как над Иовом, и не приведет его к себе».
Можно спорить, действительно ли нужно всегда начинать со страха (как учит Ветхий завет) или с любви (как учит Новый). Каждый начинает, как может. Но даже совершенная любовь, изгоняющая страх, сознает этот страх, не прячется от него, не воображает, что нам, людям, дано совершенно понять Бога и легко любить его. Любить трудно, любить Бога - особенно трудно. Расхожие христианские образы доброго Боженьки и еще более милосердной Божьей матери скрывают эту трудность, и к словам Бубера стоит прислушаться. Хотя бросается в глаза, что Бубер, как и многие люди, имевшие собственный метафизический опыт, подчеркивает преимущества своего пути и заодно - преимущество иудаизма: требование молитвы без икон, прячущих потрясающую непостижимость Бога.
Эту потрясающую непостижимость бытия Бубер пережил как человек Нового времени, в категориях науки. В 14 лет он попеременно представлял себе то край пространства, то его бескрайность, и время - то имеющее начало и конец, то без начала. То и другое было одинаково невозможно и бессмысленно. Подавленный необходимостью выбора, Бубер был близок к безумию (черта, родственная героям Достоевского). Его успокоил Кант, учение о пространстве и времени как формах человеческого созерцания. Но философские транквилизаторы действовали не больше, чем всякие другие. Непостижимость мира и непостижимость Бога все вновь и вновь разрушали обустроенные образы миросозерцания, религиозного или научного. Научная картина мира мучила Бубера не меньше, чем толстовского Левина или героев Достоевского перед картиной Ганса Гольбейна. Но и традиционный образ Бога, без воли которого и волос не упадет с головы, тоже не вмешался в его сознание.
Вера Бубера, подобно вере многих героев Достоевского (и может быть, самого Достоевского) прорывалась во внезапных наитиях. Так, в 1914 году, после разговора с пастором Гехлером, верившим в пророчество Даниила, Бубер вдруг осознал: «Если верить в Бога означает способность говорить о нем в третьем лице, то я не верю в Бога. Если верить в Него означает способность говорить с Ним, то я верю в Бога». И после короткой паузы: «Бог, который дал Даниилу предвиденье (конца света. - Г.П.)... не мой Бог и вовсе не Бог. Бог, к которому Даниил взывал в своих мучениях, - это мой Бог и Бог каждого». Из этого прозрения выросло буберовское разделение мира на Отношение Я-Ты и Отношение Я-Оно. Я-Ты - общение в духе любви, диалог с Богом и с ближними - в Духе Божьем. Я-Оно примерно соответствует тому, что Маркс называл производственными отношениями, а Виктор Тэрнер - структурой. Бог не может быть мыслим в категориях Отношения Я-Оно, в категориях науки, утверждает Бубер. Вера не есть волевой акт, которым принимается некоторое суждение, подобное научному. Вера есть доверие Богу, которого мы, как Иов, не понимаем и не можем понять, но чувствуем сердцем, как во всякой любви, и беседуем с ним, как с незримым Ты. Это довольно близко к символу веры Достоевского (о Христе вне истины и истине вне Христа). Разница только в том, что Бубер подчеркивает незримость Ты, а для Достоевского Ты - зримый образ Христа.
Габриэль Марсель признавал великую важность размежевания Я-Ты с Я-Оно. Обычное деление на субъект и объект смешивает Ты и Оно в Не-Я, подчиняет отношение к Ты нормам отношения к Оно, превращает собеседника в предмет, обесчеловечивает и обезбоживает мир (или спасает Бога, затискивая его в субъективное). По словам Марселя, сосредоточенность мысли на мире как предмете, как Оно «ведет к технократическому развитию, все более гибельному для целостности человека и даже для его физического существования...». Марсель признает, что «еврейский мыслитель пошел гораздо дальше (его. - Г.П.) в освещении структурных аспектов этой фундаментальной человеческой ситуации». Бубер отчасти обязан этим немецкому языку, в котором «Я-и-Ты» и подобные сочетания могут рассматриваться как единое слово. Развивая ту же мысль по-^»ранцузски, Марсель избрал простое и ясное
противопоставление вспомогательных глаголов «быть» и «иметь» (впоследствии принятое и англоязычной культурой, особенно после работ Эриха Фромма). Виктор Тэрнер, стремясь перевести религиозно-философские идеи на язык социологии, противопоставляет «структуру» (экономические и политические связи) «коммунитас» (общению в духе). «Коммуни-«Гас» соответствует Я-Ты и поясняется цитатами из Бубера. Каждая концепция (Бубера, Марселя - Фрома и Тэрнера) имеет свои эвристические достоинства; у Бубера яснее выражена неразрывность религиозного и социального кризиса.
Анализируя этот кризис, Бубер утверждает, что истоки его уходят в становление церкви, что «затмение Бога» началось еще с апостола Павла. Такой взгляд не может быть просто отвергнут. Мандельштам писал об истории литературы как истории потерь (классического эпоса, классической трагедии и т. п). Такова же история религии. В примитивных племенных обществах каждый непосредственно переживает истины веры. Как писал Тейлор, «дикарь видит то, во что он верит, и верит в то, что он видит». В более развитых обществах это дано только немногим. В язычестве было чувство божественности природы, утраченное монотеизмом (ср. Шиллер, «Боги Греции»). Нет ничего удивительного, что переход от монотеизма избранного народа к вселенскому монотеизму тоже связан с утратами. В Павловых антиномиях Бубер видит сознание, потерявшее цельность веры, веру на пороге отчаяния, вынужденную поминутно призывать Спасителя.
Бубер остро чувствует гигантскую личность Павла, внутренний драматизм духа, потрясенного могуществом зла. Но он увлекается, приписывая исключительному характеру Павла то, что во многом было характером эпохи. Бубер подчеркивает разницу между верой - «эмуной» (иврит), беспредельным доверием Творцу, и верой - «пистис» (греч.), твердым убеждением в известных истинах (я верю, что Христос воскрес - я убежден, что Христос воскрес). Различие стилей веры не совпадает, однако, с границей между иудаизмом и христианством. В древнем Израиле вера друзей Иова, твердо знавших правила, по которым действует Бог, тоже противостояла вере Иова, не понимавшего Бога. Вера Иова в Библии поставлена выше, но от этого богословы, мыслившие, как друзья Иова, не исчезли с лица земли. По мере того как складывались убеждения, принципы, философские идеи, религия также принимала характер принципов и убеждений, делалась «верой во что-то». Безграничное доверие опиралось на чувство локтя в народе, веками доверявшем Богу Авраама, Исаака и Иакова. А мировой религии надо было захватить и убедить «детрибализован-ную», как сейчас говорят, оторванную от корней массу граждан, подданных и рабов Рима; массу, затронутую обрывками философии и потерявшую чувство Целого вселенной. Мировая религия приходит после философии и пользуется оружием, выкованным философией. Так это и в Средиземноморье, и в Индии, и в Китае.
Чувство своей беспомощности перед злом и порыв к Спасителю не раз повторялись, создавая культы Кришны и Рамы, Авалокитешвары и Майтрейи. В исламе (шиитском) есть вера в скрытого имама, и евреев, после очередной катастрофы, охватывала вера в скорый приход мессии. В конце концов, именно из этой веры и выросло христианство. Личность Павла не случайно оказалась в центре религиозного процесса. Он тем и велик, что глубже других пережил и понял свой перекресток времени и вечности.
Многое Павел только начал. Обратившись к язычникам, он увидел, что надо как-то перевести веру с языка вслушивания на язык зримых образов. Немцы называют библейский мир культурой уха, а гомеровский - культурой глаза. Грекам непременно надо было видеть Бога (хотя бы в воображении). И Павел связал незримое со зримым. Его незримый еврейский Бог явил себя в зримом Сыне, и познавая Сына, мы познаем Отца. Из этой формулы выросло тринитарное мышление, возникла икона. Дело Павла оказалось прочным - почти на две тысячи лет.
Однако сегодня здание, заложенное Павлом, в трещинах - как некогда языческий мир. Сын постепенно оттеснил Отца, икона - Бога, и эта конструкция, созданная святоотеческим и схоластическим разумом, рушится под напором разума Нового времени. Христос остается знаком христианской цивилизации, но Христос, теряющий связь с отцом. «Припасть к Сыну, отодвинувшись от Отца, - основное расположение духа Ивана Карамазова, а в романе «Бесы», припертый к стене христианин, вынужден смущенно лепетать, что хотя он верит в Христа, но в Бога - только будет верить», - пишет Бубер, не совсем точно пересказывая Достоевского. Он мог опереться на письмо (Фонвизиной, 1854), где Федор Михайлович сам признается, что предпочел бы оставаться с Христом вне истины, чем с истиной вне Христа. Это не атеизм (как у Ивана Карамазова), но какая-то новая вера, и может быть, она не так далека от веры Бубера - веры во втором лице и неверия в третьем. Обе веры парадоксальны. Оба, Достоевский и Бубер, опираясь на траяиции (иудаизма или православия), придают им новый смысл ,к Плодотворно воспринять «два образа веры» не как спор двух вероисповеданий, а иначе - как стремление, опираясь на позавчерашний день, прийти к завтрашнему, к незримому, не выраженному в слове единству всех высоких религий. Этот дух выражен у Достоевского в «Сне смешного человека», а у Бубера в «Я и Ты», где просто вынесены за скобки приметы вероисповеданий.
Есть нечто более важное, чем различия священных книг: стиль веры. Бубер утверждает стиль, органически связанный с современным умом. «Я не цадик, - пишет он в своих автобиографических заметках, - я не уверен в Боге; скорее - человек, чувствующий себя в опасности перед Богом, человек, вновь и вновь борющийся за Божий свет; вновь и вновь проваливающийся в Божьи бездны». Этот ум сознает различия вероисповеданий, но не признает их сутью веры. Рассказав о споре, кто лучше понял Христа - еврей или христианин, Бубер продолжает: «Ни один из спорящих не должен отказываться от своих убеждений, но... они приходят к чему-то, называемому союзом, вступают в царство, где закон убеждений не имеет силы». И на возражение, что «в области вероисповеданий это неприменимо», что «для того, кто готов умереть за свою веру, готов убить за нее, не может быть царства, где закон веры не имеет силы», - Бубер отвечает:
«Я не могу осуждать Лютера, отказавшегося в Марбурге поддержать Цвингли, а также Кальвина, виноватого в смерти Сервета, ибо Лютер и Кальвин верят, что слово Божие настолько проникло в души людей, что они способны признать его однозначно и толкование его должно быть единственным. Я же в это не верю, для меня слово Божие подобно падающей звезде, о пламени которой будет свидетельствовать метеорит; вспышки я не увижу, я могу говорить только о свете, но не показать камень и сказать: вот он. Но различие в вере не следует считать только субъективным. Оно основано не на том, что мы, живущие сегодня, недостаточно стойки в своей вере; это различие останется, как бы ни окрепла наша вера. Изменилась сама ситуация в мире в самом строгом смысле, точнее: изменилось отношение между Богом и человеком. И сущность этого изменения не может быть постигнута, если мыслить лишь о столь привычном нам затмении высшего света, о ночи нашего, лишенного откровения, бытия. Это - ночь ожидания, не смутной надежды, а ожидания. Мы ждем Богоявления, и нам известно только место, где оно произойдет, и это место - общность». Бубер не может сказать, и никто не может сказать, каким образом раскроется эта общность, этот дружеский диалог великих религий. Но он верит, что затмение Бога прекратится и различие букв Писания перестанет затмевать единство духа. Если кризис древности, кризис распада племенных религий кончился созданием Святого Писания и вокруг этой Главной книги строилась культура средних веков, - то нынешний кризис не может кончиться еще одной, главнейшей книгой. Невозможно стать нулее нуля, бесконечнее бесконечности. Дух всех великих религий бесконечен, и формой единства может быть только диалог, основанный на движении каждого вероисповедания и каждого верующего от буквы к духу.
«Религия как риск, готовая сама отказаться от себя, - это питающая система артерий; как система, обладающая истиной, уверенная и предоставляющая уверенность, религия, верящая в религию, - венозная кровь, останавливающаяся в своем движении. И если нет ничего, что может так исказить лицо людей, как мораль, то религия может, как ничто другое, исказить лик Божий». Так Бубер формулирует основной принцип диалога, направленного к обновлению веры.
Современное исповедание веры тяготеет к парадоксу. К этому, каждый по-своему, приходит и Бубер, и Достоевский.
Закончу двумя замечаниями. Первое: согласился бы Достоевский с моими выводами? Безусловно нет. Перо гения умнее его самого. Писателем владеют разные потоки вдохновения, и рядом со «Сном смешного человека», в соседнем выпуске «Дневника», вселенская идея с трудом пробивает себе дорогу сквозь этнические страсти в духе Шатова, да и в самом Шатове Достоевский ближе к газете «Завтра», чем ко мне, и так же отождествляет православие о русской народностью, как те, с кем спорил П.А.Флоренский (в его «Записке о православии»). Я верю в мировой религиозный процесс, создавший племенные религии, пробившийся сквозь них к религиям мировым и ныне стремящийся к торжеству подлинно вселенского духа. Я подчеркиваю те факты, которые важны в этой связи. Другой подчеркнет другие.
Второе замечание: мы никогда не сможем сказать, что знаем Достоевского. Мы только узнаём его. Ибо с каждым новым поворотом мировой культуры мы заново его видим. Я подчеркиваю то, что не повторяет ни Нестора-летописца, ни Карамзина, ни Лескова, что пробивается почти нечаянно, подсознательно или сверхсознательно. И то, что я говорю, человек другой культуры и другого века опять прочтет иначе. И подчеркнет то, чего я не заметил.
Из книги «Страстная односторонность и бесстрастие духа»
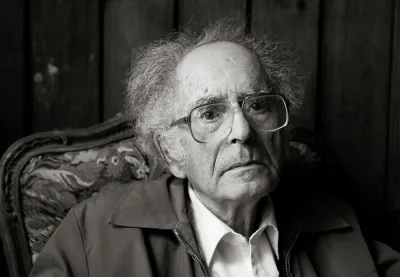

Оставить комментарий