Фрагмент сочинения «Великие философы», работу о Сократе, которая наряду с другими – о Будде, Конфуции и Иисусе – составляет первую часть труда под заглавием «Die massgebenden Menschen».
1. Биографические данные (469-399 гг. до н.э.). Отец Сократа был каменотесом, мать – повивальной бабкой. Он не был благородного происхождения, но был гражданином Афин. Ведя скромную жизнь, Сократ был материально независим благодаря небольшому наследству и полагавшемуся всем афинским гражданам пособию (театральные деньги и т.п.). Выполняя свой солдатский долг, он – в качестве гоплита – сражался под Делионом и Амфиполисом во время Пелопонесской войны. Исполняя свой политический долг, он – будучи в 406 г. председателем Совета - справедливо выступал против бесновавшейся толпы, настоятельно требовавшей смертной казни для военачальников морского сражения у Аргинусских островов. Однако он никогда не стремился занять важный государственный или военный пост. Его жена, Ксантиппа, в его жизни не играла никакой роли.
Удивительно то, что мы знаем о внешности Сократа. Он – первый философ, которого мы можем живо себе представить. Сократ был некрасив. Коренастый, с выпученными глазами, курносым носом, с пухлыми губами и толстым животом, – он напоминал силена или сатира. Благодаря отменному здоровью ему были нипочем лишения и холод.
Наше представление о Сократе относится к его старости. Всякие же сведения о его юности отсутствуют. Он вырос в могущественных, богатых, цветущих Афинах времен окончания Персидской войны. Ему было почти сорок, когда волею судьбы началась Пелопоннесская война (431 г.). Именно с этого времени Сократ становится заметной публичной фигурой. Самым ранним свидетельством является высмеивающая его комедия Аристофана «Облака» (423 г.). Он пережил упадок и катастрофу Афин (405 г.). В 70 лет демократия начала против него судебный процесс, обвиняя в безбожии. Он умер в 399 г., выпив чашу с ядом.
2. О его духовном развитии мы можем лишь догадываться. Сократ был знаком с натурфилософией Анаксагора и Архелая. Он был свидетелем расцвета софистики и усвоил ее навыки и приемы. Но ни натурфилософия, ни софистика не удовлетворяли его. От натурфилософии не было проку для человеческой души. Софистика, правда, добивалась многого своей постановкой вопросов. Но делала она это так, что либо блуждала в неком новом мнимом знании, либо вязла в отрицании значимости всякой традиции. В этом коловращении мысли Сократ не находил ни самодостаточного учения о методе, ни какого-либо нового учения.
Однажды в Сократе должен был произойти переворот. Осознав маловажность натурфилософии в решении серьезных вопросов, увидев разрушительную силу софистики, он понял, что истина заключается в чем-то ином. Сократ был захвачен сознанием своего дела, этой божественной задачей. Конечно, возвещать о нем, как это делали пророки, – не было нужды, У него была лишь задача – будучи человеком, вести поиск вместе с человеком. Неустанно вопрошать, проникая в любой уголок. Не доверять чему-либо или себе, а думать, спрашивать и проверять, обращая при этом человека к самому себе. А поскольку эта самость заключалась только в познании истинного и благого, то он сам был первым, кто, задав такое мышление, стал руководствоваться истиной.
3 Беседа. Сократический диалог сделался основополагающей реальностью подобной жизни: Сократ беседовал с ремесленниками, государственными мужами, художниками, софистами, гетерами. Его жизнь, как и многих других афинян, протекала на улице, на рынке, в гимназии, в обществе приглашенных на пир. Это была жизнь, проходившая в беседах со всеми и с каждым. Но его манера вести беседу была чем-то новым, непривычным для афинян: она волновала до глубины души, не давала покоя, захватывала. Настоящая беседа была формой жизни свободных афинян, но, став средством сократического философствования, она сделалась чем-то иным. Она по природе своей была необходима самой истине, которая лишь открывается одним индивидом другому. Для достижения ясности Сократ нуждался в людях и был убежден, что и они нуждаются в нем. И в первую очередь – юноши. Сократ хотел воспитывать.
Воспитанием он называл не случайное воздействие знающего на незнающего, а формирование среды, позволяющей людям совместно приходить к самим себе и раскрывать истину о самих себе. Юноши помогали ему, когда он хотел помочь им. Происходило следующее. В том, что казалось само собой разумеющимся, вдруг обнаруживались трудности: они приводили в смущение, принуждали мыслить, учили поиску, побуждали вновь и вновь задаваться вопросами, не уклоняясь от ответа, вели к знанию главного – той истины, которая объединяет людей. Из этого основополагающего факта после смерти Сократа выросла прозаическая поэзия диалога, мастером которого был Платон.
Сократ не выступал против всего движения софистики, как это впоследствии делал Платон. Он не создал какой-либо партии, не вел пропаганды, не выдвигал оправданий, не основал школы как института. У него не было программы государственных реформ, не было системы знания. Он обращался не к публике, не к народному собранию. В «Апологии» он говорит: «А вашим делом занимаюсь всегда, обращаясь к каждому частным образом». И обосновывает это иронически: тот, кто открыто и честно противостоит толпе, рискует своей жизнью; поэтому отстаивающему правое дело и желающему хоть сколько-нибудь задержаться в этой жизни, следует ограничиться общением с частными лицами. Нам нужно понимать это в более широком смысле. Ложность настоящего положения – независимо от того, будет ли правление демократическим, аристократическим или тираническим – преодолевается не великими политическими деяниями. Предпосылкой любого улучшения положения является то, что индивид воспитан. Между тем, воспитывает он себя таким образом, что скрытая до того субстанция человека пробуждается к действительности, – пробуждается на пути познавания, выступающего одновременно как внутреннее действие, на пути обретения знания, которое, вместе с тем, представляет собой добродетель. Кто станет настоящим человеком, тот будет и настоящим гражданином.
Но в таком случае, это зависит от индивида как такового, независимо от успеха и от его влияния в государстве. Независимость того, кто владеет самим собой (эвкратейя), подлинная свобода, возрастающая с благоразумием – вот последнее основание, на котором человек стоит перед божеством.
4. Субстанция сократической жизни. Если философия – это «учение», то Сократ – не философ. У него нет места в истории греческой философии как истории теоретических позиций. Сократ – это путь мысли, знающей о незнании. Сократу ведомы пределы доказуемого, но именно они определяют субстанцию всех вопросов, субстанцию его жизни, высвеченную светом разума.
Эта субстанция – благочестие Сократа. Во-первых, оно заключается в вере в то, что истина проявится при непрестанном вопрошании, что добросовестное осознание своего незнания свидетельствует не о ничтожестве знания, а о жизненно важном знании. Во-вторых, это благочестие заявляет о себе как вера в богов и в божественность полиса. В-третьих, оно заявляет о себе в его «демоне».
Первое. Когда Менон (в одноименном диалоге Платона) говорите Сократом о добродетели (аретэ), то, поставленный в тупик вопросами Сократа, он произносит: «Я, Сократ, еще до встречи с тобой слыхал, будто ты только то и делаешь, что сам путаешься и людей путаешь. И сейчас, по-моему, ты меня заколдовал и зачаровал и до того заговорил, что в голове у меня полная путаница... Ты очень похож и видом, и всем на плоского морского ската: он ведь всякого, кто к нему приблизится и прикоснется, приводит в оцепенение... Если бы ты стал делать то же самое в другом государстве, то тебя, чужеземца, немедля схватили бы как колдуна». На это Сократ отвечает: «Если этот самый скат, приводя в оцепенение других, и сам пребывает в оцепенении, то я на него похож, а если нет, то не похож. Ведь не то что я, путая других, сам ясно во всем разбираюсь – нет: я и сам путаюсь, и других запутываю». В сходном положении Теэтет говорит, что у него «темнеет в глазах», а Сократ отвечает, что именно это состояние «и есть начало философии»[1].
Понимание вырастает из растерянного изумления. Это было, например, показано Менону: раб, поначалу с уверенностью отвечавший на математический вопрос, оказывается в затруднении, признает свое незнание, но затем, с помощью последующих вопросов, приходит к правильному решению. По этому образцу происходит высвечивание истины в разговоре. Собеседники ее еще не знают. Но она уже здесь: оба они ходят вокруг нее и ведомы ею.
С верой в находку Сократ налаживает работу поиска. Он сравнивает такое поведение («Теэтет») с умением повитухи. Теэтет не знает ответа, полагает, что не способен найти его и не слышал его от других, однако «еще не потерял надежды». «Твои муки происходят оттого, что ты не пуст», – говорит ему Сократ, – «а скорее тяжел». И Сократ описывает свою манеру вести беседы с юношами. Подобно повитухе, он распознает беременных, своими средствами может возбуждать родовые муки или смягчать их, отличать настоящие роды от выкидыша. Так он допытывается, рождает ли мысль юноши ложный призрак или же истинный и полноценный плод. Сам он в мудрости неплоден, а потому его правильно порицали за то, что он лишь выспрашивает у других. Ибо «бог понуждает меня принимать, роды же мне воспрещает». Т.е. с кем он общается, поначалу кажутся крайне невежественными, но лишь потому, что они были освобождены от ложного знания. «По мере дальнейших посещений и они с помощью бога удивительно преуспевают... И ясно, что от меня они ничему не могут научиться, просто сами в себе они открывают много прекрасного, если, конечно, имели, и производят его на свет. Повития же этого виновники – бог и я».
Сам Сократ не дает знания, он предоставляет другим его произвести. Так человек, не обладающий подлинным знанием, приходите помощью Сократа к осознанию своего незнания и тем самым – благодаря его поддержке – оказывается в состоянии обрести такое знание в себе самом, извлекая из чудотворных глубин то, что он уже знал, но не подозревал об этом. Этим сказано: познание каждый должен найти в самом себе, ибо его нельзя передать как товар, но можно лишь пробудить. Оно является припоминанием того, что мы ведали и прежде. Таким образом, становится понятно, что, философствуя, я могу искать, не располагая знанием. Мысль софистов была такова: я могу искать только то, что я знаю: если я это знаю, то мне не требуется искать; если же не знаю, то и не могу этого искать. Напротив, философствуя, я ищу то, что уже знаю. Но я знал это, лишь бессознательно припоминая, а теперь хочу знать со всей ясностью сознания.
Поэтому вопросы, анализ, доказательства Сократа поддерживают веру в то, что в мышлении, остающемся честным, действительное с божественной помощью постигается путем собственного умозрения. К действительному ведет не ничтожная мысль, облеченная в слова, но доскональное, содержательное мышление. Отсюда и доверие
Второе. Сократ верил в традиционных богов, он совершал жертвоприношения, следовал авторитету дельфийского оракула, принимал участие в празднествах. Не делающее и не водящее, от коего получают свое содержание всякое воление и мышление, можно опустить или исключить, как это делали многие софисты. А можно им дышать и с благоговением следовать ему, чувствуя в нем основание, без которого все беспочвенно. Так делал Сократ. Отсюда невероятная, прекрасная и сознательная «наивность» Сократа, происходящая из исторически обоснованной самоочевидности, берущей начало в непостижимых глубинах бытия. Там, где собственное умозрение не приносит решения, – там слышится призыв следовать вере отцов, законам государства.
Сократ был неразрывно связан со своей родиной – государством, которым управляли Солон и Перикл, которое вело Персидские войны, государством, где с незапамятных времен возникла и впоследствии укреплялась законность, без коей его жизнь была бы невозможна. Отсюда верность Сократа законам. На процессе против стратегов, участников сражения при Аргинуссах, он отказался голосовать за их смертную казнь, поскольку это было незаконно. Он отказался в обход законов бежать из тюрьмы, поскольку законы остаются законами, даже если с их помощью творится несправедливость. Ничто не могло отвратить его от законопочитания. При правлении Тридцати тиранов ему запретили учить, демократия убила ею. Сократ не принадлежал к какой-либо партии. Но в мысли о законе, воплощенном в историческом облике афинского полиса, он был непоколебим. Обращаясь к частным лицам, Сократ считал личную ответственность непременным условием критической проверки всего перед судом истины, являющейся индивиду в его добросовестном умозрении. Он не хотел, подобно Алкивиаду, использовать государство в качестве инструмента в личном стремлении к власти, не испытывал готовности поступить во вред родине, как не хотел быть беспочвенным гражданином мира. Уехать на Сицилию, как это сделал в старости Эсхил, или в злобе на отечество удалиться, как Еврипид, в Македонию, – ему никогда бы не пришло в голову. Он знал, что всем своим существованием неразрывно связан с Афинами. В «Апологии» Платон ставит Сократа перед выбором между изгнанием и смертью, и он избирает смерть: «Хороша же в таком случае была бы моя жизнь – уйти старости лет из отечества и жить, переходя из города в город, будучи отовсюду изгоняемым». В «Критоне» Сократ присягает законам. Лишь они образуют государство, в котором у афинских граждан в законном браке родился Сократ, они позволили его отцу дать сыну воспитание и образование. Своим отказом от побега и предпочтением смерти изгнанию еще до конца судебного слушания он признал власть законов над собой. Поэтому-то он и не притязает на право оспаривать их, осознавая свою обязанность считаться с ними. Он должен подчиниться решению суда как приказу идти на войну и отдать свою жизнь. Насилие над отечеством было бы таким же бесчестием, как насилие над отцом или матерью, – при том, что произошедшее с ним сам он считал несправедливым.
Это отличает Сократа от софистов. И хотя беспощадностью критической постановки вопросов он мог показаться одним из них, он все же никогда не покидал исторической почвы, благочестиво признавал законы полиса, смысл коих прояснялся его мышлению. Сначала надлежит подтвердить основу, на которой я стою и из которой исхожу, основу, остающуюся всегда неизменной, – без нее я парю в ничто.
Этим замечателен и своеобразен Сократ: он доводит критику до крайности и постоянно живет в непосредственной близости абсолюта, именуемого истиной, благом, разумом. Эта абсолютная инстанция означает безусловную ответственность мыслящего; он ничего не знает, и он говорит о богах. Чтобы ни происходило в реальности, здесь сохраняется прочная точка опоры. Она не ускользает в бесконечной переменчивости вещей.
Но когда обрушилась беда, когда собственный полис несправедливо решил его уничтожить, он продолжает жить согласно тезису: претерпевать несправедливость лучше, чем ее творить. Сократ не восстает против своего государства, против мира и бога. Несчастье не становится для него требующим осмысления вопросом, нуждается ли бог в оправдании. Он идет на смерть, не возмущаясь и не упорствуя. Нет у него и отчаяния, порождающего теодицею с ее утешительными ответами. Он живет скорее в отрешенности, будучи независимым и убежденным в своей правоте. Ему безразлично, как распределяется в мире благополучие, ибо единственно значимой считается жизнь, протекающая согласно установленной истине, которая просветляется в мышлении. Если человеку нужны гарантии, вероисповедальное знание о Боге, о бессмертии, о конце всех вещей, то Сократ ему их не Даст. Человеческому разуму посильно лишь делать утверждения о наличии добра. Положительное незнание всякий раз указывает на ту точку, где я являюсь самим собой (поскольку я осознаю добро как истину), где только от меня зависит то, что я творю добро.
В-третьих. То, что должно творится в конкретной и неповторимой ситуации, не во всех случаях у Сократа обосновывается путем верного мышления. На помощь приходят боги. Такая помощь есть предел, за которым послушание происходит без умозрения. Сократ рассказывает о «демоне», который с детских лет в решающие мгновения говорите ним: «Это голос, который, когда он мне слышится, всегда, что бы я ни собирался делать, указывает мне отступиться, но никогда ни к чему меня не побуждает». Этот голос, например, всякий раз, как он желал ввязаться в политику, препятствовал ему. Что касается учеников, оставлявших его, а потом вновь искавших связи с ним, то демон запрещал ему поддерживать общение с одними, а с другими – нет. Молчание голоса во время судебного процесса было для него и удивительным, и ободряющим: «В течение всего прошлого времени обычный для меня вещий голос слышался мне постоянно и останавливал меня в самых неважных случаях, когда я намеревался сделать что-нибудь не так; а вот теперь, как вы сами видите, со мною случилось то, что может показаться величайшим из зол, по крайней мере, так принято думать; тем не менее, божественное знамение не остановило меня ни утром, когда я выходил из дому, ни в то время, кода я входил в суд, ни во время всей речи, что бы я ни хотел сказать... быть этого не может, чтобы не остановило меня обычное знамение, если бы то, что я намерен был сделать, не было благом» («Апология»). «О моем собственном случае – божественном знамении – не стоит и упоминать: такого, пожалуй, ни с кем раньше не бывало» («Государство»).
Голос не приносит никакого познания. Он не побуждает ни к какому определенному действию. Он только говорит: «Нет». Причем не вообще, но применительно к данной ситуации. Он мешает осуществиться разговору, поступку, которые приводят к беде. И Сократ неосознанно следует лому воспрещающему голосу. Голос не представляет собой некой объективной инстанции, он непередаваем. Он относится только к поступкам самго Сократа и никого другого. Сократ не может сослаться на него для оправдания, он может лишь намекнуть на него.
5. Судебный процесс. Жизнь Сократа не была драматичной за исключением ее копна. Судебный процесс с обвинением в безбожии привел к смертному приговору. Исход этот был не случаен, он имел долгую предысторию. В «Облаках» Аристофана (423 г. до н.э.) изображен некий Сократ, занимающийся натурфилософией, имеющий дело с небесными и подземными явлениями, отвергающий традиционных богов и водворяющий на их место воздух и облака, обучающий искусству добиваться успеха даже в делах недостойных и берущий плату за свои уроки. Известный нам Сократ делал ровно противоположное. Впоследствии обвинения приумножались: Сократ соблазнял к праздности, прибегал к толкованиям поэтов, дабы обосновать преступное учение, держал подле себя учеников, в числе которых были такие враги народа, как Алкивиад и Критий. Столь далекая от истины картина имела свою причину: молодой Сократ действительно был хорошо знаком с натурфилософией и софистикой, но, прежде всего, он слыл представителем нового философского движения, против которого был настроен народ. Народ спутал преодолевавшего софистику Сократа с самой софистикой. Способ ее преодоления с помощью нового этоса мышления был нестерпим. Сократ непрестанно вопрошал, он принуждал людей решать основополагающие вопросы, не давая своих ответов. Замешательство, сознание собственной зависимости от его требований вызывали недовольство и ненависть. Ксенофонт приводит реакцию Гиппия: «Ты всегда хочешь только у других все выведать и своими вопросами поставить всех в тупик, сам же никогда не даешь ответа и ни о чем не разглашаешь своего мнения. У меня нет охоты позволять тебе потешаться надо мной». Таким образом, в 399 г. Сократ был обвинен в следующем: он нарушает законы, ибо не верит в богов своего отечества, почитает веру как некий новый род демонического, совращает молодежь.
На протяжении десятилетий Сократ явно игнорировал эти обвинения. Он не оставил сочинений, в которых защищал бы свою философию. Он вообще не написал ни единого слова. Не стал благородным отшельником, не общался в узком кругу некой школы, а постоянно посреди улицы будоражил общественность своими разговорами. Даже заводя беседу лишь с частными лицами, он все равно не давал покоя афинянам.
Вершиной защиты Сократа является то место, где он говорит, что сам бог наказал ему посвятить свою жизнь проверке самого себя и других. «А делать это, говорю я, поручено мне богом и через прорицания, и в сновидениях, вообще всякими способами, какими когда-либо еще обнаруживалось божественное определение и поручалось человеку делать что-нибудь». Он принял этот наказ, а потому твердо стоял на своем вплоть до смерти, несмотря на все опасности. «Желать вам всякого добра – я желаю, о мужи афиняне, и люблю вас, а слушаться буду скорее бога, чем вас, и пока есть во мне дыхание и способность, не перестану философствовать, уговаривать и убеждать всякого из вас, кого только встречу, говоря то самое, что обыкновенно говорю: о лучший из мужей, гражданин города Афин,... не стыдно ли тебе, что ты заботишься о деньгах, чтобы их у тебя было как можно больше, о славе и о почестях, а о разумности, об истине и о душе своей, чтобы она была как можно лучше, не заботишься и не помышляешь?».
От защиты он переходит к атаке на судей: «Будьте уверены, что если вы меня такого, как я есть, убьете, то вы больше повредите себе, нежели мне». Разумеется, они могут его убить, изгнать из отечества, лишить всех прав. «Подобное считается великим злом, а я не считаю; гораздо же скорее считаю я злом именно то, что теперь делают, замышляя несправедливо осудить человека на смерть». Приговорив его к смерти, афиняне сами погрешат против бога, проглядев посланный им вместе с Сократом дар: «В самом деле, если вы меня убьете, то вам нелегко будет найти еще одного такого человека, который, смешно сказать, приставлен к городу как овод к лошади, ... который целый день, не переставая, всюду садится и каждого из вас будит, уговаривает, упрекает... Но очень может статься, что вы, как люди, которых будят во время сна, ударите меня и с легкостью убьете... И тогда всю остальную жизнь проведете во сне». Однако же умолять со слезами судей – как это часто бывает – и неприлично, и неправильно, и неблагочестиво. «Ведь судья посажен не для того, чтобы миловать по произволу, но для того, чтобы творить суд; и присягал он не в том, что будет миловать, кого захочет, но в том, что его будут судить по законам».
Смерть Сократа сформировала его образ и определила его влияние. Он стал мучеником философии. Но судебное убийство афинской демократией величайшего из ее граждан тоже вызывает вопрос: Сократ мог без труда спастись с помощью надлежащей защиты. Он заносчиво насмехался над судьями, упрямо не желая отстаивать свою позицию. И отверг протягиваемую ему руку: пошел на казнь, не воспользовавшись легкой возможностью бегства. Он не выказал ни малейшей готовности приладиться к неписаным договоренностям своего полиса. Сократ поспособствовал собственной смерти, он ее пожелал; это было не судебное убийство, а судебное самоубийство. Такое мнение, признающее виновным убиенного вместо убийц, недооценивает того, что для Сократа божественное призвание содействовать правде было несовместимо с приспособлением к вошедшей в обычай неправде. Он был подлинным мучеником, то есть свидетелем истины.
Приведенные аргументы не в пользу тезиса о судебной расправе, однако, заслуживают внимания применительно не к Сократу, а к читателям «Апологии». Защита Сократа – как и все, связанное с ним – подвержена опасности быть не понятой нами, людьми другого времени. Такая защита осмысленна только с учетом философствования Сократа. Будучи понятой абстрактно, она ведет читателя к неверному представлению, вызывая возмущение, несогласие, придавая мнимое утешение. Вместо того, чтобы вникнуть в позицию Сократа, читатель, невольно воспринимая его как гордеца, сам становится высокомерен. Он радуется оскорблениям, отпускаемым по адресу публики и судьи. Он ошибается, выводя из апологии Сократа общие правила и составляя абстрактный образец. Лишь тот, кто мыслит сократически, способен без всякой фальши действовать и умирать, как Сократ. Уже Платон поступал не как Сократ.
Иная точка зрения была впервые обоснована Гегелем: Афины были правы, ибо отстаивали свою сущность; Сократ был прав, поскольку он возвещал новую эпоху, которая предполагала разрушение этой сущности. Подобная абсолютизация истории и подобная эстетическая объективация трагического конфликта кажутся совершенно несоразмерными явлению Сократа. Мощная трансформация духа эпохи не означает абсолютной правоты всякого века и не принимает различные правды. Каждая эпоха несет в себе значимое для людей, пока они явлены именно как люди. Содеянное будет предано высшему суду, как предано тому или иному историческому восприятию. Истинное и благое, равно как ложное и низкое, не могут скрываться пол маской трагического.
Примирение с казнью Сократа возможно только благодаря его собственному примирению. Он умер, не противясь приговору и никого не обвиняя: «Я сам не очень-то пеняю на тех, кто приговорил меня к наказанию, и на моих обвинителей» – таково было его последнее слово. Он был убежден в том, что с порядочным человеком не бывает ничего дурного, что боги не оставят его дело.
Однако его предпоследнее слово было таково: «И вот я утверждаю, о мужи, меня убившие, что тотчас за моей смертью придет на вас мщение, которое будет много тяжелее той смерти, на которую вы меня осудили... Больше будет у вас обличителей – тех. которых я до сих пор сдерживал и которых вы не замечали, и они будут тем невыносимее, чем они моложе... В самом деле, если вы думаете, что, убивая людей, вы удержите их от порицания вас за то, что живете неправильно, то вы заблуждаетесь».
6. Платоновское преображение Сократа. Портрет Сократа, изображенный в диалогах Платона, не является пересказом в плане передачи исторической реальности сцен, бесед и суждений. Но если это не пересказ, то все же и не литературный вымысел. Сочиненное Платоном было создано в духе самой действительности – действительности таинственной и несравненной личности мыслителя. Этот образ передан нам всей совокупностью дополняющих друг друга диалогов. И если в растянутых по времени написания диалогах все же можно различить обособленные образы (подобно тому, как позднее это делали применительно к скульптурным изображениям), то все они предстают лишь как видоизменения некоего единства. Это многогранное целое и есть сама преображенная реальность. Бессмысленно задаваться вопросом об историко-филологической реальности, отыскивая фактичность по масштабу фотографии и звуковой записи. Тому, кто отвергает историческую реальность, не нужны никакие свидетельства. Чтобы увидеть и передать явь о Сократе, нужен был Платон. Мы можем увидеть Сократа глазами Платона: перед смертью («Апология». «Критон», «Федон») и в жизни («Пир», «Федр»).
Смерть Сократа дает нам образ светлой отрешенности в неведении, полном невыразимой уверенности.
Незнание есть начало и конец всякой речи о смерти. Сократ размышляет: страшащиеся смерти воображают, будто знают нечто о том, о чем не знает никто. Быть может, смерть – это великое счастье, а они боятся ее, словно величайшего несчастья. Остается взвесить возможности: либо смерть погружает в небытие без ощущений чего бы то ни было, как сон без сновидений; все время тогда не покажется дольше ночи крепкого сна. Или же смерть есть переселение души в другое место, где пребывают все умершие, где честный судья говорит правду, где встречаются несправедливо приговоренные к смерти, где жизнь протекает в обсуждении и поиске мудреца и где беседа с наилучшими из людей считается несказанным блаженством. Во всяком случае, смерть не сделает хорошего человека злым.
Перед тем, как выпить чашу с ядом, Сократ хочет убедить своих друзей, что нынешнюю свою участь он вовсе не считает бедою. Оплакивающим его он напоминает легенду о предсмертной песне лебедей: «Вам, верно, кажется, что даром прорицания я уступаю лебедям, которые, как почуют близкую смерть, заводят песнь такую громкую и прекрасную, какой никогда еще не певали: они ликуют оттого, что скоро отойдут к богу, которому служат... Но я и себя, вместе с лебедями, считаю рабом того же господина и служителем того же бога, я верю, что и меня мой владыка наделил даром пророчества не хуже, чем лебедей, и не сильнее, чем они, горюю, расставаясь с жизнью».
Когда Сократ развивает доказательства бессмертия, то основанием его спокойствия кажется убежденность в бессмертии души, «которое – вне всякого сомнения». Однако эта безусловность бессмертия такова, что допускает право на сомнение и разумное изыскание истины. «Аргументы» при этом удостоверяют задним числом, рационально эта уверенность не обоснована. Сократ говорит скорее о «решимости» жить этой жизнью, полагаясь на бессмертие. Ведь вера в бессмертие оправданна, а «такая решимость и достойна, и прекрасна – с ее помощью мы словно зачаровываем самих себя». Но чтобы любую уверенность не представляли как настоящее знание, Сократ возвращает нас к прежнему шутливому умонастроению: «Если то, что я утверждаю, окажется истиной, хорошо, что я держусь такого убеждения, а если для умершего нет уже ничего, я хотя бы не буду докучать присутствующим своими жалобами в эти предсмертные часы и. наконец, глупая моя выдумка тоже не сохранится среди живых».
Критон спросил Сократа, как его похоронить. ««Как угодно», – отвечал Сократ, – «если, конечно, сумеете меня схватить, и я не убегу от вас». Он тихо засмеялся и, обернувшись к нам, продолжал: «Никак мне, друзья, не убедить Критона, что я – это тот, кого он вскорости увидит мертвым, и вот спрашивает, как меня хоронить!.. Так не теряй мужества и говори, что хоронишь мое тело, а хорони, как тебе заблагорассудится и как, по твоему мнению, требует обычай».
Настроение друзей Сократа в эти его предсмертные часы являет странное смешение отчаяния и окрыленности. В слезах и в непостижимой радости они возносятся к таинственной реальности.
Для Сократа в смерти нет ничего трагического. «Вы, Симмий, Кебет и все остальные, тоже отправитесь этим путем, каждый в свой час, а меня уже нынче «призывает судьба» – так, вероятно выразился бы какой-нибудь герой из трагедии». Иными словами, время смерти стало ему безразлично. Сократ стоит над временем.
Он запрещает друзьям оплакивать его: «...Умирать должно в благоговейном молчании. Тише, сдержите себя!» Сократ стремится к общению в спокойном поиске истины – плач не связует людей. Он ласково удаляет Ксантиппу, ее причитания ему досаждают. Душа возвышается в мысли – пока даровано мыслить, – а не в необдуманном подчинении скорби. Конечно, печаль охватывает нас, людей, пока мы живы, и мы жалуемся и скорбим. Но пол конец причитания должны смолкнуть, освободив место покойному приятию своей судьбы. Этим Сократ подает благородный пример: там, где кажется уместной скорбь, там появляется умиротворенный покой, открывающий нам душу. Смерть теряет свое значение. Она не сокрыта более, но подлинная жить и не является жизнью для смерти – это жизнь для блага.
В последние мгновения, уже, казалось бы, отрешившись от жизни, Сократ обращает внимание на каждую мелочь человеческой реальности, вроде обходительности тюремщика. Он подумал и об омовении: «...Я думаю, лучше выпить яд после мытья и избавить женщин от лишних хлопот – не надо будет обмывать мертвое тело»,
Под шутки и внимание к практическим делам улетучивается всякий пафос. Как первые, так и второе являют собой знаки умиротворенности. У Демокрита умиротворенность поверхностна, ибо для достижения душевного покоя достаточно жить умеренно и браться лишь за то, что в наших силах. Она лишена тех внутренних борений, которые некогда принесли Сократу куда более глубокую и мудрую умиротворенность. Сократ свободен потому, что в незнании ему открывалась уверенность в той цели, ради которой он прожил всю свою жизнь, а теперь должен был умереть.
«Федон», «Апология», «Критон» принадлежат к немногим бесценным документам человечества. На протяжении всей античности философски мыслившие люди читали их и учились умирать с миром, принимая свою судьбу, сколь бы жестокой и несправедливой она ни была.
Но сдержанный покой обманчив. Когда мы читаем эти тексты, они захватывают само наше мышление. Притязания здесь лишены фанатизма, высшие устремления не подпираются морализаторством, и открыты мы одному лишь безусловному. Пока человек не достиг безусловного, он должен неотступно его искать, достигнув же, может спокойно жить и умирать.
Несмотря на то, что при жизни Сократ у Платона обрисован вполне отчетливо, образ ею остается таинственным, причем даже тогда, когда речь идет о его физической природе. Железное здоровье позволяет ему претерпевать и лишения, и излишества. Ночь напролет он пьет вино и ведет серьезную философскую дискуссию с Аристофаном и Агафоном. Когда же оба собеседника засыпают, он встает и уходит. «Придя в Ликей и умывшись. Сократ провел остальную часть дня обычным образом, а к вечеру отправился домой отдохнуть». Но иной раз он ведет себя странно: задумывается и, погрузившись в своп мысли, застывает на месте. Так он стоял целую ночь, «до рассвета и до восхода Солнца, а потом, помолившись Солнцу, ушел». Он уродлив как силен и все же чарующе привлекателен. Странный (atopos), непостижимый, он не сводим ни к какой норме. И слова его, и поступки всегда кажутся многозначными.
В «Пире» описание Сократа Платон вкладывает в уста Алкивиада, благородного юноши, которому вино развязало язык. Влекомый непонятной ему любовью, этот не сохранивший верности Сократу юноша говорит о нем так:
«Более всего, по-моему, он похож на тех силенов, какие бывают в мастерских ваятелей и которых художники изображают с какой-нибудь дудкой или флейтой в руках. Если раскрыть такого силена, то внутри у него оказываются изваяния богов... Слушая тебя или твои речи,… все мы... бываем потрясены и увлечены.
Что касается меня, друзья, то я, если бы не боялся показаться вам совсем пьяным, под клятвой рассказал бы вам, что я испытывал, да и теперь испытываю от его речей. Когда я слушаю его, сердце у меня бьется гораздо сильнее, чем у беснующихся корибантов, а из глаз моих от его речей льются слезы... Слушая Перикла и других превосходных ораторов, я находил, что они хорошо говорят, но ничего подобного не испытывал, душа у меня не приходила в смятение, негодуя на рабскую мою жизнь... Да я и сейчас отлично знаю, что стоит мне начать его слушать, как я не выдержу и впаду в такое же состояние. Ведь он заставит меня признать, что при всех моих недостатках я пренебрегаю самим собою и занимаюсь делами афинян. Поэтому я нарочно не слушаю его и пускаюсь от него, как от сирен, наутек, иначе я до самой старости не отойду от него. И только перед ним одним испытываю я то, чего вот уж никто бы за мною не заподозрил, – чувство стыда... И порою мне даже хочется, чтобы его вообще не стало на свете, хотя, с другой стороны, отлично знаю, что, случись это, я горевал бы гораздо больше... Поверьте, никто из вас не знает его, но я, раз уж начал, покажу вам, каков он.
Вы видите, что Сократ любит красивых, всегда норовит побыть с ними, восхищается ими, и в то же время ничего-де ему не известно и ни в чем он не смыслит. Не похож ли он этим на силена? Похож и еще как! Ведь он только напускает на себя такой вид, поэтому он и похож на полое изваяние силена. А если его раскрыть, сколько рассудительности, дорогие сотрапезники, найдете вы у него внутри! Да будет вам известно, что ему совершенно неважно, красив человек или нет (вы даже не представляете себе, до какой степени это безразлично ему), богат ли и обладает ли каким-нибудь другим преимуществом, которое превозносит толпа. Все эти ценности он ни во что не ставит, считая, что и мы сами – ничто, но он этого не говорит, нет, он всю свою жизнь морочит людей притворным самоуничижением.
Не знаю, доводилось ли кому-нибудь видеть таящиеся в нем изваяния, когда он раскрывался по-настоящему, а мне как-то раз довелось, и они показались мне такими божественными, золотыми, прекрасными и удивительными...».
Ксенофонт рисует далекий от этого и куда более простой портрет, но по существу между ними нет противоречия. Ксенофонт замечает детали, Платон – глубину. Ксенофонт показывает морального человека, который обходится без ригоризма, ибо терпим и знает людей. Платон видит человечность неисчерпаемой натуры, а тем самым и нечто большее, чем одну натуру. Ксенофонт фиксирует частности и отдельные мысли, он видит упорного, здравого и разумного человека; он готов столь же разумно судить о Сократе и попытаться найти у него недостатки, только таковых не находит. Платон подбирается к самой сути Сократа, но она выразима лишь метафорически; там, где перед лицом чего-либо необычайного рассудок приближается к своему пределу, в ход идут символы. Ксенофонт хорошо осведомлен, он представляет Сократа по собранным им данным. Платон же увлечен им: Сократ вызвал в его душе волнение, дававшее себя знать всю ею последующую жизнь, что и составляет сократовскую действительность и истину. Ксенофонт изображает довольно педантичного рационалиста, помышляющего о полезном; Платон – его направляемое эросом мышление, причастное свету совершенного блага. И для Платона, и для Ксенофонта Сократ человечен: оба они не обожествляют его. Но у Ксенофонта этот человек со своей истиной есть разумное и моральное существо, которое может быть понято от начала и до конца; у Платона же – существо, вешающее из неисчерпаемой глубины, порожденное неведомым истоком и живущее ради непостижимой цели.
7. Влияние. Смерть Сократа выявила влияние его философии. Ужасное событие побудило круг его друзей говорить о нем, свидетельствовать о его невиновности, философствовать в духе Сократа. Так родилась сократическая литература, величайшим представителем которой был Платон. Предсказание Сократа сбылось: его друзья не давали покоя афинянам. Не оставив ни сочинений, ни учения, ни, тем более, системы, Сократ задал мощное движение греческой философии. Оно продолжается и поныне.
Однако замечательно то, что в своих учениках Сократ отразился по-разному. Возникает не одна, а множество школ. Все ссылаются на него как на источник; реализуется идейный мир противоречивых возможностей. Сама фигура Сократа становится разнообразной. Общим остается лишь одно: все, соприкоснувшись с Сократом, стали иными. Такое многообразие, заявившее о себе сразу после его смерти, никогда не исчезало впоследствии; этим объясняются и нынешние разногласия относительно исторически реального Сократа.
Начальным пунктом всего этого многообразия является мышление. Испытавшие влияние Сократа стали иными людьми именно под воздействием мысли. Мышление открывает нам наши высшие возможности, но оно же способно завести и тупик. Мышление истинно, лишь когда в нем заложено то, что посредством мышления становится очевидным, но оказывается большим, чем мысль. Платон называет это благом, вечным бытием; однако в этом случае мы имеем дело с чудесным платоновским истолкованием Сократа. В Сократе мышление проявилось с наивысшими притязаниями и с наивысшим риском Общение с ним побуждало мыслить – таков опыт всех сократиков. Но сразу после его смерти способ мышления начинает пониматься ими по-разному. Все они думали, что обладают сократическим мышлением, но располагал ли им хоть один из них? Не в этом ли кроется сила не прекращавшегося, а временами непомерно возраставшего воздействия, так и не достигшего цели?
Нам известны сократические школы. Даже при простом их упорядочивании Ксенофонтом выявляются различные способы мышления. Представители мегарской школы (Евклид) развивали логику и эристику, обнаружили значимые парадоксы («Лжец»); один из них, Диодор Крон, подметил странности мыслей о возможном. Элидо-эретрийская школа (Федон) вела диалектические исследования. Киники (Антисфен) избрали путь самодостаточности и внутренней независимости, отрицания образования и культуры. Их наследником был Диоген из Синопа. Киренаики развивали систему этики, опирающуюся на идеи о природе и наслаждении («гедонизм»). Платон – благодаря широте и глубине своих взглядов, а также своей способности к идейному развитию – в противовес всем однобокостям восприятия сократического способа философствования, сумел направить этот мощный поток в будущее, не давая застрять в одном из тупиков. Но ни одно из этих философских учений не есть философия Сократа. Все они должны расцениваться как возможности его мышления, что и нашло отражение в их многообразии.
Впоследствии было иначе. Образы Сократа вполне соответствовали действительности, насквозь просвечивавшей в них. Поэтому многие, если не все, античные философы, несмотря на их взаимную неприязнь, видели в Сократе воплощение идеала философов. Таковым он и оставался на протяжении столетий.
Для отцов церкви Сократ значил больше, чем его высокое имя. Они видели в нем предшественника христианских мучеников. Как и те, он умер за свои убеждения, подобно им был обвинен в предательстве традиционных религиозных представлений. Более того. Сократ упоминался наряду с Христом. Сократ и Христос вместе противостоят греческой религии (Юстин). «Есть один лишь Сократ» (Татиан). И Ориген усматривает общее между Сократом и Иисусом. Сократическое познание через незнание подготавливает к вере (Феодорит).
Самопознание Сократа есть путь к познанию Бога. Сократ видел, что человек может приблизиться к божественному, лишь обладая чистой, незапятнанной земными страстями душой. Он признавался в собственном незнании. Но так как его беседы не вносили ясность о высшем благе, так как повсюду он лишь возбуждал интерес, утверждая нечто и вновь его опровергая, то всякий заимствовал у него то, что ему подходило (Августин).
Пока первые века христианства жили в тени античности, они не теряли связи с Сократом. В Средние века его имя утратило свой блеск. Время от времени о нем вспоминают: Иегуда Галеви видел в Сократе представителя самой совершенной человеческой мудрости, каковая, однако, не дает нам доступа к божеству. С приходом Ренессанса и возрождением независимой философии происходит и возврат к жизни Сократа. Эразм смог написать: SancteSocrates, orepronobis. Для Монтеня сократическое мышление означало скептицизм и естественность, предполагавшие, прежде всего, умение умирать достойно. Во времена Просвещения Сократ слыл вольнодумцем, борцом за нравственную свободу. Для Мендельсона он был человеком, обладавшим моральным величием, доказавшим существование Бога и бессмертие души (Федон). Но это было лишь начало. Первым, кто в Новое время увидел исконного Сократа, кто предложил глубоко продуманную трактовку его иронии и его маевтики, кто расценил его беседы как повод к изысканию истины, а не простую ее передачу, – был Кьеркегор. Ницше усмотрел в Сократе большого противника трагизма эллинства, интеллектуалиста и основоположника науки, проклятие эллинства. На протяжении всей своей жизни он боролся с Сократом: «Сократ так близок мне, что я почти всегда борюсь с ним». То, как творил Сократ, несомненно проявилось в будущем философии.
Глядя ретроспективно, можно сказать, что Сократ, с его известной и вовсе неизвестной действительностью, был тем, кому люди и даже целые эпохи приписывали свои собственные устремления: в нем видели и смиренного, богобоязненного христианина, и уверенного в себе рационалиста, и демонического гения, и пророка человечности, порой – даже политического заговорщика, скрывавшего под маской философа свой план захвата власти. Но он не был никем из них.
Нечто новое требовало современных филологических исследований. Со времен Шлейермахера ученые работали над образом Сократа, задаваясь вопросом: что мы знаем о нем, исходя из исторических источников? Применяя методы исторической критики, они попытались представить образ Сократа очищенным от вымыслов и легенд.
Однако отнюдь не удивительно, что результат исследований не пал единодушно признанного научного образа Сократа, а предоставил множество таковых, порой противоречащих друг другу. Скорее он поставил вопрос, возможно ли вообще составить исторический портрет Сократа? Попытки соединения критических реконструкций оказались тщетны. Реконструкция всякий раз подтверждает или отвергает свидетельства Платона, Ксенофонта, Аристофана или Аристотеля, относимые к первоисточниками. Самый радикальный вывод сделал Гигон: так как о Сократе нет исторического повествования, а есть лишь вымысел; так как сам Сократ ничего не написал, то реконструкция его философии невозможна. Он объявляет, что не стоит очаровываться загадкой Сократа. Правда, им признается, что выбор Аристофаном именно Сократа в качестве представителя злокозненной философии, сдобренной естествознанием, просветительством и софистикой, был вовсе не случаен; что именно Сократа, а не какого-то другого софиста, казнили в 399 г.; что именно он, – учитывая объем посвященной ему литературы, – должен был оставаться образцом философа. Но почему это произошло, пишет Гигон, мы не знаем. Мы должны отказаться от исторического образа Сократа.
Зато делались попытки критического соединения интерпретаций, более или менее соответствовавшие формулировке Шлейермахера: «Кем еще мог быть Сократ, кроме того, каким представляет его Ксенофонт, старавшийся воспроизвести все-таки без противоречий черты его характера и жизненные максимы, которые он однозначно определяет как сократические? И кем он должен был быть, чтобы у Платона было основание и право, вводя Сократа в свои диалоги, изобразить его таким, каким мы знаем?» Но ученые, настаивающие – в надежде получить исторического Сократа – на сравнении и совмещении его образов, вынуждены полагаться на свое «историческое чутье».
Если науке присуща такая отличительная черта, как принудительность, то в данном случае наука либо не дает ничего в качестве результата, исполняя роль собирательницы topoi и анекдотов, имевших место, и перенося их на Сократа, либо противоречит собственной научности, притязая на открытие большего, чем позволяют критические методы, и тогда в результате мы имеем множество несовместимых образов, каждый из которых считается итогом применения критики. Однако такой результат никак нельзя назвать научным.
Тогда Сократ оказывается то предтечей платоновской философии, открывателем способа образования общих понятий (Целлер, вслед за Аристотелем); то не философом вовсе, а революционером в морали, пророком, творцом этоса самообладания и самодостаточности, человеческого самоосвобождения (Генрих Майер); то персонажем платоновских диалогов, создателем теории идей, учения о бессмертии, идеального государства, а все то, что сообщает о нем Платон, признается исторической истиной (Вернет, Тейлор). В противоположность всем этим точкам зрения, Вернер Иегер указывает на разумный методический подход к этому вопросу: в Сократе есть нечто от всего вышеназванного, что способствовало появлению подобных мыслей и писаний по его поводу, но следует ввести определенные ограничения (в особенности, ему не должны приписываться философские доктрины поздних диалогов Платона, начиная с теории идей). Исходить следует из огромного влияния, оказанного Сократом, относительно которого у нас имеются прямые свидетельства. Тем самым Иегер, опираясь на действительные факты, с полным правом выходит за границы филологии, поскольку она – как наука – ведет доказательство принудительно.
Перевод с немецкого О. В. Головой
Перевод сделан по изданию: «Karl Jaspers. Die grossen Philosopher».
Band 1: Die massgebenden Menschen. München. R.Piper&Co Verlag. 1964.
Источники: Платон (прежде всего «Апология», «Критон», «Федон», «Пир», «Федр», «Теэтет», а также ранние диалоги). Ксенофонт («Меморабилии», «Пир», «Апология»), Аристофан («Облака»), Аристотель («Метафизика»).
Литература: Иво Брунс – Издание Мейера (Meyer, IV, 427 ff., 435 ff.) – Генрих Майер – Штемпель – Вернер Йегер – Гигон.
Примечания:
[1] Цитаты из диалогов Платона приведены по изданию: Платон, Собрание сочинений в четырех томах, М., 1990. Цитаты из «Апологии (защиты) Сократа на суде» Ксенофонта – по изданию Суд над Сократом. Спарник исторических свидетельств, СПб., 1997. Цитаты из непереведенных работ Ксенофонта – по тексту Ясперса.
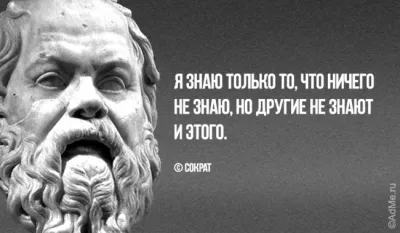

Оставить комментарий