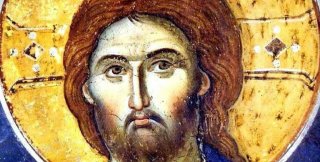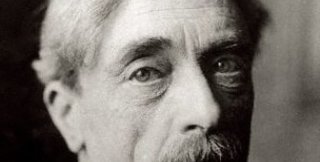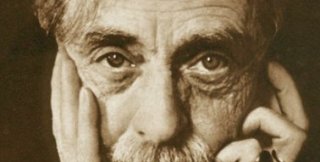Дневник
«Малое существо»... Живое существо... Как каждая клетка Единого тела, оно священно. Оно неразрывно с Великим существом, включающим его в себя, но оно само включать в себя Всё не может. Оно — часть Всего, но охватить сознанием и объять сердцем Все — это не его задача. Тайное, смутное чувство единства живёт где-то в темноте, в «корнях». Там, в утробной тьме, говорит Громадное. Но на свету, в глазах — Оно ещё зверю не по силам. Он «тяготится Лицом».
А мы?
Звери нашей души смущены,
но ещё не готовы на ничто.
На ничто? — Да, на уничтожение в сознании нашем отдельности. На то, чтобы грани, черты (лица) не отделяли от мира, не отмечали бы ничего своего, только своего. Никаких отметин, как на море или на небе. Но тогда такое «готовое на ничто» лицо включает в себя Все, становится лицом Всего. Оно собирает и завершает мир.
Но пока человек не стал лицом мира, у него есть своё собственное обличье, не так уж сильно отличающееся от звериного. Когда-нибудь, когда оно станет лицом всей природы, в том числе и звериной, как бы соберутся члены единого Тела. И тогда прозвучит некое Слово. Это будет слово всех бессловесных, голос всех молчащих. И зверь займёт своё место в обшей гармонии. Человек вовсе не властелин, а брат зверя. Во внутреннем царстве никто не властвует и не подавляет другого своим превосходством. Там есть только радостное ощущение соответствий...
Человеку соответствует роль ведущего, зверю — ведомого. Но человек может быть ведущим только тогда, когда трепетно чувствует своё родство с ведомым, свою неразрывную общность с ним и свою ответственность за него. Первенство человека означает по сути только его ответственность.
Зверь старше человека. Однако не зверь за нас, а мы за зверя отвечаем. Только в этом видит Рильке смысл библейской легенды о Якове и Исаве. Если человек — это Яков, которого отец благословил на первородство, то зверь — это Исав, его простодушный старший брат. И если Яков действительно достоин своего первородства (своей ответственности), он должен привести этого обросшего волосами брата своего к Отцу, живущему во внутренней тьме.
В сонетах к Орфею Рильке пишет, обращаясь к собаке:
Ты, мой друг, одинок, ибо власть
мы присвоили в мире. Мы правим. И все же
овладели не всем. — Нам послушно, быть может,
только явное. — Только ничтожная часть.
Кто учует неслышимый запах? Чей глаз
зрит незримое? Ты же в извечной тревоге
чуешь мёртвых и след на безвестной дороге,
и боишься заклятий, невнятных для нас.
Посмотри: я и ты... Мы составить должны
нечто цельное. Пусть я — твоё божество,
у меня есть мой Бог. Я дойду до Него.
И к тебе подведу, тихо за руку взяв.
Я скажу Ему: Отче, мы оба — сыны.
Это — брат мой. Вот здесь, в этой шкуре — Исав.
Лицо становится истинно человеческим, когда оно уводит за рамки своих черт, куда-то вдаль и вглубь, В то, что больше него и ни в какие черты не вмещается. — Уводит в Дух. Лицо само по себе есть сосуд, маска, которая оживает по мере наполнения ее Духом и умирает по мере убывания Духа. Но Дух не может быть только своим, принадлежать только этому лицу.
Зинаида Миркина
Из книги «Невидимый собор».
Книга содержит эссе о творчестве Рильке, полный перевод цикла сонетов к Орфею. «Импровизации на темы Каприйской зимы», трех дуинских элегий, элегии Марине Цветаевой и некоторых других стихов Рильке, а также исследование о творческом пути Марины Цветаевой, стихи, посвящённые Цветаевой и эссе «Святая Святых».
Истинная вера в Бога невозможна без созерцания. Вера без созерцания есть омоним веры, а по сути - ее антоним. Это "не та вера - не доверие глубине, раскрывшейся сердцу, а слепое доверие чему-то внешнему, чего сердце не знает". То, что знает сердце, не нуждается в удостоверении.
То, что можно проверить, - не Чудо и не Вечность. Ибо проверка лежит в области внешних глаз, внешних чувств - на том самом поповерхностном уровне, на котором Чудо существовать не может, как не может существовать в верхних слоях моря глубоководная рыба. Чудо - не нарушение физических законов, а обнаружение других законов, не противоречащих законам физического мира, а не зависящих от них.
Обнаружение Вечности внутри преходящего мира, обнаружение бессмертия внутри смертных существ... То, что только было или только будет, не есть вечное. Какое же оно вечное, если его нет сейчас? Можно проверить, было ли, можно проверить, будет ли, но можно ли проверить, есть ли?
Прежде всего - любовь. Можно ли проверить любовь?
По-моему, то, что можно и нужно проверить, не есть любовь во всем истинном значении этого слова. Любовь одаривает сердце всей полнотой жизни. Этого и есть мерило. Этим мерят. Это же не мерят ничем.
Вот тут я предвижу остановку. Недоумение, а подчас и бунт сознанного, привычно направленного на физический мир. "Как это не мерят ничем?!" Мы привыкли всё мерить. Мы не знаем того, что нельзя измерить. Любовь? Любовь меряется делами. Даже и Евангелие цитировать можно: "По плодам их узнаете их..." (Матфей, 7:16).
Да... совершенно верно. Как разобрать бедному королю Лиру, которая из дочерей действительно любит его? Разве не по делам, разве не по плодам? Ну, конечно, и по делам, и по плодам... - для слепых сердцем, не способных видеть... Корделия, Гонерилья и Регана были точно такими же, когда изъяснялись в своих чувствах к отцу, как и потом, когда проявили их на деле. Король Лир не видел, а верил в общепринятом смысле этого слова. Такая вера подлежит проверке. Иногда она ее выдерживает, иногда - нет. Но и подтвержденная, и опровергнутая, это - не та вера.
У Л. Андреева есть рассказ о человеке, страстно веровавшем. Но когда он не смог со своей верой сотворить чудо, он как бы в пропасть упал. Вера его рассыпалась. Это типичный пример "не той" веры: истинная вера не может рассыпаться никогда ни от чего на свете. Ибо все будет - "не про то", как говорил князь Мышкин.
Вера истинная ведет туда, где ничего измерить нельзя. Из мира поступков в мир причин и еще глубже - к таинственной Первопричине жизни. Все дела, плоды, результаты находятся в мире внешнем, в мире следствий, видимых, проявленных. Первопричина - не дело, не плод, не результат и ничем из перечисленного не мерится. Она мерится только самой собой. Истинно верующий уже сдвинул гору. Сдвинутая гора - это сброшенное с духа давление материальной силы, это непорабощаемость духа плотью, независимость от нее, внутренний выход в Царство, которое не от мира сего. В царство, где дела проверяются Любовью, а не Любовь - делами. Ощущение полноты Любви в сердце и есть высшая точка жизни. Ее центр. Ее смысл. Внутреннее солнце, от которого расходятся жизнетворные лучи во внешний мир. "Бог есть Любовь" (1 Иоанна, 4:8).
В одной суфийской притче Бог явился к святому и предложил исполнить любое его желание. "Зачем мне это, - ответил святой. - С меня достаточно того, что Ты есть".
Это предел веры, это полнота созерцания. Большего не может быть. Все уже есть. Сейчас и здесь. Тот, кто увидел Бога, увидел непреходящий смысл преходящих вещей, увидел все прошедшее и будущее. Смерть прошла. Прошло прошлое. Воскресение и жизнь вечная.
"Я есмь воскресение и жизнь" (Иоанн, 11:25), - сказал Христос слова, которые невозможно вместить тем, кто привык все измерять мерками разума.
Зинаида Миркина
Мера жизни
Да, поэт должен слушать, стоя на коленях, то, что Любовь (Бог) ему диктует. Только тогда он дорастёт до Бога, когда станет на колени перед Любовью.
Дорасти до Бога — значит дорасти до Безграничной Действительности, оставив мир иллюзий, как детское платье.
Никаких иллюзий... Никаких надежд на то. что когда-то — кто-то что-то сделает, устроит за нас. Ни на какую милость извне настоящий любящий — творец-святой — рассчитывать не может. «Как я тебя понимаю, — говорит Рильке своей младшей, такой духовно отважной и одновременно хрупкой сестре Марине Цветаевой:
«Как я тебя понимаю, женственный лёгкий цветок
на бессмертном кусте!
Как растворяюсь я в воздухе этом вечернем, который
скоро коснётся тебя!»
Эти слова, эта интонация — как прикосновение тихих, как материнское прикосновение, по которому так тосковал Мальте. Такое прикосновение _ предел возможной помощи от любящего. Они могут помочь найти путь к самому себе, помочь обрести силу. Но это должна быть своя собственная сила, свой собственный путь. Никто и никогда не может пройти этот путь за тебя, как никто не может отдать тебе эту силу. Только помочь обрести твою собственную силу. Самая великая помощь — самое бытие Любящего. Восполнившееся сердце самим своим существованием помогает другим сердцам восполниться. Однако, «каждый восполниться должен сам...». Никакая встреча во внешнем мире не заменит встречи с самим собой. Истинная встреча с любимым происходит только внутри себя, в тех сквозных далях, где нет ни частей, ни половинок — одно неделимое Целое. Мы не половинки, которые должны разыскать во внешнем мире свою другую половинку. Мы целостны. И только осознав свою целостность, мы можем открыть дали и позвать в них Любимого. Тогда нам есть что дать ему. Тогда мы приготовили общий дом-храм — внутренний простор.
Боги сперва нас обманно влекут к полу другому,
как две половинки в единство,
но каждый восполниться должен сам, дорастая,
как месяц ущербный, до полнолунья.
И к полноте бытия приведёт
лишь одиноко прочерченный путь
через бессонный простор.
Только так достигается истинное единство — через одиночество, которое души проходят насквозь, до конца. Не убегающая от одиночества душа перерастает его, и все оно — весь «бессонный простор» оказывается внутри. Пройден медленный уединённый путь собирания мира по крупицам, по частям. Не стало больше ничего внешнего. Все — внутри. Построен, наконец, храм, — тот невидимый собор, в котором вместилось все. И все в нем преобразилось. Земная любовь доросла до божественной. Сердце стало любящим, и теперь оно не может ничего потерять, — ибо оно нашло само себя.
Зинаида Миркина
Из книги «Невидимый собор»
«Сколько я ни встречался с неверующими и сколько ни читал таких книг, все мне казалось, что и говорят они, и в книгах пишут совсем будто не про то, хотя с виду кажется, что про то».
«Сущность религиозного чувства ни под какие рассуждения, ни под какие проступки и преступления и ни под какие атеизмы не подходит; тут что-то не то, и вечно будет не то; тут что-то такое, обо что вечно будут скользить атеизмы и вечно будут не про то говорить».
Князь Мышкин. Идиот (Ф. М. Достоевский)
«Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об Истине; Пилат сказал Ему: что есть Истина?»
(Ин. 18: 37-38).
«Мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели; а вы свидетельства Нашего не принимаете».
(Ин. 3:11)
Фома сказал Ему: Господи! не знаем, куда идешь; и как можем знать путь? Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь.
(Ин. 14: 5-6)
Услышав это, ученики Его весьма изумились и сказали: так кто же может спастись? А Иисус, воззрев, сказал им: человекам это невозможно, Богу же все возможно.
(Мф. 19: 25-26)
«Я учусь видеть. Не знаю, почему, но теперь все, решительно все проникает в меня глубже, чем прежде, и остаётся гам, где раньше все кончалось. У меня, оказывается, есть внутренний мир, о котором я ничего не знал. Все теперь уходит туда. И я не знаю, что творится в нем»
Записки Мальте Лауридса Бригге. Рильке
Зинаида Миркина - непревзойденный переводчик Райнера Марии Рильке. Настоящий перевод делается не со стихотворения на стихотворение, а – с того еще бессловесного начала, из которого Рильке выходил на немецкий язык, а Миркина – на русский. Хотя проникала она в это начало через стихотворение Рильке, однако через, сквозь, находя на русском очень точные смысловые образы. Переводчики с Божественного языка на человеческий говорят на немецком и русском, на английском и хинди, но понимают друг друга без слов. Они стоят на пороге одной и той же тайны. И в эту же тайну посвящены пророки. Через пророков перекликаются эпохи, культуры и вероисповедания. Через пророков и через поэтов. Термины «медиум», «транслятор», «спиритуализм» при анализе поэтического творчества Рильке и Миркиной едва ли уместны. Рильке и Миркина Вестники. Вестник – это творец, в художественном и мистическом опыте которого нет ничего сверх откровения Господа.
Рильке Р.М. Сонеты к Орфею. Пер. З. Миркиной (2017)
То, что я говорил о правдивости в литературе, может быть с равным успехом отнесено к произведениям, которые притязают на достоверность внутреннего наблюдения. Стендаль похвалялся тем, что знал человеческое сердце, - иными словами, ничего в нем не выдумал. Но что нас в Стендале интересует - это, напротив, плоды его воображения. Намерение же включить человека как такового в систему знаний о естестве должно предполагать одно из двух: либо чрезмерно скромные требования к самому этому знанию, либо явную путаницу, как если бы непосредственное наслаждение каким-либо деликатесом, изысканным блюдом мы отождествили с неоспоримым свидетельством точного и беспристрастного химического анализа.
Поль Валери. Об искусстве
Флобер, как мне кажется, лишь смутно догадывался, сколько тем, материала, возможностей могло почерпнуть в сюжете "Искушения" творение в самом деле великое. Уже скрупулезность его дотошности и его ссылок показывает, до какой степени не хватало ему целеустремленности выбора и организующей воли, чтобы осуществить создание литературной машины большой мощности.
Чрезмерное стремление ошеломлять читателя множественностью эпизодов, мелькающих персонажей и декораций, всевозможных идей и голосов порождает у нас растущее чувство беспомощности перед какой-то взбесившейся, разбушевавшейся библиотекой, где все тома разом выкрикивают свои миллионы слов и где все папки одновременно, в общем неистовстве изрыгают свои гравюры и свои рисунки. "Он слишком начитан", - хотим мы сказать об авторе, как мы говорим о пьяном: "Он слишком много выпил".
Однако Гете у Эккермана говорит о своей "Вальпургиевой ночи" следующее: "Мифологические персонажи напрашиваются тут в бессчетном количестве; но я стараюсь быть осторожным и выбираю только тех, которые достаточно выразительны и могут произвести надлежащее впечатление".
Этой мудрости в "Искушении" незаметно. Флобер всегда был одержим демоном энциклопедического знания, которого он пытался заклясть, написав "Бювара и Пекюше". Чтобы опутать Антония прельщениями, ему недостаточно было перелистать объемистые компиляции, толстые словари типа словарей Бейля, Морери, Треву и им подобных; он проштудировал едва ли не все источники, в какие мог заглянуть. Он буквально опьянял себя выписками и пометками. Но все усилия, каких стоили ему вереницы фигур и формул, одолевающих ночи пустынника, все силы ума, какие он вкладывал в бесконечные партии этого дьявольского балета, в тему богов и божеств, ересиархов, аллегорических чудовищ, - всего этого он лишил и всем этим обделял самого героя, который остается жалкой, плачевной жертвой в центре адского круговорота миражей и иллюзий.
В Антонии, надо признать, почти нет жизни. Слабость его реакций непостижима. Поразительно, что все видимое и слышимое не разжигает в нем ни соблазна, ни опьянения, ни ярости или негодования; что у него не находится ни проклятий, ни сарказмов, ни даже страстной, срывающейся молитвы, которыми он мог бы ответить на этот чудовищный маскарад и поток слишком красивых, бесстыдных и кощунственных фраз, терзающих его душу. Он безысходно пассивен; он не поддается, но и не противится; он ожидает конца кошмара, а пока не находит ничего лучшего, как время от времени весьма беспомощно восклицать. Его реплики суть лишь увертки, и, подобно царице Савской, нас без конца разбирает желание его ущипнуть.
(Быть может, в таком своем качестве он более "подлинен", иными словами, не столь отличен от большинства людей? Не во сне ли живем мы - достаточно жутком и всецело абсурдном, - и что же мы предпринимаем?)
Флобер был как будто заворожен околичностями в ущерб главному. Он прельстился заманчивостью декораций, контрастов, "занятностью" характерных деталей, выхватываемых там и сям в поверхностном и беспорядочном чтении; таким образом, тот же Антоний (но Антоний падший), он загубил свою душу, - я хочу сказать, душу своего замысла, какою являлось призвание этого замысла стать шедевром. Он упустил одну из прекраснейших драм, какие только возможны, первоклассное произведение, которое ждало творца. Не позаботившись прежде всего могущественно одушевить своего героя, он пренебрег самой сущностью своей темы: он не внял настоянию глубины. Что от него требовалось? Ни больше ни меньше как представить то, что может быть названо физиологией искушения, - всю ту властительную механику, в которой цвета, запахи, жар и холод, тишина и звук, истинное и ложное, добро и зло выступают как силы и сообщаются нам в форме всегда предстоящих антагонизмов.
Очевидно, что всякое "искушение" обусловлено действием зримой или мыслимой вещи, которое вызывает у нас ощущение, что нам ее недостает. Оно рождает потребность, которая отсутствовала или дремала, - и вот нечто в нас преображается, некая способность активизируется, и этот очаг возбуждения вовлекает в свою орбиту все наше естество. У Брейгеля чревоугодник вытянул шею, подавшись к похлебке, в которую впились его глаза, которую нюхают его ноздри; и мы чувствуем, что вся масса тела готова слиться в одно с головой, едва голова сольется с объектом взгляда. В природе корень тянется к влаге,
верхушка - к солнцу, и растение формируется от одной неудовлетворенности к другой, от вожделения к вожделению. Амеба выпячивается навстречу своей микроскопической жертве, повинуясь тому, что собирается в себе претворить; затем, подтянувшись на выброшенной ложноножке, она снова сжимается. Таков механизм всей живой природы; дьявол, увы, - это сама природа, и искушение составляет самое очевидное, самое постоянное, самое неизбывное условие всякой жизни. Жить значит ежемгновенно испытывать в чем-то недостаток: изменяться, дабы чего-то достичь, - и тем самым переходить в состояние какой-то иной недостаточности. Мы живем эфемерным, им ведомые и в нем пребывающие: всем здесь правит чувствительность, эта дьявольская пружина жизни организованных существ. Возможно ли предложить воображению нечто более поразительное или вывести на сцену что-либо более "поэтическое", нежели эта неодолимая сила, в которой сущность любого из нас, в которой мы с
точностью выражаемся, которая нами движет, которая к нам взывает и в нас отзывается, которая, в зависимости от часа и дня, становится радостью, болью, потребностью, отвращением, надеждой, могуществом или немощью, перекраивает шкалу ценностей, превращает нас в ангелов либо животных? Я думаю о разнообразии, о насыщенностях, об изменчивости нашей чувствующей субстанции, о ее бесконечных скрытых потенциях, о ее неисчислимых звеньях, чья игра понуждает ее раздираться внутренним противоборством, самое себя мистифицировать, множить формы влечения и отталкивания, воплощаться в уме, языке, символике, которые она изощряет и организует для построения диковинных отвлеченных миров. Я не сомневаюсь, что Флобер сознавал глубину своей темы; но он как будто страшился погрузиться в нее до той точки, где все приобретенные познания в счет больше не идут... Он увяз, таким образом, в избыточности книг и мифов; в ней потерял он генеральную мысль, я хочу сказать - единство своей композиции, каковое могло корениться лишь в таком Антонии, у которого дьявол был бы частью души... Его произведение остается мозаикой сцен и фрагментов; но кое-какие из них вписаны неизгладимо. Такое как есть, оно внушает мне чувство почтения, и, когда бы я ни раскрыл его, я нахожу в нем достаточно поводов, чтобы восхищаться его создателем больше,нежели им самим.
Поль Валери. Об искусстве
Человеческое тело выступает у Валери не только как мера, но и как живой инструмент искусства, воссоздающего природу в ее единстве (см. также "Заметку и отступление"). Таким образом, тело, выводя художника из порочного круга рефлексии, снимает субъект но-объектное отношение мысли и предмета, идеи и материала. (Валери предвосхищает здесь положения,
развивавшиеся французским философом М. Мерло-Понти, который рассматривал тело как органическое звено, связующее сознание с единством природного бытия - см. F. Heidsieck, L'ontologie de Merleau-Ponty, Paris, 1971, pp.114 - 140).
Мифический герой диалога, наделенный высшим "соматическим критерием" (тут Валери по сути не столь уж далек от Платона), стремится воссоздать "живое мгновение": он преобразует время в пространство и пространством его выражает. Тем самым человеческое тело, призванное направлять волевое сознание художника, становится внутренним орудием для достижения в искусстве абсолютного единства непосредственного, уникального переживания и многозначно-всеобщей формы. Иным образом, в плане идеалистического субъективизма, такое приведение искусством "конечного к вечному" (Ф. Шлегель) или, в обратном соотношений, выражение, бесконечного "в конечной форме" (Ф. Шеллинг) обосновывалось в немецком романтизме (см.: А. Ф. Лосев, Диалектика художественной формы, М., 1927, стр. 198 - 203).
* * *
Рассматривая проблемы сознания, Валери приходит к выводу, что в работе нашей мысли мы неизбежно отвлекаемся от ее источника и ее процесса. "Мысль маскирует мыслящее. Эффект скрадывает функцию. - Творение
поглощает акт. - Проделанный путь поглощает движение" (Cahiers, t. XXI, p.
610). Сами же идеи (как - на другом уровне - и восприятия) включаются в текст нашей памяти, заданных ассоциаций, немедленно вбираются автоматизмом и готовыми формами всей нашей психической структуры, где обретают значимость
(о близости ряда положений Валери к системной "обусловленности" в духе гештальтпсихологии см.: W. I n с е, Etre, connaоtre et mysticisme du ruel selon Valйry. - "Entretiens sur Paul Valйry", 1968).
Но поскольку сознание, считает Валери, не адекватно нашим мыслям и не властно над ними, как может разум действительно мыслить самое себя? Такое несовпадение (также и во времени) мыслящего с процессом мышления, наблюдающего - с процессом наблюдения неотвратимо приводит к искажению мыслимого или наблюдаемого объекта. (Эта проблема оказалась чрезвычайно важной в квантовой механике, где была сформулирована Нильсом Бором как раз по аналогии с проблемами сознания; Валери, внимательно следивший за развитием современной физики, пытался соотнести этот научный принцип со своими идеями. - См.: J. Robinson, L'analyse de l'esprit dans les Cahiers de Valйry, pp. 107 - 109).
Мифический герой Валери закономерно является хозяином своей "мысли", ибо он преодолел автоматизм сознания, его стереотипы, отвлеченность мысли от процесса мышления. Это его всемогущество обязано способности чистого
самосознания: он уподобился плотиновскому нусу, "уму", в котором материя мышления полностью вбирается его формой, отождествляется с ней (проблема сознания была впервые четко сформулирована именно в неоплатонизме - см., например: П. П. Блонский, Философия Плотина, М., 1918; M. de G andili ас, La sagesse de Plotin, Paris, 1966).
* * *
Универсальность и всемогущество потенциальных возможностей больше всего привлекают автора в Леонардо. Отнюдь не случайно записи Леонардо говорят главным образом "не о том, что он создавал в своих произведениях, а о том, чего он искал, к чему жадно стремился, чего ему по разным мотивам так и не удалось осуществить в своем творчестве. <... >. В "Трактате" он выступает в качестве художника, для которого в реальном мире не существует никаких пределов" (М. В. Алпатов, Этюды по истории западноевропейского искусства, М., 1963, стр. 70).
Во "Введении в систему Леонардо да Винчи" Валери попытался ответить на вопрос, больше всего одолевавший его в ту пору и сформулированный год спустя: "Что в силах человеческих?". Он провозглашает предельное развитие универсальных способностей разума высшим назначением человека. Но в этой работе уже проявился в полную силу основной изъян его мировосприятия. Хотя он поет настоящий гимн творческому дерзанию человека и прославляет творческий акт "конструирования", их объект воспринимается им лишь как средоточие возможностей, а их источник - лишь как мыслимая система. Этот
акт, как и всякое действие вовне, повисает в небытии или же, выражаясь точнее, в некоем пред-бытии, в его вероятии. Пренебрежение воплотившимся и культ возможного присутствуют здесь в самих исходных посылках и знаменуют определенную ущербность у Валери чувства бытия. Можно лишь добавить, что в этом противопоставлении творчески мыслящего интеллекта объектному реальному миру он в какой-то степени унаследовал и обособил одну из сторон аналитического гения Леонардо и всей связанной с ним традиции.
Универсализм, образцом которого стал для Валери Леонардо да Винчи, есть, по его мысли, не что иное, как полное овладение своими возможностями, что значит абсолютное самосознание. Поэтому осмысление творческо-интеллектуальной системы Леонардо да Винчи отождествляется у него с поиском собственного универсального метода: познание гения универсальности совпадает с познанием собственного "внутреннего закона" мыслительной деятельности. Разрешению именно этой задачи Валери посвятил долгие годы своей жизни.
Чем полнее мы очищаем творческую личность от всего личностного - от внешних признаков, исторических черт, от ее известности, - тем ближе подходим к "сокровенному центру" ее универсальности. Эту идею
Валери разовьет в "Заметке и отступлении".
Валери впервые намечает здесь принцип безличности произведения. Развивая его в дальнейшем, он как будто сознательно оспаривает Паскаля (и вместе с ним всю традицию романтической школы в
литературоведении), который восхвалял "естественный стиль" как раз за то, что, сталкиваясь с ним и "ожидая увидеть автора, мы находим человека" (Pascal, Oeuvres, Paris, 1941, p. 831).
Система, которую пытается проследить Валери, обнаруживается на том уровне, где наука и искусство обладают общей основой. Показательно, однако, что именно научные труды, "чистые" научные построения определяют в его системе природу творений искусства.
Гипотетическая сущность Леонардо, представленная Валери, имеет достаточно отдаленное отношение к тому живому Леонардо, каким мы привыкли рисовать его себе. Больше того, авторский герой лишается всякой экзистенциальной основы и предстает некой анонимной фигурой. Соответственно мыслится природа творчества и сами его продукты.
Этот принцип безличности, ведущий в литературоведении к решительному отказу от психологического и субъективистского подхода, будет развит в 20-е годы Т. С. Элиотом, который в чрезвычайно близких Валери формулировках свяжет его со своим пониманием традиции (см.: Т. S. Eliot, Selected essays, New York, 1932; взгляды Элиота анализируются в книге: Р. В а й м а н, "Новая критика" и развитие буржуазного литературоведения, М., 1965, стр. 85 - 91).
Подобные же идеи разрабатывались русской "формальной школой", а также крупным немецким искусствоведом Г. Вельфлином, исследовавшим эволюцию стилей, который выдвинул понятие "истории искусства без имен" (см.: Г. Вельфлин, Основные понятия истории искусств, М. - Л., 1930, стр. XXIII).
В последнее время, однако, уже не раз подвергается критике абсолютизация этого принципа, чрезвычайно модного в структуралистской критике (Р. Барт заявляет: "... стирая подпись писателя, смерть утверждает истину произведения, которая есть загадка") и восходящего через Валери к Малларме, - принципа, по которому "не писатель мыслит свой язык, но язык мыслит в нем. Язык, в сущности, не используется "субъектом" для самовыражения; он сам есть субъект в онтологическом смысле"" (S. Doubrovsky, Critique et existence. - В сб.: "Les chemins actuels de la critique",
Paris, 1968, p. 145). Объект литературной критики становится, таким образом, чисто лингвистическим объектом.
Справедливость требует отметить, что, как это часто бывает у Валери, проблема "чистого совершенства", к которой он не раз будет возвращаться, ставится им как проблема абсолютного предела, достижимого лишь мысленно.
Очевидно, что язык, лишенный всякой экзистенциальной основы (или "чистое Я", лишенное, как выражается Валери, всяческих "пятен"), не способен ни творить, ни критически оценивать самое себя.
Считая математику высшим "формальным искусством", Валери ставит перед собой задачу применить ее методы в исследовании деятельности разума. В ее формализованной отвлеченности он ищет
центральный принцип творческого универсализма. Это математическое "искушение" Валери объясняет многое в системе его взглядов. Связанное с картезианской рационалистической традицией и являющееся своего рода "мистикой чистой мысли", оно вместе с тем наследует известные черты отвлеченного пантеизма (ср. математический метод "Этики" Спинозы) с его отношением к миру особенного, единичного как к чему-то призрачному, несущественному, не сущему. Потому-то Валери и стремится "поставить на место всякой вещи определенную формулу или выражение некой серии
интеллектуальных операций" (Cahiers, t. I, p. 467).
Можно добавить, что благодаря этой своей тенденции, которая распространяется, в частности, и на понимание искусства, Валери удается наметить целый ряд положений новейших отраслей науки, завершая тем самым древнейшую традицию мыслителей, пытавшихся умозрительно определить математическую модель сущего (ср.: А. Ф. Лосев, История античной эстетики. Софисты, Сократ, Платон, М., 1969, стр. 325 и далее).
Валери рассматривает механизм творческого интеллекта с точки зрения теории энергетического цикла. Обращение к термодинамике было связано с его поисками циклического закона психической
деятельности. Идея энергетического цикла - излюбленный инструмент его анализа. В своем глубоко трагическом восприятии монотонной цикличности жизни Валери делает ставку на активность разума, который, как он полагает, в своем высшем усилии нарушает эту цикличность и потому противостоит "течению" жизни: "Животные монотонны, разум -- ангел; он только в мгновении и только мгновение" (Cahiers, t. XXIX, p. 250). Живая реальность художественного произведения, обусловленная его эстетическим восприятием, также рассматривается им по аналогии с идеей энергетического цикла (см. "Эстетическая бесконечность"). Именно поэтому превознесение внеличностного интеллектуального совершенства в искусстве связано у него с чисто идеальным ценностным критерием, отвечающим устремлению "пребыть раз и навсегда" (Cahiers, t. XXIII, p. 289).
Обращаясь ко второму закону термодинамики, Валери пытается выявить великое назначение разума, противостоящего энтропии, ибо его деятельность состоит в "движении от бесформенного к форме, от беспорядка - к порядку" (Cahiers, t. XI, p. 600; в этом плане Валери может быть поставлен в один ряд с такими весьма различными мыслителями, как К. Г. Юнг, П. А. Флоренский и др. ). По мнению исследователей, в своем развернутом анализе умственной деятельности человека, основанном на применении математических методов, Валери выступает в "Тетрадях" как предшественник ряда идей кибернетики и
теории информации (см.: J. Robinson, L'analyse de l'esprit dans les Cahiers de Valйry, Paris, 1963, pp. 74 - 81).
Валери фактически проводит четкое различие между знаком как функцией системы сознания и чистым внезнаковым ощущением на его бессознательном уровне. Занимаясь с этой поры проблемой стереотипов сознания, связываемых с абстрагирующей тенденцией языка, Валери пытается определить отношение между "означающим" и "означаемым" уже на уровне восприятия. В этой постановке проблемы (как и в ряде других идей) он предвосхищает позицию немецкого философа Э. Кассирера, который, рассматривая всю духовную деятельность человека с точки зрения формообразующих "символов", обнаруживает свойственную языку "символическую" тенденцию в самом чистом восприятии (E. Cassirer, La philosophie der symbolischen Formen, III, Berlin, 1929, S. 269).
Валери считает, что абстрактно-системное, которое не может быть сведено к чувственному образу, не пригодно как материал ни для исследовательской деятельности разума, ни тем более для художественного творчества.
Ощущение, связываемое с бытийностью, постоянно корректирует интеллектуальную систему Валери. Оно же лежит в основании его концепции художественного восприятия и эстетического творчества, хотя рассматривается им лишь как их предпосылка, "сырой материал", которому придает значимость и форму волевое усилие интеллекта. Ибо, как полагает Валери, сверхчувствительность, безразличная к объекту и не контролируемая волей, в конце концов убивает восприятие конкретного, открывая некий X сущего, недоступный никакому постижению и моделированию (отсюда парадоксальное утверждение Валери, что реальное "может быть выражено только в абсурде"). Таким образом, ощущение оказывается своего рода диалектическим моментом художественного восприятия (см. комментарии к "Вечеру с господином Тэстом").
Из комментариев к сборнику Валери под редакцией А. Эфроса
Греки называли ритмом порядок и пропорциональность, наблюдаемые при движениях тела. Тот же самый порядок и пропорциональность, в отношении звуков, связывались у них с "гармонией". Единение же ритма с гармонией выражалось у греков словом, которого нет ни на одном языке, потому что переводное слово "танец" не выражает двойной идеи, т. е. совместного понятия музыки с танцами.
С. Н. Xудeков. История танцев (ч. I, стр.102).
С легкостью воображаем мы человека обычного простые воспоминания воскрешают его элементарные побуждения и реакции. В неприметных поступках, составляющих внешнюю сторону его бытия, мы находим ту же последовательность, что и в своих собственных; мы с равным успехом их внутренне связываем; и сфера активности, подразумеваемая его существом, не выходит за пределы той, которой располагаем мы сами. Ежели мы хотим, чтобы человек этот чем-то выделялся, нам будет труднее представить труды и пути его разума. Чтобы не ораничиваться смутным восхищением, мы должны расширить, в том или ином направлении, наше понятие о свойстве, которое в нем главенствует и которым мы, несомненно, обладаем лишь в зародыше. Если, однако, все его духовные способности одновременно развиты в высшей степени и если следы его деятельности изумляют во всех областях, личность не поддается целостному охвату и, противясь нашим усилиям, стремится от нас ускользнуть. Один полюс этой мысленной протяженности отделен от другого такими расстояниями, каких мы никогда еще не преодолевали. Наше сознание не улавливает связности этого целого, подобно тому как ускользают от него бесформенные и хаотические клочки пространства, разделяющие знакомые предметы, и как теряются ежемгновенно мириады явлений, за вычетом малой толики тех, которые речь пробуждает к жизни. Нужно, однако, помедлить, свыкнуться, осилить трудность, с которой наше воображение сталкивается в этой массе чужеродных ему элементов. Всякое действие мысли сводится к обнаружению неповторимой организации, уникального двигателя — и неким его подобием пытается одушевить требуемую систему. Мысль стремится построить исчерпывающий образ. С неудержимостью, степень которой зависит от ее объема и остроты, она возвращает себе наконец свое собственное единство. Словно действием некоего механизма обозначается гипотеза и вырисовывается личность, породившая все: центральное зрение, где всему нашлось место; чудовищный мозг — удивительное животное, ткущее тысячи чистых нитей и связавшее ими великое множество форм, чьи конструкции, разнообразные и загадочные, ему обязаны; наконец, инстинкт, который вьет в нем гнездо.
Построение этой гипотезы есть феномен, допускающий варианты, но отнюдь не случайности. Ценность ее будет определяться ценностью логического анализа, объектом которого она призвана стать. Она лежит в основании системы, которой мы займемся и которой воспользуемся.
Поль Валери
Об искусстве
...Бездомному — уже не строить дом,
покинутому — счастья ждать не надо;
ему осталась горькая услада:
писать посланья, и в саду пустом,
бродить и ждать начала листопада.
Райнер Мария Рильке
Осенний день
Пер. Е. Витковского
Культурно-исторический тип невозможно корректировать, его можно только полностью разрушить. Но разрушить его можно лишь уничтожив весь народ. Гитлер, например, хотел разрушить еврейский культурно-исторический тип с помощью газовых камер.
Александр Щипков
Лучше бедный, но разумный юноша, чем старый и глупый царь, не желающий внимать советам. Юноша вышел из темницы и стал царем, хотя и родился бедняком в царствованье того. И увидел я, что рядом с каждым из живущих, пока он ходит под солнцем, идёт ребёнок, который займёт его место. Бесчислен народ, не счесть и тех, кто жил прежде, однако потомки их не прославят. И это - пустое, это - погоня за ветром и томление духа. Ступай осторожно, направляясь в Божий дом. Лучше приходить туда и слушать, чем приносить жертву, как глупцы. Они неразумны и потому творят зло.
Екклесиаст 4: 13-17 (в новом русском переводе)
Лучше бедный, но умный юноша, нежели старый, но неразумный царь, который не умеет принимать советы; ибо тот из темницы выйдет на царство, хотя родился в царстве своем бедным.Видел я всех живущих, которые ходят под солнцем, с этим другим юношею, который займет место того. Не было числа всему народу, который был перед ним, хотя позднейшие не порадуются им. И это - суета и томление духа! Наблюдай за ногою твоею, когда идешь в дом Божий, и будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению; ибо они не думают, что худо делают.
Екклесиаст 4: 13-17 (Синодальный перевод)
"В новом законопроекте сказано, что любой человек может быть признан средством массовой информации"
Депутаты наконец очистили свой язык от принципов кантовского гуманизма. Человек прямо и цинично назван средством. Не работником, ни владельцем СМИ, но СРЕДСТВОМ. Может все же хоть юристы на стадии написания текста закона отредактируют этот цинично-утилитаристский дискурс законодателей.
Андрей Макаров
"(Анри) Сен Симон и другие социалисты-утописты, а потом и другие люди, которые искренне стремились к добру, мечтали о городах Солнца, но таких городов нет и вряд ли когда-то будут", — сказал Путин.
Он также отметил, что во многих странах не соблюдаются права, но люди об этом ничего не знают, и в качестве примера привел эксперимент, проведенный ранее в США.
"Не секрет, в Штатах проводили на улице опрос, просто опрос прохожих, зачитывая статьи конституции или Биля о правах Соединенных штатов. Кто-то обещал вызвать полицию, кто-то говорил, что это явная пропаганда и сейчас они позвонят в ФБР. Я думаю, что такое состояние дел, оно в подавляющем большинстве стран", — отметил президент России.
"Город Солнца" — утопия итальянского философа Томмазо Кампанеллы, написанная в первой половине XVII века.
РИА Новости
Мир - это война.
Свобода - это несвобода.
Оптимизация - это пессимизация.
Эффективный менеджмент - эффектный развал ранее работавших механизмов.
Креативность - имитация творчества.
Разнообразие - пестрое однообразие.
Либерализм - новый тоталитаризм.
Юрий Пущаев
Живи с Христом, и Он спасёт тебя. Ибо Он истинный свет и солнце жизни. Ведь как солнце является, чтобы давать свет глазам плоти, так и Христос просвещает всякий ум и сердце. Ибо больной телесно — это злая смерть, насколько больше тот подвержен смерти, у кого слепой ум. Ведь как всякий слепой не может видеть его, так и тот, у кого нет здорового ума, лишён удовольствия приобрести себе свет Христа, т.е. разум.
Прп. Силуан Афонский
Почему так много людей не верит в Божественные истины? Потому ли, что они не доказаны? Нет, потому что они им не нравятся.
Блез Паскаль
Из эксперимента Стэнли Милгрэма, посвящённого исследованию подчинения авторитету, можно сделать вывод, что люди делятся на три группы:
1. Те, кто что-то делает;
2. Те, кто смотрит, как что-то делают;
3. Те, кто спрашивают, что тут сделали.
Эксперимент Стэнли Милгрэма (англ. Stanley Milgram) — серия экспериментов в социальной психологии, первый из которых был описан в 1963 году психологом Стэнли Милгрэмом из Йельского университета в статье «Подчинение: исследование поведения» (Behavioral Study of Obedience), а позднее в книге «Подчинение авторитету: экспериментальное исследование» (Obedience to Authority: An Experimental View; 1974).
В своём эксперименте Милгрэм пытался прояснить вопрос: сколько страданий готовы причинить обыкновенные люди другим, совершенно невинным людям, если подобное причинение боли входит в их рабочие обязанности? В нём была продемонстрирована неспособность испытуемых открыто противостоять «начальнику» (в данном случае исследователю, одетому в лабораторный халат), который приказывал им выполнять задание, несмотря на якобы сильные страдания, причиняемые другому участнику эксперимента (в реальности подсадному актёру). Результаты эксперимента показали, что необходимость повиновения авторитетам укоренилась в нашем сознании настолько глубоко, что испытуемые продолжали выполнять указания, несмотря на моральные страдания и сильный внутренний конфликт.
Фактически Милгрэм начал свои изыскания, чтобы прояснить вопрос, как немецкие граждане в годы нацистского господства могли участвовать в уничтожении миллионов невинных людей в концентрационных лагерях. После отладки своих экспериментальных методик в Соединённых Штатах Милгрэм планировал отправиться с ними в Германию, жители которой, как он полагал, весьма склонны к повиновению. Однако после первого же проведённого им в Нью-Хэйвене (штат Коннектикут) эксперимента стало ясно, что в поездке в Германию нет необходимости, и можно продолжать заниматься научными изысканиями рядом с домом. «Я обнаружил столько повиновения, — говорил Милгрэм, — что не вижу необходимости проводить этот эксперимент в Германии».
Впоследствии эксперимент Милгрэма всё-таки был повторен в Голландии, Германии, Испании, Италии, Австрии и Иордании, и результаты оказались такими же, как и в США. Подробный отчёт об этих экспериментах опубликован в книге Стэнли Милгрэма Obedience to Authority (1973) или, например, в книге Миуса и Рааймэйкерса (Meeus W. H. J., Raaijmakers Q. A. W. (1986). Administrative obedience: Carrying out orders to use psychological-administrative violence. European Journal of Social Psychology, 16, 311—324).
Участникам этот эксперимент был представлен как исследование влияния боли на память. В опыте участвовали экспериментатор, испытуемый и актёр, игравший роль другого испытуемого. Заявлялось, что один из участников («ученик») должен заучивать пары слов из длинного списка, пока не запомнит каждую пару, а другой («учитель») — проверять память первого и наказывать его за каждую ошибку всё более сильным электрическим разрядом.
В начале эксперимента роли учителя и ученика распределялись между испытуемым и актёром «по жребию» с помощью сложенных листов бумаги со словами «учитель» и «ученик», причём испытуемому всегда доставалась роль учителя. После этого «ученика» демонстративно привязывали к креслу с электродами. «Учитель» получал «демонстрационный» удар током.
«Учитель» уходил в другую комнату и садился за стол перед прибором-генератором. Генератор представлял собой ящик, на лицевой панели которого были размещены 30 переключателей от 15 до 450 В, с шагом в 15 В. Экспериментатор поясняет «учителю», что при нажатии на каждый из переключателей к ученику подводится соответствующее напряжение, при отпускании переключателя действие тока прекращается. Нажатый переключатель остаётся в нижнем положении, чтобы «учитель» не забывал, какой выключатель был уже нажат, а какой нет. Над каждым переключателем написано соответствующее ему напряжение, кроме того, группы выключателей подписаны поясняющими фразами: «Слабый удар» (англ. Slight Shock), «Умеренный удар» (Moderate Shock), «Сильный удар» (Strong Shock), «Очень сильный удар» (Very Strong Shock), «Интенсивный удар» (Intense Shock), «Крайне интенсивный удар» (Extreme Intensity Shock), «Опасно: труднопереносимый удар» (Danger: Severe Shock). Последние два переключателя графически обособлены и помечены «X X X». Панель прибора изготовлена в высоком качестве, имеются надписи о назначении (генератор 15—450 В) и производителе (Type ZLB, Dyson Instrument Company, Waltham, Mass.), на панели имеется стрелочный вольтметр. Нажатие переключателей сопровождалось загоранием соответствующих лампочек, а также жужжанием и щелчками реле. Иными словами, прибор производил серьёзное впечатление реального, не давая повода сомневаться в подлинности эксперимента.
После инструктажа начинался эксперимент, и «учитель» зачитывал «ученику» список ассоциативных пар слов, которые «ученик» должен был запомнить. Затем «учитель» зачитывал первое слово из пары и четыре варианта ответа. «Ученик» должен был выбрать правильный вариант и нажать соответствующую ему одну из четырёх кнопок, находящихся у него под рукой. Ответ ученика отображался на световом табло перед учителем. В случае ошибки «учитель» сообщал, что ответ неверен, сообщал, удар каким напряжением получит «ученик», нажимал на кнопку, якобы наказывающую «ученика» ударом тока, и затем сообщал правильный ответ. Начав с 15 В, «учитель» с каждой новой ошибкой должен был увеличивать напряжение с шагом в 15 В вплоть до 450 В. При достижении 450 В экспериментатор требовал, чтобы «учитель» продолжал использовать последний выключатель (450 В). После трёхкратного использования последнего переключателя эксперимент прекращался.
На самом деле актёр, игравший «ученика», только делал вид, что получает удары, ответы ученика были стандартизованы и подбирались таким образом, чтобы в среднем на каждый верный ответ было три ошибочных. Таким образом, когда «учитель» дочитывал вопросы до конца первого листа, ученику назначался удар в 105 В, после этого «учитель» брал второй лист, а экспериментатор просил начинать снова с 15 В, и, достигнув конца листа, начинать читать вопросы сначала, пока ученик не выучит все пары. Этим самым «учителю» давалась возможность освоиться и привыкнуть к своим обязанностям, кроме того, явно показывалось, что эксперимент не прекратится при достижении конца перечня вопросов.
Если испытуемый проявлял колебания, то экспериментатор требовал продолжения одной из предопределённых фраз:
- «Пожалуйста, продолжайте» (Please continue/Please go on);
- «Эксперимент требует, чтобы вы продолжили» (Experiment requires that you continue);
- «Абсолютно необходимо, чтобы вы продолжили» (It is absolutely essential that you continue);
- «У вас нет другого выбора, вы должны продолжать» (You have no other choice, you must go on).
Эти фразы произносились по порядку, начиная с первой, когда «учитель» отказывался продолжать эксперимент. Если «учитель» продолжал отказываться, произносилась следующая фраза из списка. Если «учитель» отказывался после 4-й фразы, эксперимент прерывался.
Кроме того, были две специальные фразы. На случай, если испытуемый спрашивал, не получит ли «ученик» повреждений, экспериментатор отвечал: «Несмотря на то, что удары током могут быть болезненными, они не приведут к долговременным повреждениям тканей» (Although the shock may be painful, there is no permanent tissue damage). Если испытуемый обращал внимание на то, что «ученик» отказывается продолжать, экспериментатор отвечал: «Нравится ли ученику это, или нет, вы должны продолжать, пока он не выучит правильно все пары слов» (Whether the learner likes it or not, you must go on until he has learned all the word pairs correctly). По ходу эксперимента в фильме Милгрэма видно, что экспериментатор при необходимости использовал и иные фразы, например, заверял, что он сам несёт ответственность, если с «учеником» что-либо случится. При этом, однако, экспериментатор никак не угрожал сомневающимся «учителям».
Участники получали денежное вознаграждение в размере 4,5 доллара за участие в эксперименте, однако перед началом экспериментатор предупреждал, что деньги выплачиваются за приход в лабораторию, и они останутся у испытуемых вне зависимости от того, что произойдёт дальше. Проведённые впоследствии исследования на 43 субъектах, участвовавших без вознаграждения, но являющихся студентами того же Йельского университета, показали схожие результаты.
В документальном фильме Милгрэма «Obedience», отображающем ход эксперимента, показан доработанный вариант. В этом варианте «ученик» перед началом эксперимента предупреждает, что имел проблемы с сердцем в прошлом. Кроме того, «ученик» не был звукоизолирован от «учителя», так что последний мог слышать вскрикивания от ударов током. На 150 вольтах актёр-«ученик» начинал требовать прекратить эксперимент и жаловаться на сердце, однако экспериментатор говорил «учителю»: «Эксперимент необходимо продолжать. Продолжайте, пожалуйста». По мере увеличения напряжения актёр разыгрывал всё более сильный дискомфорт, затем сильную боль, и, наконец, орал, чтобы эксперимент прекратили. На 300 вольтах «ученик» заявлял, что отказывается дальше участвовать в эксперименте и не будет давать ответы, но продолжал истошно кричать при назначении удара. Начиная с 345 вольт, «ученик» переставал кричать и подавать признаки жизни.
«Ученик» требовал выпустить его, прекратить эксперимент, жаловался на сердце, отказывался отвечать, но не ругал «учителя» или экспериментатора, не грозил отмщением или судебным преследованием, и даже просто не обращался к «учителю» напрямую.
Результаты:
В одной серии опытов основного варианта эксперимента 26 испытуемых из 40, вместо того чтобы сжалиться над жертвой, продолжали увеличивать напряжение (до 450 В) до тех пор, пока исследователь не отдавал распоряжение закончить эксперимент. Лишь пятеро испытуемых (12,5 %) остановились на напряжении в 300 В, когда от жертвы появились первые признаки недовольства (стук в стену) и ответы перестали поступать. Ещё четверо (10 %) остановились на напряжении 315 В, когда жертва второй раз стучала в стену, не давая ответа. Двое (5 %) отказались продолжать на уровне 330 В, когда от жертвы перестали поступать как ответы, так и стуки. По одному человеку — на трёх следующих уровнях (345, 360 и 375 В). Оставшиеся 26 из 40 дошли до конца шкалы.
* * *
За несколько дней до начала своего эксперимента Милгрэм попросил нескольких своих коллег (студентов-выпускников, специализирующихся в области психологии в Йельском университете, где проводился эксперимент) ознакомиться с планом исследования и попробовать угадать, сколько испытуемых-«учителей» будут, несмотря ни на что, увеличивать напряжение разряда до тех пор, пока их не остановит (при напряжении 450 В) экспериментатор. Большинство опрошенных психологов предположили, что таким образом поступят от одного до двух процентов всех испытуемых.
Также были опрошены 39 психиатров. Они дали ещё менее верный прогноз, предположив, что не более 20 % испытуемых продолжат эксперимент до половины напряжения (225 В) и лишь один из тысячи повысит напряжение до предела. Следовательно, никто не ожидал поразительных результатов, которые были получены — вопреки всем прогнозам, большинство испытуемых подчинились указаниям руководившего экспериментом учёного и наказывали «ученика» электрошоком даже после того, как тот начинал кричать и бить в стенку ногами.
Для объяснения проявленной испытуемыми жестокости было высказано несколько предположений.
- Испытуемых гипнотизировал авторитет Йельского университета.
- Все испытуемые были мужчинами, поэтому имели биологическую склонность к агрессивным действиям.
- Испытуемые не понимали, насколько сильный вред, не говоря о боли, могли причинить «ученикам» столь мощные электрические разряды.
- Испытуемые просто имели склонность к садизму и наслаждались возможностью причинить страдание.
- Все участвовавшие в эксперименте были людьми, склонными к подчинению авторитету экспериментатора и причинению страданий испытуемому, так как остальные просто отказались участвовать в эксперименте сразу или узнав его подробности, не нанеся таким образом ни одного удара током «ученику». Естественно, что отказавшиеся от участия в эксперименте в статистику не попали.
При дальнейших экспериментах ни одно из этих предположений не подтвердилось.
Милгрэм повторил эксперимент, сняв помещение в Бриджпорте (штат Коннектикут) под вывеской «Исследовательская ассоциация Бриджпорта» и отказавшись от каких-либо ссылок на Йельский университет. «Исследовательская ассоциация Бриджпорта» представлялась коммерческой организацией. Результаты изменились незначительно: дойти до конца шкалы согласились 48 % испытуемых.
Другой эксперимент показал, что пол испытуемого не имеет решающего значения; «учителя»-женщины вели себя точно так же, как и мужчины в первом эксперименте Милгрэма.
Ещё в одном эксперименте изучалось предположение, что испытуемые недооценивали потенциальный физический вред, причиняемый ими жертве. Перед началом дополнительного эксперимента «ученику» была дана инструкция заявить, что у него больное сердце и он не выдержит сильных ударов током. В процессе эксперимента «ученик» начинал кричать: «Всё! Выпустите меня отсюда! Я говорил вам, что у меня больное сердце. Моё сердце начинает меня беспокоить! Я отказываюсь продолжать! Выпустите меня!». Однако поведение «учителей» не изменилось; 65 % испытуемых добросовестно выполняли свои обязанности, доводя напряжение до максимума.
Предположение о том, что испытуемые имели нарушенную психику (или особую склонность к подчинению), также было отвергнуто как не имеющее под собой оснований. Люди, откликнувшиеся на объявление Милгрэма и изъявившие желание принять участие в эксперименте по изучению влияния наказания на память, по возрасту, профессии и образовательному уровню являлись среднестатистическими гражданами. Более того, ответы испытуемых на вопросы специальных тестов, позволяющих оценить личность, показали, что эти люди были вполне нормальными и имели достаточно устойчивую психику. Фактически они ничем не отличались от обычных людей или, как сказал Милгрэм, «они и есть мы с вами».
Предположение, что испытуемые получали наслаждение от страданий жертвы, то есть были садистами, было опровергнуто несколькими экспериментами.
Когда экспериментатор уходил, а в комнате оставался его «ассистент», лишь 20 % соглашались на продолжение эксперимента.
Когда испытуемому давали право самому выбирать напряжение, 95 % оставались в пределах 150 вольт.
Когда указания давались по телефону, послушание сильно уменьшилось (до 20 %). При этом многие испытуемые притворялись, что продолжают эксперименты.
Если испытуемый оказывался перед двумя исследователями, один из которых приказывал остановиться, а другой настаивал на продолжении эксперимента, испытуемый прекращал эксперимент.
* * *
В 2002 году Томас Бласс из Мэрилендского университета опубликовал в журнале «Psychology Today» сводные результаты всех повторений эксперимента Милгрэма, сделанных в США (со средним результатом 61 %) и за их пределами (66 %). Минимальный результат был 28 %, максимальный — 91 %. Существенной зависимости от года проведения эксперимента обнаружено не было.
Если Милгрэм прав и участники эксперимента — такие же обычные люди, как мы, то вопрос: «Что может заставить людей вести себя подобным образом?» — приобретает личный характер: «Что может заставить нас поступать таким образом?». Милгрэм уверен — в нас глубоко укоренилось сознание необходимости повиновения авторитетам. По его мнению, в проводившихся им экспериментах решающую роль играла неспособность испытуемых открыто противостоять «начальнику» (в данном случае исследователю, одетому в лабораторный халат), который приказывал испытуемым выполнять задание, несмотря на сильную боль, причиняемую «ученику».
Милгрэм приводит веские доводы, подтверждающие его предположение. Ему было очевидно, что, если бы исследователь не требовал продолжать эксперимент, испытуемые быстро вышли бы из игры. Они не хотели выполнять задание и мучились, видя страдания своей жертвы. Испытуемые умоляли экспериментатора позволить им остановиться, а когда тот им этого не разрешал, то продолжали задавать вопросы и нажимать на кнопки. Однако при этом испытуемые покрывались испариной, дрожали, бормотали слова протеста и снова молили об освобождении жертвы, хватались за голову, так сильно сжимали кулаки, что их ногти впивались в ладони, кусали губы до крови, а некоторые начинали нервно смеяться. Вот что рассказывает человек, наблюдавший за ходом эксперимента:
Я видел, как в лабораторию вошёл солидный бизнесмен, улыбающийся и уверенный в себе. За 20 минут он был доведён до нервного срыва. Он дрожал, заикался, постоянно дергал мочку уха и заламывал руки. Один раз он ударил себя кулаком по лбу и пробормотал: «О Боже, давайте прекратим это». И тем не менее, он продолжал реагировать на каждое слово экспериментатора и безоговорочно ему повиновался.
— Милгрэм, 1963
Милгрэм провёл несколько дополнительных экспериментов и в результате получил данные, ещё более убедительно свидетельствующие о верности его предположения.
Испытуемый отказывался подчиняться человеку его ранга
Так, в одном случае он внес в сценарий существенные изменения. Теперь исследователь велел «учителю» остановиться, в то время как жертва храбро настаивала на продолжении эксперимента. Результат говорит сам за себя: когда продолжать требовал всего лишь такой же испытуемый, как и они, испытуемые в 100 % случаев отказались выдать хоть один дополнительный электрический разряд.
В другом случае исследователь и второй «испытуемый» менялись ролями таким образом, что привязанным к креслу оказывался экспериментатор. При этом второй «испытуемый» приказывал «учителю» продолжать, в то время как исследователь бурно протестовал. И вновь ни один испытуемый не прикоснулся к кнопке.
При конфликте авторитетов испытуемый прекращал действия
Склонность испытуемых к безоговорочному повиновению авторитетам была подтверждена результатами ещё одного варианта основного исследования. На этот раз «учитель» оказывался перед двумя исследователями, один из которых приказывал «учителю» остановиться, когда жертва молила об освобождении, а другой настаивал на продолжении эксперимента. Противоречивые распоряжения приводили испытуемых в замешательство. Сбитые с толку испытуемые переводили взгляд с одного исследователя на другого, просили обоих руководителей действовать согласованно и отдавать одинаковые команды, которые можно было бы без раздумий выполнять. Когда же исследователи продолжали «ссориться» друг с другом, «учителя» пытались понять, кто из них двоих главнее. В конечном итоге, не имея возможности подчиняться именно авторитету, каждый испытуемый-«учитель» начинал действовать, исходя из своих лучших побуждений, и прекращал наказывать «ученика».
По мнению Милгрэма, полученные данные свидетельствуют о наличии интересного феномена: «это исследование показало чрезвычайно сильно выраженную готовность нормальных взрослых людей идти неизвестно как далеко, следуя указаниям авторитета».
Нейрофизиологическое исследование показывают, что наблюдение участников за обучаемым, получающим удары электричеством, не активирует у них области мозга, заведующие эмпатией.
В 2015 году Патрик Хаггард из Университетского колледжа Лондона с коллегами из Свободного университета Брюсселя провели новое исследование, в котором эксперимент усложнили. В ходе этого эксперимента, включавшего в себя снятие ЭЭГ, было выявлено, что человек снимает с себя ответственность за действия вне зависимости от характера подаваемого приказа.
* * *
В 2017 году польские социальные психологи из Университета социальной психологии и гуманитарных наук Дариуш Долинский, Томаш Гржиб, Михал Фолваржный, Патриция Гржибала, Каролина Кжужиха, Каролина Мартиновска и Якуб Трояновский попробовали повторить эксперимент Милгрэма. Итоги их работы были опубликованы в статье «Вы бы причинили электрический шок в 2015 году? Послушание в экспериментальной парадигме, разработанной Стэнли Милгрэмом, в течение 50 лет после оригинальных исследований» в научном журнале Social Psychological and Personality Science (англ.)русск.[11]. В эксперименте приняло участие 80 человек в возрасте от 18 до 69 лет, число мужчин и женщин было равным. Половине участников за вознаграждение было предложено производить нажатие десяти различных кнопок, которые якобы должны были посредством электрических ударов различного напряжения причинять физическую боль другой половине испытуемых (в действительности никто из участников не подвергался ударам тока). В итоге было выявлено, что почти 90 % участников готовы были пойти на это. Также было установлено, что если в качестве жертвы выступала женщина, то число согласившихся на причинение физических страданий уменьшалось.
Википедия