Письма и записи
«Чурлянис, — писал Бенуа в 1912 году, — пришел в неудачный для своего искусства момент. Ныне от живописца требуют, во-первых, живописи, и его — бледного, блеклого, тусклого, довольно беспомощно и дилетантски рисовавшего — приняли за „не-живописца“, за „не-художника“».
Прошло семьдесят лет. Время «живописи» не сменилось временем «бледнописи» и никогда не сменится, а Чюрленис стал знаменит и общепризнан. Вообще с тех пор так много появилось знаменитостей, непосредственному чувству довольно широкой публики ничего не говорящих, что она часто готова к самому неискреннему восхищению, чтобы не попасть в разряд отсталых провинциалов. Поэтому доказывать, что Чюрленис — звезда первой величины на художественном небосводе, вовсе не значит ломиться в открытые двери. Наоборот, стоит перепробовать все средства в этом доказательстве.
Лейпцигский «дневник»
«Лейпциг... май... ночь... Злой, страшный час. Нечеловеческая нуда... Спать не хочу, и ничего не могу делать. Немцы уже давно спят. Тихо, ничто не шевелится. Только в лампе что-то жужжит, да шуршит перо по бумаге. Где-то вдалеке слышен извозчик, тише, тише — вот и совсем не слышно. Люблю тишину, но сегодня не могу ее перенести, кажется, будто кто-то крадется. Страшно. Пришла мне в голову мысль, что в этой тишине скрывается важная тайна. Временами кажется, что эта тихая и темная ночь — какое-то исполинское страшилище. Раскинулось оно и медленно-медленно вздыхает. Широко открыты застывшие огромные глаза, а в них — глубокое равнодушие и какая-то важная тайна.
По Эльзасской улице несется повозка. Уехала. Опять абсолютная тишина... Теперь тишина создает впечатление великой паузы... Тяжело. Прошлое куда-то пропало, будущего еще нет, а настоящее — пауза, — ничто».
Это фрагмент письма. Достаточно было опустить лишь несколько слов и предложений, чтобы превратить его в самостоятельное и, можно смело сказать, художественное произведение. Такое стихотворение в прозе не исключительное явление в письмах Чюрлениса.
Призвана ли явная поэтичность таких отрывков лишь выразительнее донести до адресата чувства пишущего, или эти всплески лирики имеют и другую задачу? Личное ли здесь, или еще и сверхличное? И если второе, то нельзя ли здесь найти еще и словесное, написанное самим Чюрленисом, подтверждение того лейтмотива, что пронизывает предыдущие главы книги?
Больше половины опубликованных нынче писем художника в оригинале существуют не в виде собственно писем, посланных по почте и сохраненных адресатами, а в виде толстой тетради, начатой Чюрленисом в 1901 и оконченной в 1902 году, когда он учился в Лейпцигской консерватории. Одни письма он туда переписывал перед отправкой, для других писем эта тетрадь служила черновиком. Странно? Безусловно. Но что, если это глубоко рациональная затея, если эта тетрадь — заметки для будущего творчества?
Луначарский разделил как-то великих людей на гигантов мысли, гигантов общественной работы, гигантов индивидуального «искусства жить» и гигантов углубленного переживания. Чюрленис, без сомнения, относится к последним. Даже сравнительно банальные жизненные обстоятельства служили ему источником сильнейших переживаний. Особенно частыми были в его жизни удручающие моменты. Вот и в Лейпциге, живя не в такой уж дали от родных и близких, но не имея денег даже на короткую дорогу, чтобы повидаться, Чюрленис безмерно скучает, скучает до боли в груди, до слез на глазах, до разговоров с самим собой.
«Живу письмами, — пишет он. — Заметил, что иногда думаю письменным образом, например, так: „Знаешь, Генька, мне кажется, что побочную мысль в финале нужно убрать“».
Он не знает языков и не может сойтись ни с немцами, ни со студентами других национальностей. Правда, тут же учится его бывший соученик по Варшавской консерватории. Но Чюрленис — максималист: все или ничего. Соученик неумен и банален, и Чюрленис предпочитает жестокое одиночество обществу неинтересного человека: «Трудно мне здесь, Генька. Бывают дни, когда не имею случая выговорить ни одного слова (даже по-немецки)... бывает, что работать не можешь, и говорить не с кем, и пойти некуда».
Зная себя и предвидя обострение всех переживаний под влиянием разлуки и одиночества, Чюрленис вполне мог извлечь из этого пользу для искусства, заведя своеобразный дневник эмоций в форме писем. За 210 дней 145 писем!..
Чюрленис и впоследствии вел не совсем обычные дневники (они не сохранились, но сведения о них дошли). Они были выдержаны в том же духе, что и живопись: глубоко лиричны, символичны, музыкальны. Но уже и лейпцигский «дневник» сверкает поэтическими жемчужинами. А в отношении к своим минорным переживаниям как к чему-то прекрасному Чюрленис признается в «дневнике» едва ли не прямо.
Вот что написано за три месяца до окончания учебного года и возвращения домой в Друскининкай: «...немного стал завидовать жаворонкам и аистам, пролетающим в ту сторону, за то, что позволяют себе перегнать меня, но это ничего. Кто знает, может, этот самый аист прощелкает мне приветствие в Друскининкай. Эх, Генька, жаль, что ты не знаешь, что значит вернуться в родимую деревню». Или вот — о рождественских каникулах, проведенных в одиночестве: «Праздники мои были невеселые, но не надоело. Мне было грустно и как-то хорошо».
Вся жизнь Чюрлениса, почти до минуты, представляла собой скрытое или явное творческое деяние. Он оставался художником даже в самые страшные часы своей жизни. Его душа была высшей пробы, и поэтому при столкновении с судьбой, как огниво высекает искры, душа его рождала произведения искусства или, по крайней мере, их предвестия.
«Уже несколько часов, как сижу и жду, что чего-нибудь захочу. Страшно тяжело. Встал рано и сразу взялся за трио, через пятнадцать минут бросил. Взялся за фуги, тоже бросил. Ничего не могу делать и ничего не хочу. Ни на что не хочу смотреть, не хочу двигаться и, что хуже всего, не хочу существовать. И нет выхода. Все время чувствую, что я существую, что, ничем не занимаясь, делаю плохо. Чувствую, что время безостановочно идет, и мне его жаль. Впечатление такое, что время — это очень важная поэма, играемая оркестром специально для меня. Кто-то мешает мне слушать — ничего не слышу. А жаль, композиция идет все дальше, может быть, скоро кончится. Так что не услышал — пропало. Эта композиция — жизнь, и она играется только один раз. Плохо...
Все гибнет, проходит. Будущее обратилось прошедшим, и что в нем — перегной, глупость. Так много сказано и передумано о ЖИЗНИ. Жизнь... О! Жизнь... Где она, покажи? И вот это и есть жизнь? Чего она стоит? Красивейшие идеи немного позвучат в воздухе, люди послушают, послушают, похвалят, даже наизусть выучат, а свинская жизнь тянется своим чередом. Постоянно говорим что-то другое, делаем что-то другое. Столько слов! Так наглядны разные благородные и красивые дела... Где же эти дела? Разве мы имеем двойную жизнь: одну — мерзкую в действительности, а другую — красивее, благороднее — только на словах, в воздухе? Почему нельзя жить в одной только другой жизни? Почему она так недостижима? Чего я хочу? Хочу быть другим, хочу, чтоб было иначе, хочу другой жизни. Не знаю дороги. Покажи, если можешь. Постоянно хочу делать хорошее и не знаю, что есть добро, хочу идти и не знаю куда. Я слаб, потому что чувствую, что заблуждаюсь. Только покажи, в какой стороне та жизнь, и увидишь, сколько во мне найдется энергии.
Кончу это заведение, поеду в Петербург. Потом получу какое-нибудь место. Возьму в долг, выправлю себе приличную одежду, квартиру, подходящие сытые обеды, буду посещать знакомых, спокойно разговаривающих о текущих событиях. Как все это смешно, глупо и даже гадко. И это в перспективе. Может быть, не это называется жизнью? НЕУЖЕЛИ ОНА ПРОШЛА? ЖАЛЬ, ЕСЛИ ТАК.
В местном музее восемь залов. Первый раз, помню, вошел и был очарован: во вступительном отделе Мурильо, Беклин. Что будет дальше? Но в других залах картины были не такие красивые. В последних — несказанно гадкие. Помню, в восьмом зале стало грустно и жалко, что не увижу картин красивее. Вернулся к Беклину.
Неужели жизнь похожа на Лейпцигский музей? И уже ли то, что прожил, и было самой красивой картиной».
В истории стран и народов не раз наступали смутные времена, и искусство всегда умело их отражать. К концу XIX и началу ХХ противоречия, порожденные господством последнего эксплуататорского, самого, как писал Маркс, черствого и антихудожественного класса, достигли в Европе такой невиданной ранее остроты, что рассказ о неуравновешенном и негармоничном потребовал неуравновешенного и негармоничного языка. Родилась экспрессионистская тенденция в искусстве. Художники стали применять крайние средства для привлечения внимания к своему произведению. Отступление от ранее принятого, нарушение обычного и привычного — стало едва ли не главным среди приемов интенсификации художественного выражения. Выразительность (по-латински — expressio) во всех видах искусства начала вступать в качественно новую, высшую ступень. Искусство постепенно начало обретать способность отразить самую революционную эпоху человечества — крушение эксплуататорской эры и становление бесклассового общества. Живопись была первой, откликнувшейся на зов времени. Музыка отставала.
Когда Чюрленис зрел как композитор, поздний продукт музыкального реализма (в своем стремлении приблизиться к жизни, к отражению самых разных явлений внешнего мира, вплоть до неуловимо зыбких) — импрессионизм Дебюсси — делал тогда еще только первые попытки разрушить грамматическую основу музыки последних трех столетий. Радикальный экспрессионизм (Шенберг) — это воплощение крайних душевных состояний — «диссонантная» природа которого разрушила тональную систему, — тогда еще не существовал. К ниспровержению старых грамматик и правил с разных сторон шли современники Чюрлениса, равновеликие противники (Стравинский) и защитники (Скрябин) романтических экстазов. Но и они еще только начинали.
Не мудрено, что Чюрленис, как ни характерны были для него диссонансы, тогда еще не мог выразить в музыке такие отрицательные эмоции, как отвращение к собственной апатии и к порождающей ее «свинской жизни». Он тогда еще не мог в музыке передать такое впечатление, словно кто-то очень мешает слушать замечательную оркестровую поэму.
Быть может, он потому не мог, что ему не хватало такой меры таланта, какую он вскоре обнаружил перед миром на другом поприще, в другом искусстве — в живописи. Но тогда, в 1902 году, трагедия творца, не способного выразить себя, была действительно ужасна.
Но Чюрленис не сдался. Не служить искусству его могли заставить лишь смерть и безумие. И он сумел найти образ своему переживанию, пусть не музыкальный — литературный, но сумел. И у него поднялась рука дважды написать свой «вопль»: в письмо и в «дневник». А ведь текст длинен (здесь помещена лишь часть письма), он утомителен не только для письма, но и чтения — такова уж тема. («Вернее всего надоел тебе, но мне все равно, не читай», — бросает Чюрленис.) Значит, ценно было не только излить душу, но и надежно сохранить это стенание для себя. Зачем же, как не для будущих произведений?!
Для нас, по крайней мере, оно неоценимо, так как является единственным среди всех опубликованных писем прямым и развернутым суждением Чюрлениса об окружающей действительности в целом. К тому же оно достаточно красноречиво подтверждает трагический пафос его живописного творчества. Правда, это признание все-таки лишь единственное. Можно было бы сказать, что оно написано под плохое настроение, вернее, под влиянием того жизненного тупика, в котором Чюрленис оказался в 1902 году.
Действительно, у него тогда набралось много причин для глубокой меланхолии. Отказались играть уже, вроде бы, принятое к исполнению (в Варшаве) его лучшее к тому времени произведение для оркестра, рухнула единственная надежда услышать свое творение. Он разочаровался в качестве преподавания в Лейпцигской консерватории и, одновременно, особенно ясно понял, как много ему еще нужно учиться. Чрезвычайно неопределенной была вообще вся будущая жизнь в качестве композитора, музыканта. И все это в возрасте уже двадцати семи лет... Возможно, наконец, подумывал он и о том, что музыка по сути своей не приспособлена выразить самое в нем характерное, быть может, им самим еще хоть смутно, но уже ощущаемое, например (со стороны заметим): незнание дороги, вечные поиски, сомнения и... опять-таки незнание. (За полтора месяца до окончания учебы во второй консерватории в письмах мелькнуло такое: «...получу диплом, брошу музыку». Во всяком случае, после возвращения из Лейпцига Чюрленис, если говорить в общем, композиторство отодвинул на второй план, переключился на живопись и прославился впоследствии на весь мир как художник, а не как композитор.) Так что чисто биографически в 1902 году у него действительно был такой тупик, что впору было увидеть в черном цвете и жизнь, и все дороги в жизни.
Но вот почему все так сложилось, почему ничего нельзя было повернуть — на то были не только биографические (так, мол, сложилось), а еще и социальные причины.
Есть намек, что в исполнении симфонической поэмы ему отказали по националистическим соображениям: потому что он был литовец, а объявлялся концерт польских музыкантов. Найти себе учебную программу и учителя гораздо лучших, чем обеспечивало официальное преподавание, в Лейпциге можно было, но платить только за один урок у «великих» нужно было столько, сколько позволял себе Чюрленис потратить на двести своих вынуждено вегетарианских обедов. Надо было, наконец, хоть когда-нибудь, хоть как-то материально помочь большой родительской семье, еле-еле сводившей концы с концами. А музыкальное творчество что-то не сулило ни копейки заработка, скорее наоборот. Вот тогдашняя шутка Чюрлениса, увы, с большой долей правды: «Генька, сколоти, негодник, скорей миллион, создадим оркестр для твоих симфоний и моих поэм. Это было бы святейшее дело. Уж тогда никто не стеснял бы, а согласись, что только в таких условиях можно что-то написать».
Так что Чюрленис имел право сурово судить о жизни не только по настроению, не только по себе и не только от своего имени. И хотя его письма полны излияниями собственных чувств, было бы неверно видеть в этом эгоцентризм. Пусть не вводят в заблуждение даже его собственные слова в духе теории разумного эгоизма, мол, делаю добрые поступки, потому что они мне выгодны:
«Заметил, что если мне очень грустно и начинаю писать письма тому, кого взаправду люблю, — тоска проходит. Почему? Моя мысль сама собой переходит с моего «я» на того, кому пишу. Человеческая душа, заснув на собственном «я», опускает крылья. Трудно ей тогда. Но чем шире человек расправит крылья, чем больший круг облетит, тем будет легче ему, тем счастливее он станет». Выходит, будто думать поменьше о себе (а больше о других) стоит ради себя же!..
Да поймем мы правильно его скромность. Не разумный эгоизм это: слишком дорого он ему дался:
«В последние несколько недель я напустился на себя за то, что произвожу отчет чувств. Скучаю, скажем, за вами всеми. Скучаю временами так, что в груди начинает что-то болеть, и сердце как-то тянет. Рассудок делает вывод: «Очень скучаешь — хорошо, это признак того, что имеешь сердце, что привязан к своим, — и в то же самое мгновение прибавляет. — Но эта твоя тоска ничего не стоит, потому что даешь отчет себе о ней, потому что гордишься ею». На другой день мне грустно, а рассудок начинает свое: «А, опять скучаешь, хотя знаешь, что скучать это хорошо, что это признак доброго сердца, — и опять приходит другая мысль. — Кого ты преследуешь своими замечаниями? Не думай о том, что чувствуешь». Пишу письмо, а рассудок уж здесь: «Зачем ты пишешь то, чего не чувствуешь?» — «Как так не чувствую?» — защищаюсь я, а рассудок: «Если бы чувствовал, то молчал бы, а ты хочешь, чтобы другие знали, что ты чувствуешь, хочешь похвастаться». И так далее. Такие и тому подобные мысли настолько преследовали меня, что мне жизнь надоела... меня охватил пессимизм, который все отравлял и мешал работать. Какое-то время даже совсем не писал писем...»
Просто из-за творческой ориентации своего лейпцигского «дневника» (из-за желания, «чтобы другие знали, что ты чувствуешь») Чюрленис дошел до противоречия своего исключительно скромного характера с необходимым качеством любого романтического произведения, даже зародышевого: в образе автора давать проекцию того прекрасного, что есть в самой личности автора.
И пусть отдыхала его душа от письма другу или брату, пусть само искусство, пусть собственные его произведения с психологической точки зрения служили ему своеобразной техникой для освобождения его психики от давления непреодолимых проблем, — но все же служить своим талантом только на потребу личного Чюрленис не мог. Наоборот, он готов был пожертвовать чем угодно личным ради искусства.
О личной жизни
Дважды Чюрленису предлагали место («музыкального руководителя» в Люблине и преподавателя в Варшавском музыкальном институте) — и дважды он отказывался. Если место было престижное, достойное его профессиональной подготовки, материально выгодное и в меру необременительное для собственного творчества, то чем же он руководствовался, отказавшись?
Может, он был морально не готов к преподавательской деятельности на таком высоком уровне? «Говори, что хочешь, а я твердо убежден, что учитель композиции обязательно должен быть очень хорошим и возвышенным человеком. Скажем, я сейчас не мог бы быть учителем, потому что завистлив. Знаешь, что я тебя люблю, но все равно, как услышу что-нибудь очень хорошее из твоих композиций, то кроме радости, как и пристало другу, чувствую еще какую-то неясную грусть».
Но неясная грусть вполне могла быть предчувствием, что не музыка ему на роду написана. А вот отказ от места стоило еще раз и еще как-нибудь, в том числе и этак косвенно, мотивировать перед практичным другом, к тому же помогающим тебе деньгами.
Чюрленис быстро позабыл о своей мифической завистливости, когда через несколько лет, в разгар литовского просветительского движения (и, пожалуй, вопреки прихвостням царской администрации в Литве), он самодеятельно выступил с методическими рекомендациями для литовских композиторов.
Как тут не вспомнить, например, французского художника-демократа, знаменитого Гюстава Курбе, который отказался принять от Наполеона III орден Почетного легиона, мотивировав это нежеланием находиться с государством в каких бы то ни было отношениях. А через несколько лет, во время Парижской Коммуны, тот же Курбе вошел в комитет Коммуны по делам искусств.
Разве не так же поступил бы и Чюрленис, проживи он еще семь лет? И разве не является его отказ в 1900 и 1902 годах от казенной службы залогом подвижнической жизни — этой необходимой составляющей художественного канона всех смутных времен в истории человечества?
Своей судьбой и творчеством Чюрленис лишний раз подтвердил правило, что, по крайней мере, с середины XIX века ни один значительный художник или художественная ассоциация не претендовали на признание без наличия философской основы, героического или подвижнического образа жизни и выработанных на этом основании пластических закономерностей своего творчества.
Неискренность противопоказана искусству. А получать деньги от государства, деньгами же и втягивающего в «свинскую жизнь», и в то же время черпать вдохновение в неприятии такой жизни немыслимо для художника.
Полагают, что, назначая на выставках баснословные цены своим картинам, Чюрленис хотел, чтобы их не покупали и, тем самым, чтобы они не расходились за пределы Литвы. Но, с другой стороны, известно, что он отдавал картину даром, если видел, что она понравилась, но не по карману зрителю. Противоречие этих соображений друг другу снимается, если заметить, что и в том и в другом случае Чюрленис, между прочим, избегал одного и того же — акта купли-продажи. И если результатом такого бессребреничества была нужда в самом необходимом, то тем лучше для художника, потому что в «свинском» обществе источником красоты является разлад со средой, а не гармония.
Не очень утрируя мироотношение Чюрлениса, можно сказать, что отмороженные пальцы (однажды зимой ему не на что было купить перчатки), катар кишечника (он годами ненормально питался по бедности) и нередкое одиночество — все это больше способствовало его успехам в живописи, чем «приличная одежда, сытые обеды и знакомые, спокойно разговаривающие о текущих событиях».
В своем подвижническом максимализме Чюрленис дошел до крайности даже в отношении к женитьбе, вообще к женщине: «Я скромный, как и раньше; временами приходит в голову соблазнительная мысль, и тогда бывает очень тяжело, но попросту такое состояние долго не держится, и до сих пор еще не соскользнул».
Почему же не держится долго такое состояние? — спросит читатель. — Потому что при всей своей чувствительности управляла им все-таки не она, а воля, нацеленная на искусство, на общественное, а не на личное. Поэтому он продолжает: «Очень грустно, Генька, как подумаешь, что так пройдет вся жизнь, потому что, наверное, не женюсь, по крайней мере, не предвижу для себя такое счастье». И в другой раз: «Мне кажется, что жена нужна тогда, когда для счастья уже больше ни в чем нет недостатка». А когда же такое случится с человеком, находящимся в безнадежном разладе с окружающей действительностью и на словах, и на деле?
Поддразнивая, как он сам ниже (в письме) и признается, одного своего товарища, Чюрленис прямо — хоть и с самоиронией — связывает свой обет безбрачия с жизнью в искусстве: «Старый холостяк — страшная вещь. Прямо траурная! Глупая, банальная, словно опрокинутая жизнь. Верь мне, потому что пишу тебе почти по своему опыту. Если хочешь быть благородным человеком и нужным своему обществу, то в первую очередь женись (не вдруг, конечно). Или останься композитором...»
Справедливости ради следует отметить, что Чюрленис все-таки женился, и известны, по меньшей мере, несколько отрывков из его письменного наследия, освещающих его жизнь совсем в ином свете: как полностью зависящую от любовных перипетий и от едва ли не врожденных свойств его личности, а не от воли и мироотношения.
Первый такой отрывок — из записи, сделанной тогда, когда девушка, внушившая ему первую, романтическую любовь и, вроде бы, ответившая ему взаимностью, вышла замуж все же за другого: «Ведь я представлял себе счастье таким близким и возможным. Однако решил: «Счастлив не буду. Это столь же верно, как и то, что умру». Сие меня как бы утешило несколько, потому что убедился: так или иначе, — если это можно назвать убеждением, — открыл истину.
Да, счастлив не буду, иначе быть не может. Слишком легко раним, слишком близко все принимаю к сердцу, чужих людей не люблю и боюсь их, жить среди них не умею.
Деньги меня не привлекают, ожидает меня нужда, сомневаюсь в своем призвании и таланте и ничего не достигну. Итак, буду ничто, ноль, но буду знать свое положение».
А вот что написано почти в конце его недолгой жизни, в конце первого года его счастливой женитьбы:
«Пару лет назад мне было очень плохо и страшно трудно — не спал ночами и думал, что более несчастного человека нет на всей земле. А теперь почти год, как мне удивительно спокойно, светло и хорошо на сердце. Много вещей мне нравится, жизнь кажется очень красивой и интересной, даже материальные вопросы, которые сильно затрудняют внешнюю жизнь, внутренне почти не производят впечатления. Много узнал новых людей и с удовольствием вижу вокруг, что в людях больше достоинств, чем недостатков. Сердитый человек мне кажется отклонением от нормы и очень интересным феноменом, словно опутанным ошибочной идеей».
Или еще (письмо жене): «Ты хорошо знаешь, что ты для меня — весь мир и все Счастье и все-все».
В общем, получается как бы по французской поговорке: «ищите женщину». Она — корень и счастья, и несчастья, корень всего.
Но при всей правоте подобного мнения оно оказывается всего лишь поверхностным впечатлением. Искатель первооснов и первопричин, Чюрленис не женщину воспел в своих произведениях.
В свете этого стоит присмотреться к опубликованному его сестрой материалу. Вот его краткое изложение.
Чюрленис был любим. Его первая избранница ждала лишь его решения их общей судьбы. Что ж больше на нее влияло: решимость отца выдать ее за состоятельного человека (чтоб ей за Чюрленисом не пришлось «стирать белье на пятом этаже») или намерение ее любимого — «счастлив не буду»? — Да у нее и выбора-то не осталось. От ее предложения пожениться тайком, в расчете на будущее отцово прощение, Чюрленис отказался. Приобрести положение в обществе и тем умилостивить отца он тоже не хотел. Ей даже попасть в монастырь без денег нельзя было. Ее брат (и друг Чюрлениса) винил ее за нерешительность и слабость, и понимать, по-видимому, это нужно так, что она создала-таки впечатление у своего возлюбленного, что «материальные вопросы, которые сильно затрудняют внешнюю жизнь», затруднят ей (а следовательно, и ему) жизнь духовную, и тогда, в итоге, — прощай, свободное искусство.
Это как перед Чеховым приблизительно в то же время стоял почти тот же вопрос: или Лика Мизинова, любящая и любимая, но не мыслящая себя вне повинностей светского общества, или литература, не совместимая с этими повинностями... Если случается, что две страсти не помогают, а мешают друг другу, — великий художник выбирает одну: искусство. И он не бесчеловечен, потому что в первую очередь страдает сам, ибо он не волен перед высшей страстью.
А если Чюрленис все-таки женился через девять лет после первой любовной катастрофы своей на писательнице Софии Кимантайте, преданной творчеству почти так же, как и он, то в этом браке не было у него никакого отступления от своей высшей страсти, не было никакой измены искусству и себе.
«Счастье с нами, а если судьба немного мешает и препятствует, так уж такая у нее привычка. Увидишь, как она застыдится, увидев нас вместе... свято, твердо верю, — что серость, затертая проза не проникнет в наш Дом. Увидишь, потому что ты будешь охранять наш Очаг, моя чудная весталка. Вся наша жизнь сгорит на Вечном, Бесконечном, Всемогущем жертвеннике Искусства. И правда, Зося, разве мы не счастливейшие в мире?»
Ну, а если судьба все же не застыдилась и уже в тридцать шесть лет довела Чюрлениса до смерти, то сделала она это не случайно, а лишь под видом случайности.
Такую судьбу, судьбу жертвы, он выбрал себе сам, выбрал за счастье вдохновенного и почти непрерывного творческого горения: вдруг да удастся, наконец, найти и осветить заветную дорогу из этого темного царства «мерзкой действительности».
Чюрленис умер, лишь год-другой не дождавшись широкого признания. Но он и приспособлен-то не был к успеху в том обществе, которого на деле во многом чурался, а в глубине души — отвергал целиком. Нетерпеливый и непрактичный, он даже в первых признаках грядущей удачи видел только безразличные или отрицательные стороны.
« — Ваши картины произвели впечатление, — рассказал Добужинский и прибавил, что на сессии я удостоился единогласного избрания в «Союз». А Антокольский... едва не плясал от радости: — Уй, вы знаете, что десятками лет добиваются хорошие художники, чтобы туда попасть, а вы сразу!.. Однако, несмотря на это, страшно грустно, что: 1) выставка будет только в январе, 2) из-за маленького помещения «каждый участник экспонирует только по несколько вещей». — Вот и вся радость...
И еще вот так: «В январе буду участвовать здесь в выставке «Союза» (это группа первенствующих художников в России). Очень смешным кажется мне этот факт, потому что до сих пор не привык трактовать себя серьезно».
Перефразировав пословицу можно сказать, что в каждой позе есть доля правды. И в этой утрированной почти до фальши скромности есть все же искренность: невосприимчивость к общепринятой радости — пока «свинская жизнь тянется своим чередом».
Казалось бы, началось везенье: судьба свела с достойнейшей женщиной, умницей, красавицей; ее писательское творчество, им же и воодушевляемое, в принципе более приемлемой для литовской публики, чем его живопись, могло помочь ему дождаться-таки своего звездного часа. Но не тут-то было!
Отогретый ее любовью к нему и к его творчеству, он как бы потерял сопротивляемость студеному ветру жизни; «Зосечка моя, Зосенька милая, знаешь, показалось, что ты взяла что-то, без чего уже один жить не смогу...»
Теперь, даже когда он среди родных, — в Друскининкай, — но без жены, даже от случайной надобности там задержаться (а денег, как всегда, нет, чтобы ей или ему на денек подъехать друг к другу) — он теперь без нее тоскует так, что доходит до маразма. «Знаешь, я такой теперь ни на что не годный, когда бываю один, страшно! Слоняюсь из угла в угол и тоскую, нигде себе места не могу найти, а как подумаю о тебе, — мне настолько тоскливо и грустно, как еще никогда в жизни не было... И скажи мне, единственная, почему это время... теперь словно совсем не движется? Течет долгий скучный час и влечет за собой грустный и еще более длинный час с шестьюдесятью минутами-черепахами, и так без конца. И что хуже всего — все эти часы и минуты такие длинные и пустые, бесплодные, зря упущенные. Зоська, единственная, уже я теперь не представляю себе жизнь без тебя. Без тебя я совсем ничего не стою...».
А проклятый «материальный вопрос» все гнал и гнал его в Петербург на тщетные поиски достойного заработка и обрекал его на теперь уже гибельную разлуку с любимой: «...так ты думаешь, что я выдержу здесь один без тебя столько времени».
Не выдержал...
И если признать, что первопричиной трагического искусства является социальный строй, благодетельствующий одного за счет другого, если признать, что смена таких строев изобилует трагическими сюжетами и в искусстве, и в самой жизни, — то яркой иллюстрацией этой исторической необходимости трагедий будет творчество, жизнь и смерть Чюрлениса.
* * *
Пусть не покажется натяжкой столь неожиданный угол зрения на такие сугубо личные явления, как письма, женитьба, болезнь и т. д. Он закономерен, потому что даже в самом интимном движении мысли, чувства, воли, совести психика отдельного лица все же социальна. В художнике, человеке, умеющем лучше других людей выразить себя, это особенно заметно. Поэтому настоящий художник, будь он вне искусства реакционером, консерватором, либералом или революционером, настоящий художник не может работать только из соображений личной выгоды. Поэтому же Чюрленис даже с психологической точки зрения не мог относиться к искусству как к личному «клапану для выпуска пара».
Литературные пробы
Творец, самовыражаясь, испытывает чувство освобождения и радости. Но испытывает он это, главным образом, потому, что удалось выразить через личное — сверхличное, удалось послужить людям. Таким и был Чюрленис. И пусть не вводят в заблуждение прямо противоположные заявления его, что в искусстве, мол, больше найдешь счастья, чем во взаимоотношениях с людьми. Пусть не обманывает кажущаяся непонятность его картин, написанных, словно бы, только для себя. Именно взаимоотношения с людьми через свое искусство и составляли смысл его жизни. И если в живописи это еще может кое-кто оспаривать, потому, мол, что в ней только и слов, что в названиях картин, и слова эти ничего определенного еще не говорят, то в собственно литературном его творчестве (есть и такое, в качестве попыток, по крайней мере) гражданственность его пафоса видна, бесспорно, для всех.
«...Тучи так темны — видно, буре быть.
Нужен свет с собой, из себя в себе, черной бурей незадуваемый, чтобы всем светить, кто стоит в пути, окруженный тьмою неведенья, чтоб в себе, внутри, сами свет нашли, чтоб они дорогой своей пошли, а иначе буря снесет их всех, а такой за бурей прекрасный свет...»
Или вот пример, перекликающийся в гражданственности с горьковским Данко:
«О, Господи! Освети, молю, дорогу мою, потому что не знаю ее.
Выступил я впереди процессии нашей и знаю, что и другие за мной пойдут, чтоб только не идти прежним, ложным путем.
Блуждали мы по темным лесам, прошли долины...
Но теперь, Господи, еще труднее путь.
Передо мной высочайшие горы, голые скалы, пропасти. Это прекрасно. Это бесконечно красиво. Но дороги не знаю и казнюсь. Не из-за себя, нет. Но за мной же они. Господи, они же за мной идут. Вся процессия. Длинная-длинная. Голова к голове, через всю долину, и длиннейшим берегом реки, и через огромное поле, а конец ее в лесу прячется, и, пожалуй, даже нет ей конца.
Где же правда, Господи? Уж иду, иду...»
А лучше всего (словесно) свое кредо художника и гражданина Чюрленис выразил в притче о посланце.
«Устав мотаться по улицам большого города, я сел на скамейку, предназначенную для посланцев.
Была страшная жара, от желтизны и серости домов хотелось скрежетать зубами, ярко сияли пестрые вывески, тут и там блестели на солнце позолоченные шпили, а люди, измученные жарой, брели медленно, как в дреме.
Какой-то старик, совсем ветхий, едва волочащий ноги, опираясь на палку, с трясущейся головой, остановился передо мной и принялся упорно на меня смотреть. Его взгляд был грустным, терпеливым и как бы бессмысленным.
На его груди висели разные кресты, нанизанные на веревочку. Были там большие железные, немного поржавевшие, и меньшие — плоские медные, и малюсенькие серебряные — в общем, целая коллекция.
«Нищий», — подумал я и уже хотел вынуть из кармана медяк, но старичок странно сощурился и спросил таинственным шепотом:
— Приятель, скажи мне, как выглядит зеленый цвет?
— Зеленый цвет? Гм... Зеленый цвет... это цвет — ха! — такой, как трава, деревья... Деревья зеленого цвета, листья, — ответил я ему и оглянулся вокруг. Но нигде не было ни одного деревца, ни одного клочка травы.
Старик усмехнулся и взял меня за пуговицу: — Идем со мной, приятель, если хочешь. Я спешу в тот край... По дороге расскажу тебе... Это очень интересно.
А когда я поднялся и пошел с ним, он начал рассказывать:
«Когда-то, уже очень давно, когда я еще был так молод, как ты, мой сын, было очень жарко. Устав мотаться по улицам большого города, я сел на скамейку, предназначенную для посланцев.
Была страшная жара, от желтизны и серости домов хотелось скрежетать зубами, ярко сияли пестрые вывески, тут и там блестели на солнце позолоченные шпили, а люди, измученные жарой, брели медленно, как в дреме.
Долго я смотрел на них и страшно затосковал по лугу, по деревьям, по зелени, знаешь, по такой, майской зелени.
Внезапно поднялся я и пошел, и шел всю жизнь, тщетно разыскивая ее в этом городе.
Шел все вперед, спрашивая встречных людей, но они вместо ответа давали мне кресты.
Влезал на высокие башни, но вот беда — по всему горизонту был все город, город, а зелени — нигде. Однако я чувствовал, что она есть, в том краю, только я, должно быть, уже не дойду — старый.
Эх, если бы отсюда — недалеко, вот можно было б отдохнуть. Запах, жужжат мошки, вокруг зелень, трава, деревья...»
Взглянул я на старичка — он улыбается, как ребенок, и плачет. Еще немного прошли молча. Наконец, старичок произнес:
Ну, с меня хватит. Дальше не могу. Здесь уж и останусь. А ты иди, иди без отдыха. Говорю тебе заранее: жара будет постоянно; на этом пути ночи нет — только вечный день.
В пути говори людям о лугах, о деревьях, только не расспрашивай, или возьми веревочку, чтоб нанизывать крестики.
Ну, иди, счастливый, а я уж здесь останусь.
Но только отошел я шагов десять, старичок стал звать:
— Подожди, сын, — забыл: посматривай с высоких башен, так почувствуешь дорогу. А если будет еще очень далеко и одолеет старость — тогда там тоже будет скамейка для посланцев, а на ней в молодых людях никогда не бывает недостатка.
Ну, теперь иди.
Так сказал старичок, и я пошел дальше, и взирал с высоких башен».
Что такое вся эта притча, как не проповедь о жизни, без остатка посвященной людям? Пусть они еще как в дреме, еще не осознали своих чаяний, но они просыпаются, лишь только с ними заговоришь о зелени. Тому, кого осенило искать здесь, на земле, дорогу к лесу и лугу, они готовы отдать даже символы веры своей — кресты, — и тот становится народным посланцем и обретает силу духа неистощимую — только такая и может привести его к цели. Но цель оказалась все же слишком далека, а люди, отдав ему столь много, могут впасть в безверие, если слишком уж долго не сбывается их надежда. Так можно ли обрекать их еще и на духовные страдания? — Значит — молчать о зелени... — Но не хватит духа искать ее и искать одному, для одного лишь себя... — Тогда — говорить, но не спрашивать дорогу...
В общем, принцип единственный: все — для людей.
Притча о посланце была написана за несколько лет до 1905 года, и возникает вопрос: как при такой деятельной и самоотверженной любви к страдающему народу первая революция в России не открыла Чюрленису глаза на кратчайший путь к лучшему будущему?
Но, с другой стороны, где уж было ему разобраться в противоречивой буре революции, если даже самая передовая политическая партия (социал-демократов), выбирая этот путь, раскололась тогда надвое.
Слишком тяжелый груз векового пессимизма давил на Чюрлениса, на его окружение, на всю Литву и Польшу, чтобы он хоть раз взглянул на другую силу, на исторически необоримую интернациональную силу угнетенных классов царской России. Блестящую характеристику подобного мировоззренческого тупика дал Луначарский: «Это в высшей степени характерно для мелкой буржуазии, в особенности в момент, когда она умственно просыпается. При свете этого зажегшегося разума она только яснее видит окружающую ее тьму и, быть может, после нескольких судорог протеста, вынуждена признать свое бессилие. На этой почве развивается часто артистизм, который провозглашает искусство «миром иным» и бежит в него или в разные формы мистики. Чрезвычайно характерные формы такого романтизма являет... польская романтика, в особенности эпохи ее великанов — Мицкевича, Словацкого, Красинского и др. Однако почти те же формы пессимистической романтики мы видим позднее в раздавленной Россией Польше, например, у великих писателей недавнего прошлого — Выспянского, Жеромского».
Чюрленис — сын польско-литовского пессимизма, и в этом не вина его, а трагедия, потому что времена менялись, а впитанное с молоком матери бессилие — оставалось.
В 1901 году в ответ на преследование немцами польских учащихся в Познанской провинции варшавская молодежь учинила беспорядки перед немецким консульством. Чюрленис по этому поводу иронизирует, что гораздо логичнее было бы, по крайней мере, ему бы больше понравилось, если бы 1000 студентов, вооруженных палками, пошли бы брать Берлин. И далее — серьезно: «Мы должны гордиться, что мы поляки, а на глупые немецкие преследования отвечать только презрительным молчанием. Отнята у нас земля, свобода, право, но нашего языка, нашего сердца, нашей интеллигенции не вырвать у нас даже силой...»
Что это? Он даже не замечает, что преследования учащихся, беспрепятственно доведенные до логического конца, способны-таки лишить народ его интеллигенции, а там — и онемечить его! — Нет. Дело не в буквальном, конечно, значении фразы. Просто погибать, он считает, нужно гордо, а не суетясь.
А через двадцать лет и Польша, и Литва стали самостоятельными государствами, но этого Чюрленису не дано было предчувствовать...
И приближавшуюся революцию в России, вопреки самому себе, Чюрленис воспринимал не как порыв к «свету после бури», а как безрезультатные, в конечном итоге, порывы бури над морем:
«...Ветер уже владеет волнами и гонит перед собой, как овечье стадо.
Смотри, смотри, как все охотно бегут с ветром, все как одна, а их миллионы, и все больше находится.
Удержи под властью хоть одну, море-королева.
Какая страшная свора! От горизонта до горизонта волны, волны, волны.
Смотри, твои исполины поднимаются, но и они уже не в твоей власти. Ты пенишься, великое море!
Ветер им велит раскрошить скалы на сотни миль, и они бегут, доверяясь, завывая, и ломают свои слабые груди о холодный камень и умирают; новые ряды поднимаются и тоже умирают.
Ветер нагоняет все новые стаи, наконец, надоело ему, и, все бросив, летит он дальше с посвистом.
А ты пенишься, море, великое и бессильное.
Ветра уже давно нет. Ты собираешь свои силы, свои остатки, горестно дождалось их и уныло жалуешься, как ребенок. Чего жалуешься, море?
Или тебе жаль твоих деятельных волн, от которых осталось только немного пены и ничего больше?
Не жалей их! Опять придет время, и подует ветер. С другого края поднимет он новые волны и угонит их, куда захочет. И тогда не будет недостатка в деятельных великанах, от которых опять останется лишь немного пены и ничего больше».
А в частном письме эта же тема выглядит так: «В России близится буря, но, как и до сих пор, — без серьезных последствий. Умы не подготовлены, и все кончится победой казачьих плеток».
Выходит: нет «света в себе», значит, не видать и «света после бури»...
Ленин писал: «Рабочие строят новое общество, не превратившись в новых людей, которые чисты от грязи старого мира, а стоя по колени еще в этой грязи». Но, увы, максималисту Чюрленису такая точка зрения была неведома. Поэтому он мог относиться к социал-демократии лишь как к бесполезному ветру и мог лишь иронически называть членство в рабочей партии благородным делом, а по сути он отговаривал брата от этого дела.
А как немногословно и, в сущности (опять!), иронически описывает он политическую деятельность ближайшего друга, высланного за нее впоследствии из Польши: «...болеет манией собирать глиняные чашки, а когда бывает в хорошем настроении, то говорит социалистическую речь; залезает на стол или стул и начинает словами: «Товарищи!» ».
И все его описание революционной Варшавы, посланное в Америку брату, выглядит, как репортаж американского наблюдателя: интересы штатов, мол, все это не затрагивает, но любопытными могут показаться несколько подлинных зарисовок экзотического и натуралистического характера. Выделенные (не Чюрленисом, правда) слова прямо подтверждают такое впечатление от письма.
«Варшава с самого начала беспорядков сделалась довольно интересным городом... жалко, что не можешь ее созерцать во всех фазах революционного развития. Представь, например, на середине улицы толпы, бьющие витрины и фонари... Этот первый вид можно было бы так описать: Варшава молчит, звон стекла... и опять картинка: Варшава, ночь, какой-то гражданин идет с фонарем... где-то горит монополька. Другой день — виды другие: тихо и спокойно... тротуары полны стекла разной толщины... Временами слышны залпы карабинов... Или следующий вид: Варшава вышла на улицу. Около двадцати большущих флагов с белыми орлами, двести тысяч голосов поют «Бог сотворит Польшу...», вой, с балконов льются слезы, изо всех окон машут платочками, радость, портреты Костюшки, солдаты снимают шапки, звонят колокола... на другой день на улицах устанавливается порядок, на углах вывешены объявления: «Военное положение»... В Дзелне и Новолипках выкатили пушки. Какой-то мальчик хотел срезать объявление о военном положении и упал, опрокинутый пулей. На улицах собираются кружками люди, рассеиваются и вновь скопляются, показалось шествие с красным флагом. Поют революционную песню, поют неправильно, люди похожи на лилипутов, красный флаг напоминает наволочку. Показались войска, шествие растрепано, флаг спрятан под полу пиджака. Иногда бросают бомбы, которые взрываются со страшным шумом, но с малыми результатами. Намного больший результат дают солдатские карабины. Кое-где бунтуют солдаты, тогда всех охватывает настоящая радость, но это на самом деле становится началом конца. Худшее — это что сделалось множество различных партий, которые вместо объединения против власти, энергично борются в междоусобных раздорах. В последние дни были интересные детские демонстрации с красными флагами. Раз встретил такую процессию из пятидесяти мальчиков от 8 до 10 лет. Они несли красный флаг и пели революционную песню «Веками палачи проливали нашу кровь». Удивительно выглядело, инстинктивно снял шапку, другие, встречавшие их, тоже снимали шапки. Армия в детей стреляла.
Раз случилось заметное происшествие. На Хлодной улице маршировала рота, и вышла пьяная сборщица костей. Командир роты — молодой красивый офицер. Сборщица костей преградила им дорогу и задрала на голову юбку со словами: «Вот вам, стреляйте, мать вашу ...» Молодой офицер скомандовал, и сотни пуль посыпались в нечистую костлявую сборщицу. — Как тебе это нравится? Такие и похожие вещи теперь часто происходят в Варшаве».
Итак, перед нами как бы несколько видов из окна... из какой-то «хаты с краю». В общем потоке, не выделяясь, без абзаца описаны разнокалиберные события. Абзацем, правда, выделено «заметное» происшествие со сборщицей костей... костлявой (каламбур!?). Объективность. Дистанция. Невозмутимость. Ровный тон. Неизвестно, откуда это все взялось у такого чуткого человека и не дает ему в пространном письме на несколько страниц хоть как-то остановиться на своих чувствах по поводу увиденного. Одно-другое эмоционально окрашенное словцо, брошенное походя, и не больше. Так поверим мы в его равнодушие?
В дни всеобщего действия не быть фарисеем и сочувствовать — можно было только содействием. Но, содействуя, он бы перестал быть собой, лицемеря — тем более. И он выбрал мнимую невозмутимость, псевдоотстраненность, видимость эпической дистанции и объективности. Чего это ему стоило, мы не знаем, но зато знаем, — как сказал Гейне, — если мир раскалывается надвое — трещина происходит через сердце поэта.
В чем-то, правда, Чюрленису было просто: он ничего хорошего не ждал и все плохое предвидел. Вот и преобладает такое соотношение сил в его «видах из окна»: ругающаяся сборщица костей — и рота солдат, пятьдесят поющих мальчиков — и войска, двести тысяч поющих глоток — и пушки...
По Чюрленису получалось, выражаясь в духе его же образов, что дробить мостовую и рушить здания того сказочного жутко-знойного города (чтобы расчистить почву для травы и деревьев) — бесполезно. Город как бы бесконечен. Слишком далеко до лугов и лесов, никакой ветер пока не донесет оттуда семян, а в самом городе семян нигде нет. Так что нечем сейчас засеять взрыхленную землю за баррикадами и рано ее рыхлить. Лишь поколения подвижников надежды могут помочь городу, могут дойти до леса и луга и принести заветные семена будущего.
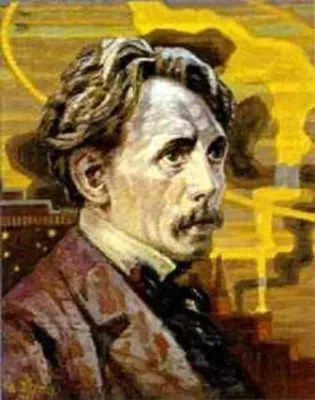

Оставить комментарий