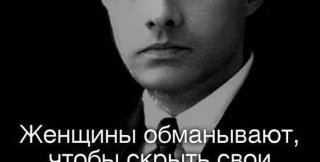Дневник
Цель нашу нельзя обозначить. Цель наша — концы отдавать.
«Цель хиппи нельзя обозначить. Цель хиппи — концы отдавать. А цель хиппиота — подначить. Оплакать. Романтизовать»
* * *
И что ни день, нас требует к ноге не то элита, а не то малина, не то разговорившаяся глина, не то иная вещь на букву «г».
Новелла Матвеева
Ах, добродетели падение — не ново:
Новее наблюдать, как низко пал порок.
Новелла Матвеева
Автодух исключает творчество, полагая, что функционирует всегда и в любой момент, вне прошлого и вне будущего. Отсюда неограниченная память автодуха.
Для автодуха существует лишь то, что он помнит, а то, что он не помнит, не существует.
Автодух ничего не забывает, потому что не помнит себя.
Против Слова – число. Антихрист обозначается не именем, а числом 666.
«А над богами царит сущее вечно число» (Пифагор – Якоби – Флоренский), что и есть автодух.
Триединство – не число, а целое, которым созидается и превозмогается число.
Автодух преодолевается Духом, но в самом преодолении продолжает функционировать.
Автодух не существует (не есть), но функционирует.
Автодух не мыслит, а вычисляет, не думает, а вспоминает.
У автодуха нет воли, так как автодух функционирует автоматически.
Автодух – механизм бытия, включая мышление, но над автодухом творчество.
Владимир Микушевич
У Мандельштама последний чудный черт в цвету, когда Марина Цветаева пишет своего "Черта"; одна и та же черта: течь Ра - чёрное солнце; речь та:
Поэт - издалека заводит речь.
Поэта - далеко заводит речь.
Никуда ли? Кину дали! Дальше некуда.
В мироощущении Мандельштама присутствует естествознание, но не природа, а без природы и культуры не существует, и остаётся лишь смерть: высший творческий акт, "бессмертья, может быть, залог".
Мандельштам погиб за "душегубца и мужикоборца". Сталин оценил эти слова настолько, что не мог отказать их автору в бессмертии.
Владимир Микушевич
Чтобы вырвать век из плена,
Чтобы новый мир начать,
Узловатых дней колена
Нужно флейтою связать.
Осип Мандельштам
Век мой, зверь мой, кто сумеет...
ЕЩЕ К ВОПРОСУ О СОФИИ, ПРЕМУДРОСТИ БОЖИЕЙ
(ПО ПОВОДУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АРХИЕРЕЙСКАГО СОБОРА В КАРЛОВЦАХ)
январь 1936 г.
Его Высокопреосвященству Митрополиту Евлогию
профессора прот. Сергия БУЛГАКОВА
Докладная Записка.
Вашему Высокопреосвященству угодно было предложить мне высказать свои соображения по содержанию Определения архиерейскаго собора в Карловцах от 17-30 октября 1935 года о моем учении о Софии, Премудрости Божией*). Прежде чем обращаться к разбору отдельных положений этого Определения, я почитаю необходимым изложить некоторыя общия соображения (отчасти уже высказанный мною в ответе на указ м-та Сергия.) В Определении, наряду с другими моими сочинениями, делается особенно много ссылок на мой труд «Свет Невечерний», как еретический. Я утверждаю снова, что этот труд, вышедший в 1917 году, был известен как Московскому Священному Собору с свят. патр. Тихоном во главе, так и рукополагавшему меня в сан священника, по благословению патр. Тихона, преосвящ. еп. Феодору, б. ректору Московской Духовной Академии. Никто никакого отречения при этом от меня не требовал. Сам я (да и не я один) разсматривал эту книгу даже как известное основание для соискания священнаго сана, и я был принять в клир Православной Церкви, будучи автором этой книги, следовательно со всей ея проблематикой и доктриной. Приговор Священнаго собора и патр. Тихона был произнесен самым фактом этого принятия, которое со стороны собора было подтверджено вторичным избранием меня после рукоположения в члены Высшаго Церковнаго Совета, т. е. одного из двух высших церковных учреждений. Поэтому, поскольку
___________________________
* Напечатано в «Карловацких Церковных Ведомостях» и отдельной брошюрой.
1
эта книга моя в Карловацком Определении трактуется заведомо как еретическая, причем от меня требуется публичное от нея отречение (в составе других моих сочинений), я не могу не усматривать в этом акте не только молчаливаго противления действиям свят. патриарха Тихона и Московскаго Священнаго собора, но и прямого осуждения этих действий. Такое осуждение со стороны сравнительно низшаго органа в отношении к самой высшей церковной власти Русской Церкви является действием неканоническим, подрывающим самыя основы церковной дисциплины и нарушающими условия нормальнаго развития богословской мысли. Эта же тенденция проявляется с еще большей силой в книге арх. Серафима, который предлагает в ней, насколько мне известно, подвергнуть церковному осуждению не только мою доктрину, но и учение Влад. С. Соловьева и о. П. Флоренскаго. Что касается перваго, то «Чтения о Богочеловечестве», основной его богословский труд, содержащий очерк софиологии, был печатан в 1881 году в Православном Обозрении, одном из лучших наших богословских (и, конечно, тогда подцензурныхъ) журналов (а затем был лишь повторен в его французской книге La Russie et l'Eglise universelle), и при жизни его не навлекал осуждения или даже сомнения (которое вызывалось некоторыми его латинскими мнениями). Он отошел к Господу не только в мире с Церковью, но и признанный — не только в светской, но и в духовной печати — как один из мирскихь путеводителей ко Христу. Поэтому, несомненно, идея теперь анафематствовать учение Соловьева включает осуждение не только его, но и всего церковнаго общества (с иерархией включительно), почитавшаго Вл. С. Соловьева. Еще более разительно осуждение о. Павла Флоренскаго, который был священником и профессором Духовной Академии, редактором ея журнала «Богословский Вестник» в течение ряда лет, причем пользовался особенными, доверием преосвящ. Феодора, ректора Академии. Очевидно, что и здесь вместе с П. Флоренским, все эти органы церковной власти также обвиняются в попустительстве в отношении к ереси. Во всяком случае, я утверждаю, что самое право на существование софиологии — в ея проблематике и богословском изследовании — наряду с другими богословскими учениями уже признано Русской Церковью в течение 10-летий и притом со стороны самых высших ея органов, и оно не может быть отнято от русскаго богословия. В случае же противоречивых суждений надлежит руководиться отношением более авторитетнаго органа в сравнении с менее авторитетным: так понимаю я путь подлиннаго церковнаго послушания.
Отмечу другую характерную особенность «Определения». В нем подвергаются суровой критике мои богословския построения, они обличаются в противоречиях и т. д. Разумеется, я не считаю себя безошибочным, и не могу отрицать правомерности богословской критики, хотя бы и самой уничтожающей, поскольку она остается в пределах богословскаго обсуждения. Однако, дело в том, что Определение знает в своем методе богословской критики лишь одну категорию: ересь, почему всякая ошибка или противоречие, верно или неверно усмотренное вообще, квалифицируется только как ересь*), следователь-
_________________________
* Вот характерный пример: в Определении приводится ряд якобы противоречий в моем учении, которыя усматриваются в разных местах моих сочинений. Для меня не представляет здесь интереса разбирать эти действительныя или мнимыя противоречия (я сам отнюдь не устраняю возможности известных различий оттенков мысли в сочинениях, писанных на протяжении более чем 20 лет. В частности, как я уже заявлял, изложение Света Невечерняго, касающееся только космологии, меня самого далеко не во всем удовлетворяет). Но приведя эти «противоречия», «Определение» продолжает: «не мало противоречий... тоже отступление от учения Православной Церкви усматриваем». Таков прием этой критики, без всякаго затруднения делающаго переход от «противоречий» к «отступлению от учения Православной Церкви».
2
но, определение усвояет себе особую харисму логической непогрешимости в богословствовании, которое, конечно, должно являться делом общаго, соборнаго усилия даже при наличии взаимной критики, но с предоставлением известной широты дискуссии и даже возможности ошибок. Последних избегает лишь тот, кто ничего не делает.
Такая неумолимость в богословской критике, с применением категории ереси в качестве единственной, особенно неожиданна в акте, подписанном именем митр. Антония, котораго мнения об искуплении, как всем известно, также встречают чрезвычайный протест и самое непримиримое отношение в широких кругах церковнаго общества, особенно в виду того, что митр. Антоний не только развивал эти свои мнения в богословской статье, но и включил в катехизис. Известно, что и в составе русскаго епископата имеются иерархи, относящееся к этому учению совершенно непримиримо, как к ереси: м. Елевферий, арх. Феофан, арх. Вениамин, вероятно, и другие. Не отрицая за м. Антонием, как богословом, права иметь свои частный богословския мнения, хотя бы и необычныя, я считаю, что это же право должно быть распространено и на других богословов.
Обращаясь к содержанию Определения, мы встречаем здесь прежде всего то общее суждение, которое нам пришлось разбирать уже в ответе м. Сергию. Мое учение объявляется не имеющим «достаточнаго обоснования для себя в Слове Божием и в творениях свв. отцов Церкви», а мои попытки найти таковое являются, «совершенно несостоятельными». На это суждение я имею ответить, что таковыя основания я все-таки нахожу или во всяком случае стремлюсь найти, что и стараюсь показать в своих сочинениях. И совершенно неверно, что «в замен» этого я ищу их «у язычника Платона и в каббалистическом учении». В другом месте читаем, что «говорить языком неоплатонизма или (?) гностицизма (?)» не значит говорить «языком Евангелия, Новаго Завета (что, конечно, безспорно) и вообще христианской церкви». Но спрашивается, можно ли даже по настоящему понимать язык Христианской Церкви без знания эллинской философии, и возможен ли теперь православный богослов, который бы не был осведомлен в античной философии, в частности в учениях Платона, Аристотеля, Плотина, стоиков и т.д.?*)
____________________________
* Здесь уместно привести следующую тираду... м. Антония: «Да, не ошибался древний великий язычник... когда доказывал, что в действительности существуют только идеи, неуловимыя нашими внешними чувствами, но постигаемыя высшими силами познающаго духа. Созерцать действительность не в ея внешних признаках, но в ея идее... научили нас и древние пророки. (М. Антоний. Собр. соч. I, 418. Слово перед отпеванием С. Родомскаго).
Не мешает помнить, что изображения этих «христиан до Христа» (по слову св. Иустина Мученика) помещаются иногда в притворах христианских храмов (например, в Благовещенском соборе Московскаго Кремля).
3
Упоминание же о Каббале, как источнике моей софиологии, может вызвать только изумление: конечно, в Свете Невечернем я излагал многия учения, как те, который разделяю, так и те, которых не разделяю; это обычный метод сравнительнаго изследования, но и только всего. Далее, подлинным источником моего учения объявляется гнозис Валентина. На это я могу ответить лишь то, что уже говорил в ответе м. Сергию: никакого отношения моя доктрина к гностицизму не имеет. Фактически им я никогда не вдохновлялся и даже не занимался сколько нибудь углубленно, и какое-либо влияние в смысле заимствования биографически является мне совершенно чуждо. Надо еще прибавить и то, что мы вообще недостаточно знаем и еще менее понимаем гностическия системы, сохранившияся для нас лишь в беглом и полемическом изложении свв. Иринея, Епифания, Ипполита. Поэтому быть под влиянием гнозиса, по правде сказать, и фактически невозможно, хотя, может быть, и очень удобно бряцать этим полемическим оружием. Наконец, ничего общаго гнозис с моей софиологией не имеет и потому, что он есть система эманативнаго пантеизма*), мне вообще глубоко чуждаго и даже враждебнаго. Вообще я самым решительным образом отвергаю приписываемую мне связь с гнозисом, ибо твердо знаю истинные источники своего вдохновения в этом учении: это Слово Божие и жизнь Святой Православной Церкви в ея литургике, в ея почитании Богоматери и святых — ангелов и человеков. Следующие признаки «гнозиса» находит Определение в моем богословии. Во-первых, учение о «двух премудростях». Я хотел бы понять точнее, что это значит, но ограничусь только напоминанием, что учение о двух премудростях, Слове до воплощения и после воплощения, из отцов Церкви свойственно, напр., св. Афанасию Великому, — поэтому не был ли и он гностиком? Во-вторых: учение о «образе Божием». Но это есть, прежде всего, библейское, святоотеческое и общеправославное, которое можно найти во всех догматических руководствах. И это — признак гнозиса? В-третьих,
________________________________
* Попутно я обвиняюсь и в «пантеизме»: «стремление раскрыть и обосновать в Софии все сущее всеединство при наименовании ея старым термином «душа мира» обнаруживает Неправославное пантеистическое мировоззрение». Почему? в чем здесь пантеизм и что он означает? Не являются ли в таком случае «пантеизмом» и слова апостола: «будет Бог вся во всем» (I Кор. XV, 28) или и I Кор. VIII, 6? По поводу «пантеизма» следует принять к руководству следующую мысль: «Теизм перестает быть теизмом и становится пантеизмом не через внедрение Бога в мир, но через отрицание в Боге жизни и вообще всякаго содержания, помимо того, которое проявляется в мировом развитии» (М. Антоний, полн. собр. соч., т. III, 105. Диссертация о свободе воли).
4
о Софии, как сущности творения и как творце мира: хотя в Определении и поставлены ссылки на соответствующия страницы моих сочинений, однако мое учение здесь изображается настолько невнятно и неверно, что трудно на основании такого изложения даже и говорить о сходстве или несходстве с гнозисом. И вообще вся эта попытка характеризовать мое учение, как гностическое, относится к разряду полемических приемов, которые не имеют для себя никакого оправдания в моих собственных сочинениях. Там, насколько я помню, едва ли найдется даже упоминание о гноиисе, в частности Валентиновском, который якобы является сокровенным источником моей софиологии. И не лучше ли просто обратиться к VIII главе книги Притч Соломоновых, соответствующим главам Прем. Сол. и др., чтобы найти этот действительный и не сокровенный, но откровенный источник? Премудрость Божия есть откровение Отца в Сыне и Духе Св. и потому существует нераздельно с божественными ипостасями, в то же время отличаясь от них в том же самом смысле в каком Божественная усия присуща единосущной Троице и по своему — каждой из ипостасей, не отделяясь, но и отличаясь от них. Она есть начало, которое имел Господь в начале путей Своих в сотворении мира (Пр. Сол. VIII, 22), и она соединяет и вместе опосредствует мир с Богом. Вопрос о соотношении мира и Бога живо занимает и христианское богословие еще в начальных и неуверенных его шагах, причем под влиянием односторонняго космологизма в понимании Св. Троицы оно склоняется к субординационнизму: Логос, как посредник между Богом и миром, понимается как неравный Отцу — одинаково у Тертуллиана и у Оригена, пока, наконец, эта мысль не получает для себя явно еретическаго выражения в арианстве, которое и было осуждено Церковью в Никее. Отчасти может быть, вследствие реакции на арианство, и самый вопрос об отношении между Богом и миром далее исчезает с поверхности догматической мысли, предметом которой являются преимущественно трудный и сложныя проблемы христологии. Только в некоторых высказываниях отдельных отцов Церкви: св. Григория Богослова*), св. Максима Исповедника, св. Іоанна Дамаскина, бл. Августина — о первообразах или прототипах творения мира в Боге**), да в учении св. Афанасия о сотворенной премудрости мы имеем, правда, в зачаточном и недоговоренном виде постановку вопро-
________________________
* Св. Григ. Богослов говорит, «чем была занята мысль Божия прежде, нежели Всевышний, царствуя в пустоте веков, создал вселенную и украсил формами? Она созерцала вожделенную светлость Своея доброты, равную и равно совершенную светозарность трисияннаго Божества (т. е. Божественную Софию)... Мирородный ум разсматривал также в великих своих умопредставлениях Им же составленные образы мира, который произведен впоследствии, но для Бога и тогда был настоящим. У Бога есть пред очами, и что будет, и что было и что есть теперь» (здесь сопоставляется София Божественная, как вечный прототип тварнаго мира, и София тварная, самый этот мир).
** См. экскурс в Купине Неопалимой.
5
са об основании творения в Боге, или, что то же, о Божественной Премудрости. Вопрос возникает с новой силой в нашу эпоху, искушенную именно в разных видах пантеизма и имеющую для христианской философии нарочитую задачу его преодоления. Религиозная философия знает следующия пути разрешения вопроса: 1. деизм, который фактически совпадает с атеизмом: здесь отношение между Богом и миром понимается как полная взаимная чуждость, так что становится непонятной и сама возможность творения; 2. пантеизм разных видов, от панлогическаго (у Гегеля) до материалистическаго, — практически это есть также атеизм, поскольку здесь так или иначе утверждается тожество Бога и мира, миробожие и человекобожие; 3. акосмизм или антикосмизм (в индуизме и в возращенной им философии пессимизма): здесь отрицается реальность мира, который объявляется иллюзией, а в основе своей (атман) отожествляется с Божеством: этот космологический докетизм приводить также к пантеизму; 4. манихействующий нигилианизм, для котораго мир, сотворенный из «ничего» и лежащий во зле, практически не признается имеющим в себе образ Божией Премудрости, чем повреждаются далее и основные догматы христианства о боговоплощении, преображении мира и его обожении. Ни одно из этих учений не соответствует христианскому откровению. И пред лицом всех этих трудностей богословие наших дней с неизбежностью заново ставит перед собой проблему о Боге в отношении к миру. Этим и определяется основная проблематика софиологии, который имеет дело именно с этой исконной христианской проблемой, заново ныне поставленной всем развитием новейшей философии и богословия*).
______________________________
* Начало софиологии можно найти даже и у... м. Антония: «Можно вслед за Григорием Богословом, признавать за всеми Божескими желаниями, мыслями и действиями некоторую, хотя пассивную, внешнюю реальность, большую реальность, чем имеют мысли и чувства человека вне его сознания. Тогда безконечная материя будет вечный, созерцаемый Богом, но не в себе существующий мир. По св. Григорию выходит, что творчество состояло в волевом реализировании идеальнаго мира, в его осуществлении для себя, а не для Божескаго только сознания, каковым он был вечно... творение материи можно будет понимать как усвоение Богом идеальнаго мира, т. е. своих мыслей, и человеческому сознанию, так что человек остается центром и целью творения, а материя будет существовать только в его и Божественном сознании и притом в последнем только как идеальное бытие, а не реальное, не в себе сущее» (ib. 109). Ср. также изложение учения м. Антония, очевидно, авторизованное, по поводу его юбилея, в «Ц. Вестн.» № 470 (13 окт. 1935). Здесь читаем «св. Библия отнюдь не говорить, что наш мир быль создан из «ничего»... мир быль создан не из «ничего», а из той жизни, которая была и есть у Бога. Владыка Митрополит, ссылаясь на Григория Богослова, объяснил, что «мир прошлый, настоящий и будущий вечно существует в Боге». По Евангелисту «в нем была жизнь». Жизнь Божества и есть истиннейшее, безусловнейшее и реальнейшее бытие, которое обнимает собою все сущее и при том с полной силой зависимости от Него. Творение мира, по изъяснению владыки, заключалось в том, что вечно существующий в Боге мир идей, духовный мир, был превращен в мир вещественный. Владыка ссылается на Григория Богослова, который поясняет, что все божеския желания, мысли и действия имеют большую реальность, чем мысли и чувства человека вне его сознания. Поэтому то, что невозможно для человека — превращение идеи в вещественный мир — возможно для Бога».
6
Она в том или ином виде неустранима из современнаго богословия, и в этом состоит raison d'etre и моих софиологических построений. Что же мы находим по этому важнейтему вопросу в богословии «Определения»? Для него просто не существует ни эта проблема, ни законность попыток ея разрешения. Моя мысль о Божественной Софии, как связующей и опосредствующей Бог и мир, без всякаго разсмотрения объявляется, во-первых, «гностической», а во-вторых, ложной, и это суждение является достаточным основанием для ея отвержения. При этом огульном отрицании, которое как бы само собой разумеется, в Определении отсутствует даже попытка дать свое собственное, положительное суждение по данному вопросу. Такой образ Действий в отношении к самому жгучему вопросу современнаго богословия является догматическим произволом, ибо нельзя одной нетовщиной и запрещениями справляться с догматическими проблемами*).
Учение о Софии далее называется произведением «обновленнаго дуализма». Что это может значить? Значить ли это, что я возстанавливаю восточное учение о двух богах: добром и злом? Но истолковать Софию, Премудрость Божию, как злой принцип, значить заведомо приписывать мне то, что так далеко от моих мыслей, как небо от земли. Далее приписывать мне наряду с «нашим» учением о Св. Троице учение «о Софии как о некоем другом Боге» есть столь же оснований, как и для истолкования его в смысле манихейскаго дуализма. Как я свидетельствую во всех моих сочинениях, св. София есть не Бог, но Божество в Боге, совершенно в том смысле, в каковом является Усия (или физис) во Св. Троице. Есть ли Усия во Св. Троице «другой Бог»? Конечно, задачей здраваго богословия, тринитарнаго и софиологическаго, является понять Усию-Софию во Св. Троице, как начало подлиннаго единосущия, триединой жизни и откровения, — Единицы в Троице и Троицы во Единице, не только в отношении тройства разнобожественных ипостасей, но и Их подлиннаго единосущнаго триединства в природе. Иначе получается не догмат Троичности, но тритеизм, противоречащий учению о Св. Троице и осужденный Церковью. Согласно Афанасьевсному символу, «единаго Бога в Троице и Троицу во единице почитаем ниже сливающе Ипостаси, ниже существо разделяюще... Но Отчее, и Сыновнее, и Св. Духа едино есть Божество, равна слава, соприсносущно величество. Каков Отец, таков и Сын, таков и Св. Дух». С точки зрения Определения и это православное учение о едином Божестве в троичном Боге остается понимать только как «некое другое Божество».
___________________________
* Оставляю без ответа ту серию якобы противоречий в моих сочинениях, которыя собраны здесь в связи с этим, не потому, чтобы я не мог на это ответить, но потому, что считаю эту мелочную полемику тут безсодержательной.
7
В развитие этой общей мысли мне приписывается Определением, что у меня «введением содействия гностическаго посредства искажается православное учение о творении мира вплоть до отвержения его. Ибо св. Церковь учит, что Бог сотворил мир через Ипостасное Слово Свое и Св. Духа, не мысля и не допуская здесь никаких посредников и содействий». У меня же «гностическое посредство заслоняет Божественное посредство (sic!) Сына и Духа Св., не оставляя места деятельности того и другого». Начну с того, что формулировка христианскаго догмата о сотворении мира дана здесь неточно и двусмысленно. Что значит, что Бог сотворил мир через Ипостасное Слово и через Св. Духа, или через Божественное посредство Сына и Духа»? Не возвращает ли эта формула нашу мысль к субординационизму, Тертуллиано-Оригеновсному, а далее также и арианскому, согласно которому Бог творить мир именно через посредство Сына и Духа Св., Которые, соответственно этому инструментальному своему значению, являются уже не равны «Богу» в Своем Божестве? Или же Определение, при всей неточности своих выражений, хочешь в действительности сказать, что Бог-Отец творить мир чрез Слово и Духа Св., как это подлинно соответствует православному учению, и тогда возникает вопрос, что же значить именно это чрез, введенное Определением в самую сердцевину догмата о творении мира? Определение даже не замечает, что здесь то именно и начинается настоящая проблема. Для меня она разрешается в том смысле, что Бог-Отец, как Первоволя, «Творец неба и земли», творит мир на основании Своего образа, который во Св. Троице раскрывается в Слове и Духе Св., и это-то самооткровение Божества, или Божественная София, и есть то Начало творения о котором говорится в Быт. I, I и в Пр. Сол. VIII, 23. Через здесь означает, что Вторая и Третья Ипостась в творении мира участвуют, так сказать, не ипостасно, но софийно, т. е. согласно Божественному содержанию Своей жизни. Бог-Отец говорит: да будет (Духом Св.) то и то (Словом, имже вся быша). Очевидно, именно эту самую мысль только и может иметь в виду Определение в словах о «Божественном посредстве Сына и Духа Св.» Но зачем же мне приписывается «гностическое посредство», «заменяющее Божественное посредство»? Бог и София не два начала, но единый Бог, совершенно также — не больше и не меньше — как Бог и Усия, ибо Усия в откровении и есть София.
И вот в результате всего этого суждения, подлинно скользнув над самой бездной арианства, Определение спешит заключить, что мое учение должно признать «еретическим как вероучение древняго гностицизма, примыкающее и к арианской ереси и по всему этому подпадающее под осуждение св. Церкви на I, а затем и на VI Всел. Соборах вместе с другими еретическими лжеучениями», одним словом, приписывает мне целый каталог ересей. Однако, опасно бросать камень в другого тому, кто сам в стеклянном доме. Непосредственно после этого неумолимаго суждения, продолжая свое обвинение, Определение само уже не скользит только на краю ереси, но прямо впадает в нее, допуская грубейшую догматическую ошибку. А именно мы в нем читаем: «далее в определении Софии, где она именуется «энергией Божией» и где София, как действие Божие отожествляется с Самим Богом, повторяется ересь варлаамитов, которые, в противоположность учению св. Гри-
8
гория Паламы, энергию Божию отожествляют с Самим Богом, на что и были осуждены определениями поместных К-льских соборов 1347, 1352 годов». Просто не веришь глазам, читая эти строки, в которых православный догмат принятый Церковью в согласии с учением св. Григория Паламы, приписывается его противнику Варлааму который был именно анафематстован за его отрицание*). В истории варлаамитских споров
_______________________
*) Учение Варлаама и Акиндина анафематствуется в синодике в неделю православия (греческий текст в Триоди Постной Афинское издание 1930 г. стр. 151-2, в славянском переводе у Ф. Успенскаго. Одесса 1893, стр. 30-38) в пяти анафематизмах, и противоположное учение св. Григория Паламы ублажается в пяти возглашениях вечной памяти (там же). Текст этот прямо свидетельствует то, что должно быть известно всякому богослову и архипастырю. Различие между учением паламитов и варлаамитов состоить в том, что первые, различая в Боге усию неведомую и трансцендентную от энергий, которыми Бог открывается, утверждают божественность и нетварность этих энергий и в этом смысле отожествляют энергию с Богом, различают в Нем ό Θεός и Θεότης. Напротив, варлаамиты отрицают самое различение между усией и энергией в Божестве, или сливая, отожествляя усию и энергию, или же признавая энергии тварными, даже человечески-субъективными состояниями. Так понимали они явление Фаворскаго света, тогда как паламиты видели здесь явление Божества, т. е. Самого Бога. Варлаамиты упрекали паламитов за это учение о множественности энергий Божества в многобожии, паламиты упрекали варлаамитов в арианстве и мессалианстве.
Как излагается в синаксарии недели второй В. поста, Варлаам -учил умовредно, яко общая благодать Отца, Сына и Св. Духа, и свет будущаго века, имже иправеднии возсияют яко солнце, егоже и Христос предпоказа на горе возсиявый, и просто вся сила и действие триипостаснаго божества — πάσαν δύναμιν καί ένέργειαν и все в божественном естестве, разнствующее —καί τό διαθέρον όποσοϋν τής ϐείας φύσεως — есть создано — κτιστόν — εναι — Благочестно же мудрствующия, яко не создан — есть божественнейший свет и вся сила и действо — καί πάσαν δύναμιν καί ένέργειαν (ничтоже бо воистину мощно есть ново приложити ко естественно присущим Богу) во словесех и писаниях пространных именова двобожники и многобожники». Соответственно этому анафематствуется (2) учение Варлаама, по которому Бог не имеет никакой природной энергии — μηδεμίαν ένέργειαν φυσικήν έχειν τόν Θεόν, но есть только одна усия — μόνην ούσιαν ίναι — как и то, по которому «одно тоже и совершенно неразличимо есть как божественная усия, так и божественная энергия», и не исповедается, согласно учению Святых и разумению Церкви, «усию в Боге и сущностную и природную Его энергию — ούσίαν τε έπιθεον καί ούσιώδη καί φυσικήν κούσου ένέργειαν. И эта же мысль получает положительное выражение в ублажении тех, кто исповедует веру в триипостаснаго Бога «не только несотвореннаго по сущности — άκτιστον κατα τήν ούσίαν, и ипостасям, но и по энергии — κατά τήν ένέργειαν — которая мо-
9
теперешние богословы нашли бы не мало для себя поучительнаго, — в частности св. Григорий обвинялся своими противниками в том, что в понятии энергия Божества им вводится многобожие, совершенно подобно тому, как теперь противники софиологии в Софии усматривают то «четвертую Ипостась», то «Другого Бога» и т. под.*).
Ложное понимание моего учения о Божественной Софии как об ином, небожественном или инакобожественном начале в Боге или наряду с Богом, приводить автора Определения к такому разумению: «еще более грубая, противная самой сущности веры христианской ересь вводится в определении Софии как Усии, существа Божия, называемой им самобытным началом наряду с Божественными Ипостасями, ибо этим нам дается понятие о Софии-Усии, как о каком-то втором Боге, вопреки учению св. Церкви. Последняя, как все мы хорошо знаем, смотрит на существо Божие и Божественный три Ипо-
_____________________
жет быть и сообщаема святым (как Фаворский свет). Итак сначала устанавливается различение в триипостасном Божестве: Его усия и Его же несозданныя, божественныя энергии анафематствуется отрицание существования такого различия в Боге. Но эта энергия в Боге, различаемая от сущности, в то же время отожествляется с нею по нетварной божественности своей, как софийное откровение усии. Эту то тожественность в божественной несотворенности именно и отрицали варлаамиты, которым Определение приписывает таким образом, в качестве ереси, православное учение. Именно учение варлаамитов анафематствуется (3) следующими словами: «еще с ними мудрствующим и говорящим что всякая природная сила и энергия — Πάσαν φυσικήν δύναμιν καί ένέρειαν — триипостаснаго Божества тварна κτιστήν. И этому противополагается «согласно боговдохновенному богословию святых и Церкви благочестивое мнение: несотворенна всякая природная сила и энергия триипостаснаго Божества». Еще анафематствуется (5) учение тех которые считают возможным применять имя Божества τῆς Θεότητος только к божественной усии, но отказываются применять его к Божественной энергии, ибо учение Святых и Церкви, свидетельствуя единое Божество Отца и Сына и Св. Духа, одинаково говорить о Божестве как в отношении к усии так и энергии. Пред лицом всех этих определений Церкви как же звучит Определение, приписывающее именно Варлааму православную мысль о божественности усии и энергии и почитающи ересью, осужденною соборами, то самое учение, которое они провозгласили как истинное?
* Здесь кстати вспоминается и «имябожничество», по случаю котораго я показываюсь повинным и в евномианстве. Лучше здесь не вспоминать эту печальную историю, которая еще на памяти у многих. Разсуждая же догматически, надо сказать, что, во-первых, три доклада, представленные Свят. Синоду (м. Антония, а. Никона, проф. Троицкаго) все между собою разноречат, выражают три разныя догматически несогласимыя точки зрения. Во-вторых, догматический спорь по существу не только не может почитаться законченным, но еще и не начинался. В Московском соборе, в подотделе сектантства, под председательством арх. Феофана, известнаго как сторонника имяславия, вопрос был обращен к догматическому доследованию, или, вернее, изследованию.
10
стаси не как на две, а как на одно самобытное существо Божие. т.е. Божественное Начало» (далее следует подтверждение мысли на основании библейских текстов). «Ведь совершенно несомненно, что самобытным началом может быть только Бог, как единое Божественное существо, каковым является в нашем христианском учении Божественная природа во всей Пресвятой Троице, так и каждая ипостась в отдельности».
Приписав мне совершенно чуждую мне мысль о том, что Божественная София есть «другой Бог», Определение пытается выразить правый догмат о Божественном триединстве, но при этом совершенно запутывается в неточностях. Я подвергаюсь упреку за то, что признаю Усию-Софию «самобытным началом наряду с божественными ипостасями». Если это понимать так, что в единосущии Св. Троицы я различаю три ипостаси и единую сущность, то я следую здесь прямому учению Церкви (см. выше). Также я различаю в едином Боге три раздельноличныя Ипостаси («ниже сливающе Ипостаси»). В известном смысле можно сказать, что и три Ипостаси, и единая природа существуют «наряду в одна с другой, однако это «наряду» есть лишь безсилие нашего языка выразить одновременно и троицу во единице, и единицу в троице, и единосущие, и единство Божие. И, конечно, это различение не есть только плод нашей мыслительной абстракции, но соответствует и божественной реальности, хотя и не поддается нашим рациональным схемам, которыя разрывает*). Для того, чтобы преодолеть все эти трудности для мысли, Определение применяет выражения, отнюдь не обычныя в богословской терминологии и по существу двусмысленныя. Именно различение тройственных Ипостасей при единстве природы оно погружает в «одно самобытное, т. е. Божественное начало». Что может значить это понятие «одного начала» в применении к Св. Троице, неведомое богословию? Вносится ли этим в тринитарный догмат западный примат сущности над Ипостасями? Далее это понятие «самобытнаго начала» разъясняется как «Бог, как единое божественное существо, каковым является в нашем христианском учении Божественная природа во Св. Троице». В этом непонятном определении можно видеть только новое подтверждение того не-православнаго имперсонализма, в который невольно впадает само Определение. Именно оно превращает триединое и единосущное божественное Лицо в безликое оно, в «начало или природу», с дальнейшим еще сопоставлением: «божественная природа во всей Св. Троице, так и каждая Ипостась в отдельности». Это последнее сопоставление природы и каждой из Ипостасей не поясняет, а только запутывает Дело, и я чувствую себя отнюдь не вразумленным таким смутным определением. Критика моей софиологии заканчивается тем, что мне приписывается понимание Софии как «особаго Божественнаго существа» (без пояснения, что именно значить здесь «существо»): «София трактуется как другое (?) Божественное существо, рядом с существом Божиим, что противоречит православному учению о Св. Троице». Последнее положение, конечно, требует доказательства. Триипостасный Бог имеет единую Усию или существо, единосущен, — таков православный дог-
___________________________
* См. мои Главы о троичности.
11
мат. Спрашивается, примышляется ли в Усии к Св. Троице «другое существо»? А если нет, то нет этого и в Софии, поскольку она тожественна с Усией, как ея самооткровение в Боге. Все недоразумение возникаешь из того, что «Определение» (также как и указ м-та Сергия) претыкается о ту мысль что Усия-София в Боге также любит Триипостаснаго Бога, хотя и особым образом любви, именно, не-ипостасной. Однако и она по своему осуществляет ту истину, что Бог есть любовь. Целым рядом библейских и церковных текстов я показал в ответе м-ту Сергию, что это именно так. Церковь учить о разных образах любви в Божестве, и рационалистическое противление этой мысли свидетельствуешь, что общая аксиома: Бог есть Любовь, ограничивается в своей силе у этих богословов, поскольку она не применяется ими к Божественной Усии-Софии. Согласно их утверждению Бог-Любовь имеет Свою сущность, Усию-Софию, на начале не любви, но некоего вещнаго, внешняго обладания, каковая мысль является величайшим противоречием в учении о Пресв. Троице, как Любви. Наоборот, в Боге все есть любовь, и нет ничего, что не было бы причастно любви. Представление о вещном обладании, чуждом взаимности любви, в применении ко Святой Троице противоречиво и хульно. Бог есть любовь не только в том смысле, что Его личное самосознание есть триипостасная любовь, Единица в Троице и Троица в Единице, но и Его природное бытие есть любовь, определяется любовью. Иначе сказать то, что Бог имеет Усию-Софию, означает, что Он любит ее, или в ней любит Самого Себя в триипостасном самооткровении (причем именно эта триипостасность освобождает эту любовь и к Самому Себе от всякаго себялюбия, напротив, делает ее жертвенным самоотвержениемъ). Но и Усия тоже не есть мертвая вещь, принадлежащая на начале внешняго обладания — сия хула да не будет! — ибо и на нее распространяется царство божественной любви, и она есть любовь, т. е. любит, хотя и особым образом не-ипостасной любви. Но образы любви могут быть многоразличны, одно и то же начало любви различается в ипостасном образе соответственно характеру ипостасей (Отец, Сын, Дух Святый) и в не-ипостасном образе любви усийно-софийной. На основании многочисленных свидетельств Церкви совершенно необходимо утверждать возможность и наличие разных образов неипостасной любви, в частности, например, — творения к своему Творцу.
Обращаясь к вопросу о боговоплощении, Определение заявляет, что я «неизбежно должен был столкнуться (!!) с определением IV вселенскаго Халкидонскаго собора». В ответ на это мнимое столкновение свидетельствую со всей ответственностью перед Христовой Церковью, что вся моя христология в Агнце Божием, как это, впрочем, должно быть ясно для всякаго непредубежденнаго читателя, стремится быть именно Халкидонским богословием, она проникнута пафосом Халкидонскаго догмата, в нем именно видит высшую мудрость христологии. Это в полной мере способен почувствовать тот, кто знаком со всей полемикой против этого догмата в протестантском богословии и с новейшим его отрицанием. И если я утверждаю, что Халкидонское определение оставляет место дальнейшему догматическому уяснению, то это свидетельствует лишь о моем почитании этого догмата, в котором я вижу не только данное уже определение, выраженное в
12
четырех отрицаниях, но и зерно положительнаго определения, на самом соборе не даннаго. Но ни один вселенский собор никогда и не притязал на исчерпывающий характер своего определения, но оставлял место для дальнейшаго раскрытия догмата как на новых соборах, так и в общем догматическом движении мысли, и отнюдь не устанавливал принципа догматической неподвижности. И слова глумления по поводу того, что я «приписываю себе честь» и проч. догматическаго уразумения Халкидонскаго догмата, я воспринимаю лишь с болезненным недоумением. По поводу же основной моей мысли, что соединение двух природ в одной Ипостаси Логоса не может быть понимаемо механически как deus ex machina, но предполагает изначальное соответствие или онтологическое соотношение обеих природ, Софии Божественной и тварной, я не нахожу ничего, кроме следующаго голословнаго заявления: «не может быть речи ни о каком софийном моменте(?), потому что при прямом, верном и ясном восприятии Халкидонскаго догмата нет места ни Божественной, ни тварной Софии». Верно или неверно мое софиесловие, но в данном случае моя проблематика и аргументация остаются просто непоняты или неуслышаны, и мне остается только отослать читателя к «А. Б.» Вместо такового отзвука опять и здесь повторяется утверждение о софийном в «гностическом смысле» учении, причем все заканчивается следующим суждением: «Булгаков разделяет еретическия воззрения Аполлинария, осужденнаго II и VI вселенскими соборами». (Конечно, удобным поводом здесь является моя чисто историческая интерпретация доктрины Аполлинария, которую я понимаю не в смысле «аполлинарианства», но в смысле Халкидонскаго догмата). Здесь приводится следующее место из Агнца Божия: «то, что в человеке есть его человеческий дух, от Бога исшедший, то во Христе есть предвечный Логос, Вторая Ипостась Пресв. Троицы»; эта-то мысль и инкриминируется мне как аполлинарианство, как «совершенно неправославная мысль». Пред этим суждением я снова останавливаюсь в глубочайшем изумлении: в качестве «совершенно неправославной мысли» (еретических воззрений Аполлинария, осужденнаго II и VI вселенскими соборами) здесь квалифицируется основной догмат, составляющий самую сердцевину православной христологии и повторенный трижды: на IV, V, VI вселенских соборах. Это догматическое определение читается так:
... «мы согласно исповедуем все того же совершенная в Божестве и того же совершеннаго в человечестве, истиннаго Бога и истиннаго человека, того же из разумной души и тела — έκ ψυκής λογικής καί σώματος — единосущнаго нам по человечеству... одного и того же Господа Христа, Сына единороднаго в двух природах — έν δύο φύσεσιν, — неслиянно, неизменно, нераздельно, неразлучно познаваемых... при сохранении же свойств каждой из природ, соединяющихся в одном лице и в одной Ипостаси — είς έν πρόσωπον καί μίαν ύπόστασιν, — не разделяемом или разлучаемом в два лица, но один и тот же единородный Сын, Божие Слово, Господь Іисус Христос».
Итак, учение Халкидонскаго догмата есть именно то самое, которое содержится в приведенных мною словах, и ко-
13
торое признается Определением неправославным. Именно здесь установляется в Богочеловеке единое лицо, или Ипостась, Логос, которая имеет (ипостазирует) две природы, «совершенное Божество» и «совершенное человечество», причем последнее совершенно точно определяется как тело и разумная душа, т. е. без особой человеческой Ипостаси или, что то же, человеческаго духа, который замещается Ипостасью Логоса (душа не есть дух, но сила, оживляющая человеческое тело). Конечно, терминология эпохи оставляет здесь известную неопределенность, которая, однако, достаточно устраняется дальнейшим разъяснением относительно недопустимости двух Ипостасей в силу единства Ипостаси Богочеловека.
Ту же мысль находим в определении V-го вселенскаго, II-го Константинопольскаго собора: в каноне 4-м анафематствуются те, кто, утверждая двойство лиц («несторианство»), «не исповедуют единства Бога Слова во плоти, воодушевленной разумной и мыслящей душой — πρός σάρκα έμψυχομένην ψυχῆ λογικῆ καί νοερά*), по соединению или по Ипостаси». Здесь даже яснее, чем в формуле IV собора выражается мысль о том, что человеческое естество во Христе, состоя из плоти, воодушевленной разумной душой, не имеет своего особаго лица или ипостаси (или, по применяемой мною терминологии, духа). «Св. Церковь исповедует единство Бога Слова с плотию по сложению — κατά σύνδεσιν, что есть по Ипостаси — καθ΄ ύπόστασιν». В каноне 5-м еще раз повторяется осуждение тем, кто не признает, что Бог Слово соединился с плотию по Ипостаси, или одному лицу (ср. текст канона 8). Наконец, ту же мысль находим и в определении VI вселенскаго, III Константинопольскаго собора, воспроизводящем в соответствениой части определение IV собора.
Таким образом, церковное учение состоит в том, что «полнотах человеческой природы, воспринятая Господом, распространяется лишь на тело и (разумную) душу, но не включает ипостаснаго духа, каковым является Сам Логос. И противоположное учение, которое Определение хочет выдать за православное, анафематствуется как несторианское. Такова степень догматической отчетливости Определения, которое так легко обличает мнимыя ереси.
Однако, то, что можно лишь предполагать на основании приведеннаго места, раскрывается во всей несомненности в дальнейшем изложении Определения, где читаем: «в своем учении о соединении двух естеств во Христе Церковь выражает веру, что с Богом-Словом соединилось полное естество человеческое, состоящее из тела, души и духа, но так, что в результате получилось одно Божественное Лицо». То, что здесь выдается за православное учение, есть классическое несторианство, учение о συνάφεια двух лиц, Божескаго и человеческаго, во Христе: «дух» человеческий, — конечно, Ипостасный, ибо дух не существуешь без-ипостасно, — соединяется с духом Божественным, т. е. Логосом, в одно Божественное лицо. Это есть
_______________________
* Между прочим σάρζ έμψυκομένη есть обычное выражение Аполлинария.
14
именно та ересь, которая была отвергнута на Халницонском соборе в следующем его определении:
«исповедуем... единаго и того же Христа, Сына, Господа, единороднаго, в двух естествах... познаваемаго... не на два лица разсекаемаго или разделяемаго, но единаго и того же Сына и единороднаго Бога Слова».
А далее это же самое повторено на V и VI всел. соборах.
«Определение» же, как и в вопросе о Фаворском свете, выдает за православное учение чистейшую несторианскую ересь, осужденную церковью, причем еще утверждается, что, отрицая последнюю, Булгаков «не разделяет этой веры нашей Церкви» *).
Немедленно же после того, как я обвиняюсь в том, что утверждаю принятие Логосом человеческаго естества, мне приписывается уже, что я говорю «не о воплощении Логоса, а о воплощении Софии»: «не Бог умалился у него до зрака раба, но лишь София и Пречистая Матерь Божия сделалась, таким образом, вместилищем не Сына Божия, а лишь той же Божественной Софии». Таким образом получается, что там, где меня нужно завинить в аполлинарианстве, я повинен в Ипостасном воплощении Логоса, а где подлежу суду за софианство, я обвиняюсь в отрицании воплощения Логоса, которое заменяется воплощением Софии. И эти два, друг другу Противоречащих обвинения на одной и той же странице! Что касается приписываемой мне мысли, будто я понимаю боговоплощение как воплощение не Логоса, но Софии, я опять таки могу только отослать к своим книгам, где развивается и утверждается совершенно православная мысль о воплощении Ипостаснаго Логоса, соединившаго в Себе божескую и человеческую природу, согласно Халкидонскому догмату. Вся особенность Моей софиологии лишь в том, что эти две природы в Богочеловеке я истолковываю как небесную Софию, Божеское естество, и тварную Софию, сотворенную по образу Небесной и на Ея основании.
Приписывается мне далее и критически-высокомерное отношение к авторитету VI вселенскаго собора на основании одного места из «А. Б.», относящагося отнюдь не к определению собора, а к одной из частностей догматической полемики, ему предшествовавшей и, что здесь самое важное, не вошедшей в догматическое определение VI собора. При этом приводимый отрывок неправильно истолковывается в том смысле, будто
_________________________
* Однако, в другом месте Определения, где требуется обвинить меня в аполлинарианстве, выражается совсем иная точка зрения на ипостасное соединение, приближающаяся к церковной. Именно здесь говорится: «несмотря на то, что учение о соединении Двух естеств в одну божественную Ипостась было в Церкви еще до Аполлинария и находилось во всех древних символах, начиная с так называемаго апостольскаго». Явное противоречие с вышеприведенным может быть объясняется и тем, что для Определения «дух» и «ипостась» представляются чем-то различным и отделимым. Поэтому, утверждая наличность в Богочеловеке, наряду с Духом Божественным и особаго человеческаго, наряду с душою и плотию, оно полагает, что при двух духах может быть одна Ипостась. Но это означает такое неразумение ипостасной природы духа, с которым вообще трудно и приступать к разсмотрению «Ипостаснаго соединения».
15
под «жизнью духа» я разумею Софию (чего именно в данном случае нет), и тем «отвергая определение вышеупомянутая Вселенскаго собора (пусть же, произнося такое обвинение, ответственно укажут: где и когда, какими словами?), «заменяю его софианским учением новоизмышленнаго типа». Прискорбно констатировать в Определении такой способ обвинения, который основан на приписывании мне мною несодеяннаго.
Наибольшее негодование Определения почему-то вызывает моя попытка богословскаго истолкования Вознесения Господня. Излишне говорить, что я твердо и несумненно исповедую догмат Вознесения Господня и Одесную Отца Сидения. Однако, нельзя не признать, что догматическая истина, здесь содержащаяся, выражена в символах антропоморфических, прямого и буквальнаго истолкования для себя не допускающих. Это с достаточной силой засвидетельствовано было уже св. Іоанном Дамаскиным, который говорить следующее относительно Одесную Отца Сидения: «говоря, что Христос телесно возсел Одесную Бога и Отца, мы разумеем правую сторону Отца не в смысле пространства. Ибо каким образом неограниченный может иметь пространственно правую сторону? Правая и левая сторона суть принадлежности того, что ограничено. Под правой стороной Отца мы разумеем славу и честь, в которой Сын Божий, как Бог и единосущный Отцу, пребывает прежде веков и в которой, воплотившись в последок дней, возседает и телесным образом по прославлении плоти Его» (Кр. изв. прав. веры, IV, гл. II). Но подобно тому как «Одесную Отца Сидение» нельзя понимать в смысле пространства, так и «сошествие с небес» и «вознесение на небо» не могут быть понимаемы пространственно (астрономически), хотя Вознесение и символизируется в пространственных образах.
Известно, что вопрос о Вознесении и Одесную Отца Сидении («dextera Patris») подвергался особому обсуждению в эпоху Реформами в Евхаристических спорах, в частности между кальвинизмом и лютеранством. Но эта богословская проблема для Определения просто не существует и «никакой антиномии не представляет*): «догмат о вознесении нисколько не менее светел и приемлем, чем всякий догмат нашего вероучения». Но речь идет совсем не о приемлемости или неприемлемости догмата Вознесения, но об его богословском уразумении, для которая отнюдь недостаточно представления об исчезновении Христа из поля зрения апостолов через поднятие его в высоту: Догмат относится не к эмпирическому исчезновению, но к онтологическому удалению из мира сшедшаго с небес Спасителя, который снова вознесся на небо. И здесь прежде всего надлежит исправить искажение «светлаго» догмата Вознесения, которое допущено в Определении. Именно здесь говорится: «ведь
___________________
*) Антиномия отнюдь не есть то же, что противоречие, как по-видимому думает Определение. Противоречие свидетельствует о логической ошибке в мысли, требующей исправления, тогда как антиномия свидетельствует о наличии предела для мысли, которая с необходимостью должна с равной силой и полной ответственностью утверждать антиномическия положения. Тем не менее — на протяжении всего нескольких строк — Определение превращает антиномию в «противоречие».
16
все историческое христианство (?) всегда признавало, что вознесся Господь на небо не Божеством Своим, Которым Он всегда пребывает на небе с Богом Отцом, а человечеством, и что в человечестве Своем Он вознесся именно полным человеком — в душе и теле Его*), и этою прославленною в воскресении и вознесении Его плотию и душею Он и возсел и пребывает одесную Отца Своего»...
Остановимся для разбора содержания этого догматическая определения.
Основная мысль, его есть чисто «несторианское» разделение Божества и Человечества во Христе, применяемое в данном случае к истолнованию Вознесения Христова. Прежде всего мы узнаем, что «вознесся Господь на небо не Божеством Своим, которым Он всегда пребываешь на небе с Богом Отцем». Значит, напрасно учит нас символ веры о Сыне Божием, «сшедшем с небес»? Значит мы должны думать, вслед за Павлом Самосатским и другими модалистами, что Іисус не быль Богочеловеком, в которомь «обитает всякая полнота Божества телесно», но лишь человеком, на которомь почивала сила Божия? Или же вслед за «несторианским» учением, мы должны думать, что человек Іисус быль лишь, так сказать, местом присутствия Сына Божия, встречи и соединения двух лиц: небеснаго Логоса и земного Іисуса? Значит мы не должны следовать учению ап. Павла (Фил. II, 6-8) об уничижении Сына Божия, которое есть в известном смысле богодохновенная транскрипция формулы: «сшедшаго с небес? Здесь Определением вводится прямо еретическое, подлинно уже осужденное Церковью, учение, разделяющее природы (вопреки Халкидонской формуле: «ниже разделяюще, ниже соединяюще») и тем самым отрицающее единство Богочеловека, подлинность Его вознесения, а постольку и самого боговоплощения. Конечно, при изложении догмата о боговоплощении нельзя забывать о том, что сошествие Логоса с небес соединяется и с некоей Его неразлучностью со Св. Троицей (это составляешь самое сердце догмата о кенозисе Сына), но уже одно это показываешь, что догмат Вознесения совсем не так прост («светел»), как это кажется Определению.
Повреждение общаго христологическаго догмата о боговоплощении неизбежно включает в себя неменьшее повреждение и догмата Вознесения Христова. Именно о последнем и говорится, что Христос вознесся «не Божеством Своим, Которым Он всегда пребывает на небе с Богом Отцом, а человечеством»**).
________________________
* Если при обличении меня в «аполлинарианстве» (см. выше) объявлялось совершенно неправославным мнение, что человечество представлено во Христе лишь душею и плотию, без ипостаснаго человеческаго духа, который замещен Логосом, то здесь, как само собой разумеющееся, приводится именно это понимание человечества Христа, как состоящаго из плоти и духа. Так шатко и неустойчиво богословие Определения.
** В другом месте говорится: «плоть отнюдь не (не) соучаствует с Ним в Его сидении одесную Бога Отца. И тем более непонятно и странно, что для духовнаго Его пребывания на небе, телесное Его вознесение туда, передаваемое нам в трех новозаветных книгах (Мр. XIV, 19; Лк. XXIV, 50; Д. А. 1, 9) вовсе не имело нужды и реальнаго смысла, ибо Дух для Своего прибытия (!) к Богу не нуждается в процессе духовнаго восхождения — не к Отцу на небо, а неведомо куда (?!)» И еще раз: профессором Булгаковым «определенно и отчетливо отвергается догматическое учение нашей Церкви о том, что Христос вознесся к Божественному Отцу Своим прославленным телом воплощения».
17
Такое заключение естественно, раз Определение фактически отрицает сошествие с небес, а след., и боговоплощение. Но только надо отдать себе полный отчет в том, что такое учение о Вознесении прямо противится словам Самого Господа, Который говорить от лица всего Своего Богочеловечества, т. е. не одного только человечества, как мнить Определение, но и ипостасно соединеннаго с ним Божества в прощальной беседе: «Я иду к Отцу». Кто это Я, от лица Котораго говорит Господь? При отрицании прямого воплощения Логоса в Определении (см. выше), при отрицании Вознесения всего Богочеловека, с ограничением Вознесения лишь Его человеческим естеством, это Я должно быть отнесено несторианствующим Определением к неведомому для Церкви человеческому «я» в Богочеловеке: оно имеет вознестись на небо к другому Божественному Я, которое согласно Определению, всегда пребывает на небесах и на землю не сходит. Тогда пусть внимают дальнейшим словам Богочеловека, Самого воплотившагося Слова: «и ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя Самого славою, которую Я имел у Тебя прежде создания мира» (Іо. XVII, 5). «Я к Тебе иду, Отче Святый» (II). «Отче! которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они были со Мною, да видят славу Мою которую Ты дал Мне, потому что возлюбил Меня прежде создания мира» (24). От лица какого Я, возлюбленнаго и прославленнаго Отцом прежде создания мира, говорит Господь? Ужели от лица человеческаго, «несторианскаго» Я? Определение с настойчивостью еще прибавляет, что Христос «именно в человечестве Своем вознесся полным человеком, в душе и теле Его». Надо сказать, что это пояснение отличается не только неточностью, но и заведомой двусмысленностью, настолько, что может быть понято прямо в двух противоположных значениях, в зависимости от того, исходит ли Определение из дихотомическаго, или трихотомическаго учения о человеке, предполагаетъ-ли двучастный — из души и тела — его состав или же тричастный: из духа, души и тела. В первом случае утверждение Определения значит, что во Христе наличествовал полный ипостасный человек, наряду с Ипостасным Логосом, т. е. ересь «несторианская», συνάθεια Бога и человека во Христе, сложная, двусоставная Ипостась. И в применении к Вознесению это означает, что человек во Христе во всей полноте своего человеческаго состава вознесся на небо, чтобы там соединиться с Логосом. В другом месте Определение, правда, высказывает, как мы видели, мысль о тричастном составе человека, — из духа, души и тела, и потому определение этого состава как двучастнаго, которое мы находим здесь, является противоречием или, по крайней мере, неточностью. Однако, несмотря на это противоречие, мысль и интенция Определения в данном случае совершенно ясна: речь идет о полном составе человека в Богочеловеке и о вознесении на
18
небо этого полнаго человека. Поэтому другая возможность понимания этого места, именно как учит Православие в определениях IV и др. вселенских соборов, т. е. о наличии лишь человеческих души и тела в Богочеловеке, здесь не может быть допущена, поскольку здесь прямо сказано, что «в человечестве Своем Христос вознесся именно полным человеком». Итак, схема богословия Вознесения, согласно Определению, такова: в небесах пребывает Логос, с неба не сходивший, и в небеса возносится человек, никогда на небесах не бывший (и все это в прямом противоречии Іо. III, 13: «никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах»). «И этою, прославленною в воскресении и вознесении Его, плотию и душею Он и возсел и пребывает одесную Отца Своего». Этим и исчерпывается все богословие Вознесения в Определении, которое противопоставляется моему — пусть несовершенному — богословствованию. Но что же может здесь означать на языке богословия и метафизики это телесное сидение одесную Бога Отца, т. е. в абсолютном Духе? Уже от св. Іоанна Дамаскина Определение смогло бы научиться, что это не может быть понято буквально, но требует объяснения, так сказать, перевода на язык богословия. Что есть dextera Patris, что значит «Вознесение» и Одесную Отца «сидение»? Определению это кажется «светлым» и ясным, и в нем отсутствует даже попытка выразить догмат богословски.
Богословская проблема догмата Вознесения заключается в антиномической сопряженности, с одной стороны, удаления из мира, «вознесения», и, вместе с тем, пребывания в мире, сохраняющейся связи с ним. Это выражение в одновременном наличии повествования о Вознесении у евангелистов Мр. и Лк. и обетования о пребывании с ними во вся дни до скончания века у Мф. (при отсутствии разсказа о Вознесении у Іо). Эта же антиномия выражена и в кондаке праздника, на который ссылается и Определение: ... «вознеслся еси во славе, Христе Боже наш, никакоже отлучаяся, но пребывая неотступный»... Антиномичность догмата выражается, далее, в том, что «Вознесение на небо и одесную Отца седение» не может быть понято как пространственное определение или «место» (как, согласно с Определением, толкует это и Кальвин), ибо Бог выше пространственности, и в то же время означает удаление — притом именно телесное — из этого мира. Антиномия догмата состоит далее том, что в недрах Св. Троицы, поскольку «Бог есть Дух», нет места телесному присутствию, в частности, «одесную» Отца, и в то же время догмат необходимо включает именно и таковое. Далее, небесное «одесную Отца седение» соединяется с таинственным евхаристическим присутствием Христа на земле в Св. Дарах, как и вообще с духовным Его присутствием в Церкви, силою Духа Святого. Наконец, удаление из мира в премирность является только временным, поскольку в парусии Христос возвращается в мир в том же образе, пребывая навеки и в недрах Св. Троицы. Задача богословия Вознесения состоит в том, чтобы соединить все эти антиномическия определения в сложной системе богословских понятий, что я и пытаюсь — худо-ли, хорошо-ли — сделать. Оценить это попытку есть дело богословской критики. Для Определения же вовсе не существует всей этой богословской проблематики. Оно в качестве исчерпывающая богословская опре-
19
деления учит о «вознесении на небо человеческой плоти Христа», даже без попытки пояснения, что это может значить для мысли, как это может быть ею реализовано. Моя доктрина не только подвергается просто глумлению, но я еще обвиняюсь в учении о развоплощении Христа. Здесь приходится иметь дело не толь ко с непониманием, но и с полнейшим богословским нечувствием самой проблемы. Подобная же участь постигает и мои идеи, касающияся евхаристическаго богословия. Конечно, для Определения не существует всей той многовековой борьбы около проблем евхаристическаго богословия, которое в частности для православнаго богословия имело последствием его заражение латинской теорией транссубстанциации. Моя общая мысль, что Господь возвращается на землю в Божественной Евхаристии, облекается Своим прославленным Телом и в него таинственно включает евхаристические элементы, св. Дары, для духовно-телеснаго причащения, расценивается таким образом, что «и тени подобных представлений нет в учении св. Церкви», и это есть «фантазия перемудрившаго богослова», которыя «ничего общаго не имеют с учением всего историческаго Христианства».
Извратив, как мы видели, догмат Вознесения, Определение переходить далее к извращению догмата Второго пришествия, который выражен в Символе веры следующими словами: «и паки грядушаго со славою судити живым и мертвым, его же царствию не будет конца». Здесь говорится о новом возвращении Христа в мир и Его воцарении в мире. Эта мысль поясняется в новозаветных пророчествах как преображение этого мира, явление «новаго неба и новой земли», сошествие с неба Небеснаго Іерусалима, в которомь Господь будет жить вместе с Своим Человечеством. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я Іоанн увидел святой город Іерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними; они будут Его народом... И вознес меня в духе на великую и святую гору и показал мне великий город, святой Іерусалим, который нисходил с неба от Бога... Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель — храм его и Агнец... И ничего уже не будет проклятаго, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы Его будут служить Ему» (Откр. ХХІ, 1-3, 10, 22; XXII, 3-4).
Из приведеннаго явствует с очевидностью, что будущее Царствие Христово имеет быть на преображенной земле, в сошедшем с неба граде Іерусалиме для народов, которые принесут туда свою «славу и честь»; одним словом, Царствие Божие для твари совершится в этом мире, «на земле». Что же мы находим по этому поводу в Определении? А вот что: «такими его (т.е. моими) представлениями и категорическим заявлением о недопустимости никакого «тела плоти» в мир небесный отвергается и учение Православной Церкви о будущем блаженстве святых людей после Страшнаго Суда Христова с воскресшими и прославленными телами славы в небесном царстве Пресвятой Троицы, ибо сущность этого блаженства и будет состоять в полноте богообщения, как и сказано в Апокалипсисе: «се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними» (Гл. XXI, 3), как, значит, и они с Ним.
20
Снова не веришь своим глазам, читая такую эсхатологию. Оказывается, согласно Определению, что будущее Царство Христово имеет быть не в этом тварном мире на земле, но в небесном царстве Пресвятой Троицы, иными словами, прославленное человечество будет вознесено на небо в лоно Пресвятой Троицы. Откуда взято это странное и отнюдь не православное учение о всеобщем вознесении, которое, очевидно, как приходится заключать, имеет произойти после Второго пришествия и тем самым предполагает, очевидно, и новое, второе вознесение, Христа на небо уже вместе со всем человечеством? Такое учение не имеет для себя никакого основания в учении Церкви и прямо противоречит, как мы видели, Слову Божию. Потому оно может быть сближаемо только с Оригеновским учением об апокатастасисе, который состоит в упразднении этого мира и в возврашении душ в пренебесное изначальное состояние. И замечательно еще, что эта странная доктрина подтверждается текстом Откр. XXI, 3, который говорил как раз о Небесном Іерисалиме, сошедшем на землю, и о Царстве Христовом на земле.
Но пойдем далее.
Здесь мы приближаемся к тому, что в Определении является поистине потрясаюшим, а именно мы читаем здесь: «тем же крайним субъективизмом и произволом совершенно и по духу своему недопустимыми в православном писателе, тем более богослове отличаются и другия измышления о. Булгакова, например о безгрешности Божией Матери, как совершенном явлении и откровении Третьей Божественной Ипостаси Св. Духа и о богоматернем существе». Я ужасаюсь, читая эти строки. Как! «безгрешность Божией Материв есть «крайний субъективизм, недопустимый в православном писателе», и есть «измышление»? Значит, для православная писателя, вопреки всем свидетельствам богослужебных текстов, признается соответственным произносить хулу на Пречистую и Пренепорочную и приписывать Ей личные грехи? (Конечно, при признании личной безгрешности Богоматери не устраняется «первородный грех», который, как общую немощь, Она разделяет с человеческим родом). Пусть же тогда пред лицом всего христианскаго мира будет указано, какие именно грехи утверждаются в Честнейшей херувим и Славнейшей без сравнения серафим*).
Далее следует ряд тенденциозных и несправедливых обвинений в том, что я «игнорирую авторитет вселенских соборов», отношусь «с презрительным пренебрежением к учению свв. Отцов», чему приводятся примеры. Читатель моих сочинений без труда убедится, в какой степени это неверно: задача моего богословствования именно и определяется богословским уразумением догматических определений Цер-
_________________________
* В отношении моих богословствований о Предтече, «Ангеле, посланном пред лицом Господним», говорится, что мое учение «взято исключительно из одних его софийных измышлений, а не из священнаго писания, а равно и не из святоотеческих творений». В ответ скажу, что на самом деле, может быть, ни одно из моих писаний не документировано в такой степени библейски, литургически, иконографически, как это.
21
кви причем мною оказывается самое ответственное внимание изучению св.-отеческой традиции, как это я и делаю во всех отдельных случаях изследования. Но при этом я не могу отказаться от права и обязанности применять и исторические масштабы в этом изучении, соответственно современному состоянию патристической науки, и воспретить это, как фактически хочет этого Определение, значит воспретить вообще научное богословие, что возможно только при неведении о действительном состоянии научнаго богословия в наши дни. Творениям свв. Отцов, при всей важности и авторитетности этих писаний, отнюдь не может быть приписываема непогрешительность суждения. Их мнения между собою различаются (иногда вплоть до взаимнаго анафематствования, как было, например, в случае между свв. Кириллом Александрийским и блаж. Феодоритомъ), на них лежит определенная печать эпохи. Вообще учение о непогрешительности святоотеческих творений, подобной Слову Божию, есть ересь для Православия, которая была свойственна средневековью, в частности эпохе Флорентийскаго собора*). Православное отношение к вопросу выражено следующими словами столь консервативнаго богослова, как митрополит Макарий: (Введение в православное богословие, § 141).
«Приписывая полный авторитет всем отцам и учителям вместе, когда они согласно утверждают что-либо в учении о предметах Божественнаго откровения, мы должны помнить: 1) что вовсе нельзя приписывать такого же авторитета каждому Отцу порознь. При всей своей святости, при всем обилии духовных дарований, св. Отцы не были богодохновенны, подобно св. Пророкам и Апостолам, и потому писания отеческия никогда не должно сравнивать с каноническими книгами Свящ. Писания. Святые Отцы не были непогрешимы каждый порознь, напротив, могли погрешать и некоторые, действительно, погрешали; 2) что вовсе нельзя приписывать Отцам и учителям такого же авторитета в тех случаях, когда они разногласят между собою... 3) что вовсе нельзя приписывать св. Отцам и учителям такого же авторитета, когда они разсуждают не о предметах Божественнаго Откровения... Наконец, не должно соблазняться встречаютимися иногда несогласиями того или другого древняго уважаемаго учителя Церкви касательно некоторых откровенных истин с единодушным учением всех прочих пастырей, а надобно смотреть на это несогласие, как на частное мнение учителя».
При свете этого трезваго и здраваго суждения, вдабавок к которому надо еще вспомнить о существовали исторической науки, непрестанно уточняющей наши знания в области патристики, можно оценить критические приемы Определения, для котораго всякое прикосновение критики является уже уничижением авторитета св. отцов.
И конечно историческая наука, непрестанно дающая нам новый материал, побуждает к пересмотру и переоценке и
_______________________________
* Эта мысль получает наиболее отчетливое выражение у кардинала Виссариона Никейскаго, бывшаго здесь выразителем общих взглядов эпохи: учения отцов «должны иметь у нас силу канонов веры, и мы должны почитать и верить им наряду с Св. Писанием» (Migne, Ser. gr. t. 161, с. 556). Ср. Утешитель, стр. 144 слл.
22
древних авторов, и их учения. Такого рода суждения историко-критическаго характера, разумеется, имеются в моих сочинениях, где мне приходится иметь так много дела с патристическими текстами. И все они ставятся мне на счет Определением как выражение непризнания с моей стороны святоотеческаго авторитета.
Если читать богословския сочинения патентованных православных богословов, работавших притом при наличии духовной цензуры, везде мы встречаем эту критику источников и ея отрицание означало бы прямое запрещение научной работы. Не мешало бы при этом еще вспомнить о том, какая нелегкая апологетическая задача ложится на плечи православнаго богослова, который неведущим о фактическом положении науки представляется не признающим авторитетов. Не стоить останавливаться на отдельных инвективах, хотя и без труда можно было бы дать на них ответ. Больше всего достается мне, конечно, за историческую реабилитацию, которую по мотивам чисто научно-историческим я делаю Аполлинарию, Последний, по моему разумению, вовсе не был «аполлинаристом», поскольку мысль его была неправильно понята, как и Несторий, по крайней мере, в конце жизни также не быль «несторианцом», как это следует заключить из новооткрытаго его трактата «Гераклида». Эти историческия суждения о лицах и богословския оценки их идей подают повод обвинять меня в приверженности ересям «аполлинарианизма» и «несторианства», осужденным Церковию. Что могу я сказать в свою защиту пред лицом подобнаго извращения моих намерений? Не буду вовсе останавливаться на том поношении, которое достается на мою долю по поводу моей юбилейной («Ховарской») речи, имевшей только одну тему: верность Церкви в живом предании, ибо буква мертвит, дух животворит.
В заключение от меня требуется публичное отречение от моего «еретическаго учения о Софии». Как и в указе м. Сергия, Определение не содержит никаких формул, в которых выражалось бы осуждаемое мнение и ему противопоставлялось бы православное учение. Что значит вообще отречься от учения о Софии пред лицом а) библейскаго учения о Софии, б) литургических текстов софийных служб, в) иконографии и храмостроительства, г) определеннаго цикла патристических текстов, д) богословской мысли? Должен ли я все это отвергнуть без попытки разобраться во всем этом материале? Прибавлю также, что все мои сочинения посвящены богословскому выяснению тех или иных догматов православия (это допускается, как бы нехотя, и Определением: «проф. Булгаков высказывает в своих сочинениях не мало совсем иных мыслей и в особенности смягчающих оговорок (!), которыя являются часто приемлемыми с православно-христианской точки зрения»). Отречься от своих сочинений значило бы поэтому отречься не только от своего богословия (независимо от того, возможно ли это или невозможно), но прежде от тех догматов, которые я в них исповедую и раскрываю. В свою очередь само Определение, которое притязает быть нормой православнаго богословствования, допускает, как мы видели, ряд более или менее крупных погрешностей относительно тех Догматов, которых оно касается: о боговоплощении, о вознесении, о свете Фаворском, о будущем царстве Христовом, об источниках богословия.
23
Но самое тяжелое, с чем совершенно не мирится моя совесть, как православнаго священника, есть содержащееся в нем утверждение, что Пресвятая Богородица имеет грехи.
Эти свои недоумения сим я повергаю на благоусмотрение Вашего Высокопреосвященства.
Январь 1936 года
Сергиевское Подворье в Париже.
Приложение к журналу «Путь» №50, 1936
Сергей Хоружий
Перепутья русской софиологии
Тема о Софии Премудрости Божией — нелегкая тема. И дело даже не в том, что она разветвлена и обширна, имеет древнюю, долгую историю… — нет, куда больше трудностей вносит то, что во всех своих многочисленных аспектах — богословских и философских, иконографических, исторических — она запутана в клубок вопросов, по которым, вместо единого мнения и бесспорного ответа — лишь спектр разноречивых позиций. Так было уже и до новейшего этапа, которым стали учения о Софии и «спор о Софии» в русской мысли нашего века; и этот последний этап, вместо разрешения старых проблем и противоречий, скорей добавил к ним новые.
Так почему и зачем русская мысль погрузилась во все это? Что принесло это нам — и вселенскому разуму? К сожалению, сам факт бурного увлечения темой, ярких сил, привлеченных к ней, и многих усилий, отданных ей, — факт этот еще отнюдь не служит залогом ценных и разумных плодов. Умственная история наша, увы, нисколько не дает оснований для «презумпции плодотворности» всех увлечений русского сознания — или хотя бы самых крупных и стойких из них. Скорей уж напротив. И великое, и просто дельное, как правило, созидалось в русской культуре не столько «увлечениями» — течениями, движениями… — сколько помимо них. Течения же — будь то масонство или народничество, нигилизм или марксизм или, помельче взять, какие-нибудь «новые религиозные сознания» или «мистические анархизмы» — струились искренне, горячо, чаще всего были и не злокачественны в нравственном отношении — только много ли вышло толку? много ли оставило по себе по-настоящему крупного и ценного, умонасыщающего и душепитательного?
Тут сразу скажут, что мы называем явления иного рода, поветрия беспочвенного сознания, интеллигентской моды, тогда как тема Софии — о! ведь это из стержневого и глубинного, тема, идущая от самых корней русской духовности, неотрывная от истоков Православия… — Но тут-то уже и встречает нас первая из тех аберраций и подмен, что так типичны для нашей темы.
Для действительных основ православного миросозерцания — и русского, если таковое имеется, — София Премудрость Божия — тема никак не стержневая, а только порой выдаваемая за таковую. На поверку, по своему характеру, типологии это как раз и есть довольно «интеллигентская» тема. Особенно на ее последнем, русском этапе — который мы и хотим обсудить — в ней отчетливо выступают родовые черты интеллигентского сознания, как они определяются в известных анализах Г. П. Федотова: мы тут найдем и «идейность», и «беспочвенность», найдем характерные примеры, когда пришедшее из странных и случайных источников, непроверенное и недодуманное, усиленно и сразу начинает выдвигаться на заглавную роль, объявляется решением извечных вопросов мысли и веры. И вовсе не так уж неоправданно видеть в перепутьях и завихрениях русской софиологии некоторый своеобразный аспект, некоторую грань — скажем опять с Федотовым — «трагедии интеллигенции». В классической своей статье с этим именем Федотов прослеживает пути интеллигентского сознания издалека, с долгою предысторией, с «прологами» в Киеве и в Москве. Конечно же, путь софиологии отнюдь не является буквальным и прямым сколком с этих путей; и все же глубокие параллели будут очевидны читателю без наших особых указаний. Чтобы понять существо этого пути, для нас тоже будет полезен последовательный подход, с зачином издалека. История нашей темы еще древней, и пролог к ней — не в Киеве, а в античной Александрии.
1.
Александрия сегодня — в меру обшарпанный портовый город, еще хранящий некоторую левантийскую пряность и пестроту, но уж решительно ничем, кроме имени, неспособный напомнить нам о феномене Александрии в истории человеческой цивилизации. Эллинистическая Александрия была самым фантастическим местом на земле, вселенским скрещеньем всех сущих рас и культур, наречий, верований, обычаев, средоточием эзотерических культов, возвышенных учений и низменных пороков. Но — отошлем к беллетристам за сочными описаниями «быта и нравов»; нас занимает лишь Александрия духовная.
Важно, прежде всего, что град Александра никак не был для сталкивавшихся в нем идей и культур простым местом бытования. Место обладало своею магией, обладало мощною творческой переплавляющей силой. Греческий язык эллинистической эпохи создал редкостное богатство слов, терминов для обозначения явлений контакта (соприкосновения, взаимопроникновения, соединения, смешивания, слияния…) — и это менее всего удивляет нас, ибо именно эти-то явления и определяли происходившее в эллинистическом мире. Александрия дала свое имя особому типу культуры — культуре смешанной, слагающейся из элементов, разнородных во всех отношениях — этническом, религиозном, социальном, культурном; и кроме того — что также важно! — не доводящей, не нивелирующей свои слагаемые до жесткого монолитного единства, но оставляющей их природные различия не до конца согласованными или синтезированными, сохраняя, тем самым, долю разнородности и противоречивости. В культурах древности все диктует и все символизирует в себе культ: верховное божество Александрии, Серапис, слил в себе всех богов Греции, Египта и заодно Иудеи; он был Озирисом, Зевсом, Иао (Яхве), Плутоном и Аполлоном, Асклепием и египетским Солнцебогом… Сегодня мы выражаем эти черты стандартною формулой: Александрийская культура — синкретическая культура. Но формула эта, скорее пежоративного оттенка, не передает главного: уникальной порождающей силы александрийского синкретизма. Как неимоверный бродильный чан Мирового Духа, античная Александрия принимала в себя эллинское умозрение и иудейский монотеизм, науку хождения пред Богом Живым и египетскую религию мертвых, иранский митраизм и зороастризм, доживающие пережитки жестокой ассиро-вавилонской архаики… — и таинственно они перебраживали в ней в новые духовные миры: гносис — неоплатонизм — христианство, — которые потом на много веков определили собою жизнь европейской культуры, сложили ее умственный стиль и облик, задали ее вечные, сквозные темы. Разумеется, она не была, особенно для христианства и неоплатонизма, единственным их отечеством и истоком; и все же не будет преувеличением сказать, что все почти составляющие, все нити нашей умственной истории тянутся из Александрии или проходят через Александрию. Что ж до Софии, то для нее нет никакой нужды в оговорках. Отечество у нее единственно и бесспорно: София Премудрость Божия — детище александрийского духа.
Что общего у Афин и Иерусалима? — подразумевая заведомо отрицательный ответ, вопрошал сурово Тертуллиан (с надрывным пережимом изгонявший из христианства всякое размышление и здравый разум — покуда не дал петуха, сорвавшись в сектантство). Но, вопреки Тертуллиану, ответ на его вопрос положителен и даже вполне очевиден. Что общего у Афин и Иерусалима? — Александрия. Ближайшим же образом — иудейская община Александрии, среда просвещенного эллинизированного еврейства. Мы не будем сейчас описывать ни эту среду, ни вырабатывавшийся ею синтез эллинской метафизики и иудейской религии, синкретическую рецепцию ветхозаветных устоев в свете понятий, идей, концептуальных структур греческой мысли, и в первую очередь, мысли платонической. Для нас важно сейчас лишь следующее: в последние столетия эры до Рождества Христова, в указанной среде сложился — частью будучи создан в ней же, а частью окончательно отредактирован, оформлен и сведен воедино — так называемый «корпус текстов Премудрости», или «хохмическая литература» (др.-евр. hochmah, мудрость). Его составляли позднебиблейские книги, частью уже не вошедшие в еврейский (масоретский) канон, а включенные лишь в греческую Септуагинту: Притчи Соломона, Книга Премудрости Соломона, Книга Премудрости Иисуса сына Сирахова, Книга Екклезиаста; иногда к этому корпусу относят также Песнь Песней, Псалтирь и Книгу Иова. По традиции, большинство текстов корпуса были приписываемы — впрочем, достаточно условно — царю Соломону (X в. до н. э.), сыну Давида, строителю Храма и легендарному мудрецу. Этот-то корпус и дал жизнь всей теме Премудрости в христианском мире на все будущие времена. Впрочем, рядом с ним необходимо упомянуть и учение о Софии Филона Александрийского (I в. н. э.), также являющееся существенною и органической частью александрийской софиологии.
Вглядимся, какою же выступает здесь Премудрость — Хохма — София. Отчетливо и несомненно, мы различаем греческое ядро и основу. К ним следует отнести, прежде всего, то кардинальное положение, что полнота мудрости и истинная мудрость принадлежат не человеку, а богу: именно так, согласно Диогену Лаэрцию (1, 12), учил уже Пифагор, и именно это представление о мудрости, софии, стало преобладающим в эллинском мире, сочетаясь с также традиционным, находимым уже в Гомеровых гимнах, сближением «софии» с «технэ», художественно-ремесленным и строительно-проектирующим, демиургическим или, говоря современно, дизайнерским мастерством. Данное положение нет нужды особо отыскивать в «софийном корпусе»: оно проходит там всюду, сквозною нитью (см. хотя бы Иов 28).
Далее, в центре всего поля значений греческой «софии» (как и русской «мудрости») находятся, конечно, значения, выражающие обладание умом, мыслью, ведением. И этот «умный» аспект Софии — тоже на видном месте в софийных книгах, а особенно в самой александрийской из них, девтероканонической Книге Премудрости Соломона. Вот, скажем: «Мудрость знает давно прошедшее и угадывает будущее, знает тонкости слов и разрешение загадок, предузнает знамения и чудеса и последствия лет и времен» (Прем 8, 8). Аспект «умный» органически дополняется «философским»: человеку подобает искать мудрости, стремиться к ней, питать к ней любовь — быть любомудром, философом. Этот классический греческий мотив, побуждение к философии, мы тоже находим без труда: «Любящих меня я люблю, и ищущие меня найдут меня» (Притч 8, 17), — говорит София. Софию должно искать паче всех земных сокровищ и благ: «Лучше знание, нежели отборное золото… мудрость лучше жемчуга» (Притч 8, 10-11); и «желание премудрости возводит на пир царствия» (Прем 6, 20). (Последний стих, греческий мотив, арранжированный с восточною exuberance, — отличный малый образчик александрийского стиля!) — И столь же органично для греческого сознания, к мотивам «умному» и «философскому» присоединяется третий, «педагогический»: «Начало ее (премудрости. — С.X.) есть искреннейшее желание учения» (Прем 6, 17). При внешней малозначительности, этот последний мотив отразил в себе глубокую и специфическую особенность греческого сознания как сознания культурного par excellence, ориентированного на труд культивирования, возделывания человеческой натуры. Тут греческое сознание выступает предтечей западного, европейского сознания — в отличие от Востока и культового сознания, которое предпочитает речи об учебе — вещания о наитии, интуиции, «цельном знании» или прямо — о посвящении, тайноведении. Недаром этот столь греческий тезис мы находим всего в одном месте софийного корпуса; а многократно в этом корпусе повторен тезис другой, утверждающий за премудростью совсем другое начало — о чем еще скажем ниже.
Наконец, греческой софии изначально и неотъемлемо присущи этические и эстетические аспекты — и мы опять-таки, в свой черед, обнаруживаем их богато представленными в софийных книгах. Премудрость — в тесной и обоюдной связи с нравственными началами: «Плоды ее суть добродетели» (Прем 8, 7) — но в то же время нравственные условия и предшествуют обретению мудрости, являясь для него необходимою предпосылкой: «В лукавую душу не войдет премудрость и не будет обитать в теле, порабощенном греху» (Прем 1, 4). Что же до эстетических мотивов, то с ними связаны самые, пожалуй, известные софийные тексты из Книги Притч (гл. 8): явно отражая пифагорейские и платонические влияния, они говорят об эстетике мироздания, о космосе как произведении художества, и премудрость выступает здесь в качестве эстетического принципа: София как Красота.
Большинство из перечисленных аспектов Софии не чужды и ветхозаветной традиции. Иудейские начала сказываются в софийном корпусе, за малыми исключениями, не столько внесением каких-либо новых крупных тем, сколько некими сдвигами, переменой акцентов или окраски, появлением новых граней у элементов той же основы. Так, тезис о принадлежности полноты мудрости лишь одному Богу можно считать общим для двух традиций; однако его яркое, аффектированное утверждение в Книге Иова (гл. 28) несет резко выраженную экзистенциальную окраску — характерно ветхозаветную, иудейскую, но отнюдь не греческую. Далее, мотивы «умные», философские и педагогические остаются чисто греческим ареалом темы; но сфера этических мотивов является снова общей — ив ней иудейское влияние сказывается определенными идейными сдвигами. Премудрость связывается с исполнением Закона, с иудейским каноном благочестия и богопочитания; и главным этическим положением темы оказывается знаменитое: «Начало Премудрости — страх Господень», — повторяемое, с малыми вариациями, многократно и в разных книгах (Иов 28, 28; Пс 110, 9; Притч 1, 7; 9, 10; Сир 1, 15). Известный сдвиг можно отметить и в эстетическом аспекте: в иудейской космологии на первом месте — сотворение мира, отсутствующее у греков; и соответственно, в центре софийной эстетики оказывается творение как художественный акт.
Казалось бы, слагающих стихий всего две, эллинская и иудейская, — и, стало быть, мы уже сказали все главное об александрийской софиологии. Однако ж нет! Имеется еще одно, не менее важное: роль самой Александрии, плавильного тигля, бродильного чана, в котором все совершалось. Александрия выработала собственный стиль мышления и тип дискурса, которые налагали сильнейшую печать на все плоды александрийского духа. Не будем сейчас анализировать этот стиль и тип, но выделим существенное для нас: в числе ведущих и характерных принципов александрийского мышления и письма были символизм и аллегоризм (в Александрии родилась аллегорическая школа толкования священных текстов), стилистическая избыточность, риторичность. Для темы Софии эти свойства сыграли роль роковую. Поистине благодарный предмет размышлений для филологии и герменевтики: историческая судьба явления оказалась определяемою особенностями дискурса и стиля…
Перенасыщенность символами и аллегориями, иносказаниями и метафорами неизбежно запутывала тему, приводила к размытости и неоднозначности выражения. Все понятия, идеи, начала могли сходиться и расходиться, слипаться или раздваиваться; приобретали тенденцию обрастать длинными цепочками отождествлений. Отождествления понятий делались по самым разным основаниям и принципам и чаще всего были, по своей сути, не подлинными отождествлениями, а только уподоблениями, сравнениями, сближениями. Итогом же было то, что каждое понятие, начиная с самой Софии, вместо ясного и единого смыслового содержания превращалось в клубок спутанных и переплетенных смыслов. Дополнительную размытость смысла вносило активное пользование приемами риторических и дидактических жанров. Так, в частности, во многих из этих жанров — к примеру, в притчах — обычным приемом стиля была персонификация отвлеченных понятий, наделение их «лицами» и речами. Из этого невинного обстоятельства выросли самые неразрешимые и многовековые контроверзы в теме Софии.
В Книге Притч и в меньшей мере в других книгах Корпуса, Мудрость произносит монологи и совершает действия: она, скажем, «построила себе дом и приготовила у себя трапезу», она созывает к себе городской люд (хотя стоит заметить, что в той же гл. 9 Притч так же персонифицируется и так же к себе созывает — Глупость!). И когда поздней к Писанию начали обращаться для построения богословских и философских теорий, для создания догматики — то многими и много раз стилистический прием воспринят был как догматический и онтологический тезис; а грамматический факт принадлежности греческой «софии» женскому роду существительных воспринят был как теологический факт. Последствия этих qui pro quo были далеко идущими. Если полностью и всерьез, на уровне богословском и философском, счесть Софию — Лицом, да еще и женского пола, — мысль ввергается в поистине бездонную пучину проблем, начиная с вопроса о тварности или нетварности этого новоявленного Лица.
Так специфическими чертами александрийского дискурса в софийном корпусе посеяны были семена будущих нескончаемых и неразрешимых конфликтов и разноречий, множественных и далеко расходящихся позиций. Главные, ключевые альтернативы заключаются в двух вопросах: является ли София — Хохма — Премудрость как предмет теологической мысли —
персонифицированной, либо неперсонифицированной?
несотворенной, либо сотворенной?
Как можно видеть из нашего изложения, прочтение Корпуса, выводящее из него концепцию персонифицированной Софии, не только не является необходимостью, но скорее может рассматриваться как своего рода «приумножение сущностей»; если же его не принять, второй вопрос попросту исчезает — и, в итоге, для богословия нет нужды ни в какой особой «софиологии». Тем не менее, такое прочтение, почти неизбежно рождающее «софийную проблему» — или круг проблем — стало крайне распространенным. И дело тут не в простом пренебрежении герменевтикой, заботой о корректном истолковании текста. Даже когда этой заботой не пренебрегали, это помогало отнюдь не всегда; и даже сам Ориген, один из родоначальников библейской герменевтики, склонялся к указанному прочтению. Дело в том, что по свойствам александрийского письма с его кружащимся и ветвящимся смыслом, полностью исключить такие прочтения, доказать их недопустимость — нельзя в принципе. Большие традиции, выраставшие на александрийской почве, обходились с заложенною в этой почве софийной проблемой весьма по-разному. В неоплатонизме, включая и собственно александрийскую его школу, София не заняла никакого места: без персонализации Премудрости софийная тематика не могла уйти далеко, персонализация же была чуждой неоплатонической мысли. Зато совершенно обратной была судьба ее в гностицизме. Во всей истории мысли, гносис — главное и необъятное поле софиологической спекуляции. Специфические черты позднеантичного синкретизма получили тут неограниченную свободу, и София оказалась захвачена в безудержное кружение возбужденной мысли, без конца отождествляющей-разделяющей все со всем, строящей иерархии начал и цепи эонов, сплетающей хоровод, в котором парами-«сизигиями» выступают олицетворенные категории: Глубина и Молчание, Ум и Истина, Смысл и Жизнь… далее со всеми остановками. Приключения Софии в этом авантюрном романе описывает с увлечением Владимир Соловьев, для которого такая стихия мысли была родной: «Последний из тридцати — женский эон, София — возгорается пламенным желанием непосредственно знать или созерцать Первоотца — Глубину… Но София, презревши как своего супруга желанного, так и всю иерархию двадцати семи эонов, необузданно устремляется в бездну несказанной сущности. Невозможность в нее проникнуть, при страстном желании этого, повергли Софию в состояние недоумения, печали, страха и изумления, и в таком состоянии она произвела…» — согласимся, что такую цитату безразлично, где оборвать. Как по общему стилю, так и по философской убедительности, она несколько напоминает нам либретто корейского балета: «Товарищ Нам Сук, горя желанием угощать обедом командующего КНРА товарища Ким Ир Сена и бойцов, поднимается на гору под градом пуль, неся на голове накаленный котел с кашей».
Новый Завет предельно далек от накаленного гностического котла, где с прочей кашей варится и София, — далек куда больше, чем от ортодоксальной религии Закона. Он не изгоняет Премудрость из своей речи, однако отводит ей крайне умеренное место, очерчивая лаконическую и достаточно ясную трактовку. Ключевые формулы этой трактовки — в первой главе Первого Послания к Коринфянам. Павел говорит: «Проповедуем Христа распятого… Христа, Божию силу и Божию премудрость» (1 Кор 1, 23-24); «от Него (Бога. — С.X.) и вы во Христе Иисусе, Который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением» (1 Кор 1, 30). Премудрость здесь относится ко Христу и утверждается как одно из Его именований, «сотериологических предикатов». Ставя этот предикат в один ряд с другими, текст никак не толкает гипостазировать его и принимать, что не только Христос есть Премудрость Божия, но и Премудрость Божия есть сам Христос (а не просто одно из свойств, принадлежащих Ему). С другой стороны, он не содержит и никакого запрета к этому. Но можно с полной определенностью сказать одно: Новый Завет никоим образом не дает ни поводов, ни достаточного материала к тому, чтобы строить какое-то особое «учение о премудрости» или, тем более, выдвигать его в центр христианского вероучения.
Становящаяся христианская мысль обнаруживала не столь полную независимость от инородных стихий, как христианское Откровение. Что только естественно. Уже у ранних церковных писателей, начиная с Иустина Философа (II в.), можно встретить ту же персонализованную премудрость, что и в ветхозаветном софийном корпусе — однако с важною разницей: следуя Новому Завету, Премудрость со всею определенностью отождествляют со Христом, воплощенным Словом-Логосом. Подобная персонализация практически не сопровождалась какими-либо тенденциями к софийному богомыслию, развертыванию особой софийной тематики. Но она влекла естественно за собой начало посвящений храмов Премудрости, влекла отведение Премудрости известного места в жизни Церкви. Так складывалась история Софии Премудрости в Византии — своего рода «пролог в Константинополе» к нашей русской теме. Но этот второй пролог не в пример скромнее пролога в Александрии. В нем есть, пожалуй, всего одно крупное и важное для нас событие: посвящение Софии главного храма империи ромеев, знаменитой Агиа-София в Константинополе. Посвящение это восходит еще к Константину Великому: Юстинианов храм возведен был на месте сгоревшего и одноименного Константинова храма. Отождествление Софии со Христом-Логосом незыблемо предполагалось в этом посвящении; в византийском сказании о построении Св. Софии говорится: «Святая София, что значит Слово Божие», и о. Георгий Флоровский пишет: «В Византии всегда и неизменно считали Константинопольскую Софию храмом Слова». Одно из многих свидетельств этого — обычная формула названия: храм Премудрости Слова Божия1). Эта простая формула сразу и твердо восстанавливает новозаветное понимание, делая Премудрость атрибутом Христа и вполне исключая взгляд на нее как на некую самостоятельную фигуру.
По естественной логике не столько богословского, сколько государственного, имперского сознания, константинопольская Св. София инспирировала появление храмов Св. Софии повсюду в орбите византийских влияний. Рассматривая этот процесс, Флоровский приходит к выводу, что в его основе лежали, по преимуществу, мотивы местного утверждения, национального или же церковного: центр растущего, возвышающегося царства, княжества, церковного региона заявляет о своем значении, посвящая свой главный, «великий» храм Св. Софии — и тем как бы уподобляя себя Царьграду. Справедливость этого вывода о. Георгия подтверждается еще тем, что подобному же распространению, «тиражированию», подвергался и другой символ Константинополя, Золотые Ворота. Как писал в известном своем «Путешествии» не менее известный «бельведерский митрофан», А. Н. Муравьев, «предкам нашим казалось, что не могло быть другого собора, кроме Святой Софии; им казалось, что не могла стоять и столица без златых ворот… удельные князья любили давать сие название главному входу в города свои»2). Софийные храмы Древней Руси, равно как и софийная тема в русской иконографии, в подробности изучены и освещены в литературе, и мы не будем сейчас останавливаться на этом. Подчеркнем только общий вывод: ни в распространении софийных храмов, ни в прочих формах присутствия Софии Премудрости в Древней Руси, за вычетом единичных эпизодов наносного характера, нет оснований видеть знаки какого-то особого почитания, культа Софии или, тем более, наклонность к софийным мудрствованиям в духе позднейшей русской софиологии.
______________________
1) Ср. хотя бы у Иоанна Кантакузина: «Император ромеев… созвал собор в досточтимом божественном храме Премудрости Слова Божия». Письмо епископу Иоанну // Сочинения Иоанна Кантакузина. СПб., 1997. С. 297.
2.
Ко времени появления русской софиологии тема Премудрости Божией решительно никак и нигде не присутствовала в русской жизни. Любой тщательный розыск не обнаружит ее малейших следов — будь то в русской Церкви (где наличие софийных храмов отнюдь не выливалось в наличие «темы Софии»), русской мысли или русской культуре. Последние отголоски этой темы можно найти у нас разве что в масонстве конца XVIII — начала XIX столетия. Западная мистика, начиная с позднего Средневековья, небольшой, но заметной пунктирной линией включала в себя мистику Софии. В ней были и крупные имена — Генрих Сузо, назвавший себя «служителем вечной Премудрости» (ок. 1295-1366), Парацельс (1493-1541), Яков Беме (1575-1624), Эммануил Сведенборг (1688-1772). Обильная литература, читавшаяся и распространявшаяся в масонских кругах, вобрала в себя часть этого софийного русла; отдельные сочинения, принадлежавшие к нему, были переведены по-русски. Но уже к середине XIX в. все это было прочно забыто.
Подобно богине мудрости Афине, русская софиология тоже появилась на свет из одной не вполне обыкновенной головы. Однако юный Владимир Соловьев очень сильно отличался от Зевса Вседержителя — и произведения их оказались тоже весьма разного свойства. Начало софиинои деятельности Соловьева поражает своею причудливой эксцентричностью (хотя, впрочем, и дальнейший ход этой деятельности тоже отнюдь не лишен последней). Это — общеизвестные страницы, прочно вошедшие в нашу умственную историю, рассказанные им самим в блестящих стихах.
________________________
2) А. Н. Муравьев. Путешествие к святым местам в 1830 году. Ч. I. СПб., 1883. С. 50-51.
Увлекшись темой Софии еще в юности, после окончания Московского Университета Соловьев всецело отдается ей, погружаясь в усердное изучение всей доступной литературы. Отправившись для сей цели в Лондон летом 1875 г., он пережил там мистическое видение — встречу с самою Софией, услышал от нее повеление направиться в Египет — и повиновался. В Египте, в пустынной окрестности Каира, его посещает еще одно видение — «третье свидание» (первое было дано ему еще в детские годы). В этот же период он работает над своим первым софиологическим сочинением, которое вбирает в себя все плоды столь разной и столь кипучей жизни его духа — литературных разысканий, теолого-философских размышлений и last but not least, прямого мистического опыта. Это сочинение пишется им по-французски (в видах издания за границей) в Лондоне и Каире, затем в Италии, в Сорренто, куда он перебирается из Египта весною 1876 г. В письме к отцу он именует его «малым по объему, но великим по значению сочинением», и он дает ему подобающе громкое название: «София. Начала вселенского учения»; в помянутом письме название приводится в ином варианте, еще более эпохального звучания: «Начала вселенской религии».
Первенец русской софиологии не был ни завершен, ни опубликован автором; он увидел впервые свет в Лозанне в 1978 г. Без сомнения, самому Соловьеву очень скоро стали видны невозможные качества «великого сочинения»; настолько несообразного и незрелого текста не найти во всем его собрании сочинений. Неровная и разнохарактерная форма, элементарные, но оч-чень решительные рассуждения, в два счета достигающие самых глобальных и фундаментальных выводов: желающие установить «основы всеобщего развития» и произвести «не только синтез всех религий, но и синтез религии, философии и науки». Всего-то навсего. Набрасываемые схемы богословских начал, философских позиций, космического и исторического процесса жонглируют идеями и понятиями гностицизма, отчасти — каббалы. И ко всему тому — экзальтация, диалоги Софии с Философом, который «смотрит в глубокую лазурь» ее очей и «слышит музыку» ее голоса, вторжения медиумического письма, когда вдруг резко, разом меняются и почерк, и слог — и уж это Она сама водит его рукою, давая своему рыцарю наставления, открывая тайны и клянясь в верности… Можно подумать: тут явно из ряда вон выходящая вещь, и сам автор никого не знакомил с нею — так надо ли говорить о ней, надо ли ставить сие лыко в строку русской софиологии? — Ответим: надо. При всех уникальных свойствах, соловьевская «София» — симптоматичный и даже, если хотите, типичный текст для того течения мысли, предтечею-провозвестницей которого она стала.
Ближайшим же образом, текст вполне показателен для зрелой и окончательной софиологии самого Соловьева. Это всегда у него осталось: установка религиозного новатора, который не следует в русле какой-либо традиции, но отвергает все старые русла, реформирует, обновляет или соединяет их. Поэтому та линия, тот контекст, которые он видит и выстраивает для своей мысли, оказываются в сфере вольного религиозного, но внецерковного умозрения, или «свободной теософии» (термин Шеллинга), не согласующей себя с догматами веры, но разве что «учитывающей» их, чтобы обращаться с ними по усмотрению. Именно этому жанру и принадлежит древний гносис, а в Новое время — западная софийная мистика, тогда как православная мысль диаметрально противоположна ему: она всегда видит себя живущей в традиции, и притом совершенно определенной — традиции, что сквозь века тщательно хранит идентичность своих духовных установок и имеет в своей основе святоотеческое предание. Предание это — истинный стержень всего православного типа мысли — всегда было Соловьеву близко и интересно куда меньше, чем гностики. Понятно, что, обращаясь к Софии, «свободная теософия» уже не имеет особой ориентации на новозаветную, церковную и патриотическую трактовку Премудрости. Как правило, София имеет здесь ту или иную связь с Логосом, но связь эта не носит характера прямого и однозначного отождествления. На первом плане, Премудрость выступает самостоятельною фигурою, с отчетливым акцентом на женском роде ее, и связь, порой и более тесная, может у нее существовать также с Богоматерью, Церковью, она может принимать лик ангела, и т. д. и т. п. Вспомним бесчисленные метаморфозы Софии у гностиков.
Сказанное не объясняет, однако, одного: огромного влияния и значения Соловьева и соловьевской софиологии в истории русской мысли. Что и естественно, ибо такая роль еще никак не вытекает ни из юношеской «Софии», ни из тяги к «свободной теософии» и религиозному реформаторству. Ее обеспечивает нечто совсем иное: открытие нового религиозно-философского направления, по которому следом за Соловьевым пошли многие. Сомнительная софийная мистика соединялась у Соловьева с несомненным философским даром и мощным системосозидательным импульсом. И это соединение творческих потенций приводит к тому, что Соловьев открывает для софиологии новый путь, новое русло, в котором она становится уже не привычным конгломератом визионерства, гностических фантазий и рационалистических схем (и с тем — вполне маргинальным феноменом для истории мысли), но достаточно основательным философским направлением: метафизикой всеединства.
Связь Софии и всеединства — счастливая находка, открытие Соловьева, ставшее ключом к появлению единственного оригинального направления в русской философии. Всеединство давно было известно и признано в качестве принципа или символа, весьма плодотворного для метафизических построений. Это — идеальное и всеохватное единство множества, в котором сверхрациональным образом осуществляется тождественность всякой части — целому; оно недостижимо в эмпирическом, «падшем» мире, где непреодолимы разъединенность и конечность, и ближайшим родственным ему понятием может служить платоновский мир идей. Учение о всеединстве развивалось древнегреческими философами, а в христианскую эпоху получило порядочное распространение в широкой, влиятельной традиции христианского платонизма; его, в частности, весьма продвинул и углубил крупнейший мыслитель Возрождения кардинал Николай Кузанский (1401—1464). В Новое время оно почти исчезло из философии, однако присутствует у Шеллинга, чья философия, особенно поздняя, явно повлияла на Соловьева: мы найдем в ней не только всеединство, но и многие понятия и мифологемы («природа в Боге», «мировая душа» и др.)» какими Соловьев описывает Софию, впервые — если говорить об открытых текстах — вводя ее в собственную философию в Седьмом из «Чтений о Богочеловечестве» (1878). И все же связь, о которой мы говорим, у Шеллинга не акцентируется и не используется, не делается ключом и пружиною философского построения.
В контексте европейской философии конца XIX века, софиология, развиваемая как метафизика всеединства, — или же метафизика всеединства, строимая под знаком Софии, — едва ли могла восприниматься как крупная новация и привлекательный путь. Попытки построения религиозно-философских систем на базе более или менее умозрительного, обобщенно-универсализованного христианства входили издавна в европейский философский процесс и уж успели отойти на периферию. Ранняя метафизика Соловьева, изжив неприкрытый гностицизм «Софии», сильнее приблизилась зато к построениям немецкой философии — классического идеализма и отчасти романтизма. Стремление к всеохватному концептуальному синтезу, использующему принцип триады, не могло не ассоциироваться с Гегелем, внедрение в метафизику христианско-гностических мифологем — с поздним Шеллингом, и в целом, для европейского взгляда легко создавалось впечатление некоего запоздалого гибрида шеллингианства и гегельянства (впечатление, верное вовсе не до конца, ибо любые влияния никогда не уничтожали у Соловьева врожденной самостоятельности мысли в ее ядре). Но взгляд из России оказывался совсем иным — ибо иною была здесь философская и духовная ситуация.
Главной чертой философской ситуации было затянувшееся отсутствие русской философии. Независимо от всех прений славянофилов и западников, сама жизнь, сам ход русского самосознания с ясностью обнаруживали, что простой образованностью, усвоением европейской философии и присоединением к ее трудам не исчерпываются потребности русской культуры и русской мысли — ибо в эти потребности входит и что-то более самостоятельное, свое русло, свой философский путь. Этого долго не возникало — и философия Соловьева стала первым опытом, способным выполнить зачинательскую миссию. Она не только была первой философской системой, созданною в России, но и звала к продолжению своих тем. У нее были явные стимулирующие свойства: написанные логично, ясно, задорно, соловьев-ские тексты с легкостью возбуждали и притяжение, и отталкивание, и желание конструктивно-критичного философского продумывания. Но в полной мере вся ее роль понятна только в связи с шедшей за ней эпохой. Нельзя представить себе более тесной связи, более полного, интимного историко-культурного совпадения, чем Владимир Соловьев — и Русский религиозно-философский ренессанс. Облик Соловьева — и призрак его Софии — чудятся и мелькают всюду и на всем протяжении этой уникальной поры в жизни русского духа. Своим всеединством он задал Серебряному веку серьезную (хотя все ж, увы, архаичную) тему и большую работу; своей Софией он не просто оказался созвучен слабостям и соблазнам этой эпохи, но доброй долей создал эти соблазны. Российский Серебряный век, как мир древней Александрии, — мир в преддверии и предчувствии катастрофы. Серебряный век — русская Александрия, и Соловьев с Софией — пророк ее. Прошу не понять как юмор.
* * *
Следующим опытом русской софиологии стала философия Флоренского — ранняя его философия, представленная в знаменитой книге «Столп и утверждение Истины». По непреложному закону развития, этот второй опыт — своего рода антитезис к софиологии Соловьева; едва ли в нем можно отыскать какие-либо соловьевские влияния, да и по всему складу личности и творчества два мыслителя были полной противоположностью друг другу. Типологически и структурно, перед нами — вполне однородные явления, системы софиологии, развиваемой как метафизика всеединства; однако и всеединство, и София, и связь между ними представлены у Флоренского по-своему, совсем не так, как у Соловьева.
Мысль Флоренского развивается совершенно в ином ключе и в иной стихии: если Соловьев стремится явить новое учение, стоящее выше всех традиций как ограниченных, искаженных выражений всеобщей истины и вселенской религии, то Флоренский утверждает своим главным принципом верность церковно-православной традиции и своей единственной целью — раскрытие ее учения. Соответственно, ему требуется представить и всеединство, и Софию, и софиологию как элементы ортодоксального православного вероучения. Задача заведомо неразрешима — и однако о. Павел с настойчивостью и последовательностью строит ее решение. Решение складывается из двух частей: Флоренский разрабатывает собственные оригинальные концепции всеединства и Софии, основанные целиком на представлениях платонизма и христианского платонизма; и он доказывает, что платонизм собственно и есть ортодоксальное православное учение.
Как известно, в патристике имеется несколько своего рода мостов, переходных звеньев, посредством которых в христианское умозрение входят, внедряются элементы платонизма. Один из главных таких мостов — концепция замыслов Бога о мире и о каждой из вещей, каждом из существ в мире. Ясно, что эта концепция — прямой слепок с платоновской идеи; но она допускает и довольно основательную христианизацию, находя у отцов Церкви активное применение и развитие. Отсюда, в частности, вырастает учение об образе и подобии Божием в творении, на которое будет существенно опираться в своей софиологии Булгаков, друг и отчасти последователь о. Павла. У Флоренского же в «Столпе» замысел, мысль Бога о тварной вещи или же личности трактуется как Любовь Божия к ней. Этот конкретный замысел Божий есть «идеальный первообраз» тварной личности, или ее «любовь-идея-монада»; и это — порождающий концепт, «атом» для всех построений Флоренского. Он рассматривает полную совокупность, собрание всех «монад», отвечающих всем индивидуальностям всевременного и всепространственного мира, устанавливает свойства такого собрания и находит, что оно, будучи скрепляемо и животворимо любовью, есть совершенное единство — и не просто единство, но «организм» — и не просто организм, но и личность, ипостась. Последний вывод уже приближает вплотную к цели. О. Павел заключает, что собрание всех замыслов Божиих есть «идеальная личность мира» и есть «осуществленная Мудрость Божия, Хохма, София или Премудрость». Вместе с тем, как идеальное единство множества, эта София-Хохма есть и всеединство.
В построениях Флоренского задан вектор, определяющая тенденция всей русской софиологии после Соловьева: ее представители искренне пытались преодолеть ту оторванность от православной традиции, от церковного сознания и святоотеческой мысли, что явно присутствовала у Соловьева. В отличие от него, у них всех — очевидное стремление интегрировать свою мысль в Традицию, представить свои учения о Софии органичною частью и продолжением ее. Но эти благие намерения не могли быть до конца успешны по самому существу дела. Для всех постсоловьевских опытов русской софиологии типично одно и то же: они направляют свои усилия, чтобы преодолеть расхождения софийной мысли с догматикой и вероучением Православия — но, устраняя одни расхождения, они немедленно впадают в другие.
Что же до Флоренского, то у него истоком всех расхождений служит его полная и безоговорочная приверженность платонизму. Она выходит далеко за пределы ограниченного и переосмысливающего принятия отдельных элементов платонизма у отцов Церкви, и она влечет его к выводу, заведомо не выдерживающему критики: будто в сфере философии христианство и платонизм попросту совпадают, суть одно. Но тут имеется и другая сторона. Хоть вывод и неприемлем, но философский дар о. Павла позволил все же ему достичь истинного корня всей запутанной софийной проблемы: этот корень лежит, действительно, в теме «Платонизм и христианство», или же «Платонизм и православие».
Решение этой темы сложилось в Православии далеко не сразу; решающее продвижение достигнуто было лишь в Византии, на закате существования Империи. Долго вынашиваемое, оно обладало зато особой зрелостью и весомостью, поскольку явилось не простым продуктом теоретического разума, отвлеченной теологической или философской мысли. Будучи выражено и обосновано в писаниях св. Григория Паламы (1296-1359), оно имело прямую связь с живым опытом Богообщения, добываемым и хранимым древнею школой молитвенной практики Православия — традицией исихазма, или священнобезмолвия. Разбирая, толкуя соборный опыт афонских подвижников-исихастов, к которым принадлежал и он сам, сверяя его со святоотеческим учением, св. Григорий обосновывает положение о том, что связь, соединение человека с Богом осуществляется в сфере энергий: человек всеми своими энергиями, духовными, душевными и телесными, стремится сообразоваться с присутствующею в мире Божественной энергией (благодатью), стремится содействовать, соработничать ей — «стяжать благодать», по старой православной формуле. Отсюда возникает известный «паламитский догмат», вероучительный тезис, принятый на Поместном Соборе 1351 г.: человек соединяется с Богом по энергии, но не по сущности.
Паламитский догмат, закрепляющий собою опыт православного подвига, означает кардинальное расхождение с позициями платонизма и всех восходящих к нему теорий. «Платон со всей своей злоучительной болтовней», — так отзывается об этих позициях Палама. По платоническому учению о Боге и бытии, мир и человек причастны Богу именно в своей сущности — хотя эта причастность осуществляется, как правило, через те или иные посредствующие инстанции. Выбор этих инстанций, характер их и устройство чрезвычайно разнятся в разных учениях и доктринах — от простого «мира в Боге» классической европейской метафизики до дегенеративно разбухших гностических номенклатур эонов, сизигий и Бог весть кого еще. Как ясно читателю, не чем иным как одною из подобных инстанций, посредствующих между Богом и миром, и оказывается София — всегда, как только она выходит за рамки, отведенные ей Новым Заветом, — рамки прочной и однозначной отнесенности ко Христу. Православие же утверждает иной род связи между Богом и миром — связь энергийную, которая, в отличие от связи по сущности, незакрепляема и проблематична, требует непрестанного и непростого, «умного» усилия — однако зато является связью прямой, без какого бы то ни было посредства. Все посредствующие уровни и ступени, духи и существа платонической, неоплатонической, гностической или «свободно-теософической» картин бытия — отвергаются, исчезают. «Когда благодать явилась, необязательно всему совершаться через посредников», — говорит Палама. Эта простая формула — прямой ответ на вопрос об отношении Православия к софиологии. Исихастская традиция, истинный стержень православной духовности, имеет, как всем известно, свой капитальный свод текстов, многотомную книгу «Добротолюбие», что играла — и надеемся, еще будет играть — огромную роль в духовной жизни православной России. Раскроем эту книгу, перелистаем всю ее, от первого до пятого тома, — и мы не найдем в ней никакой Софии-Премудрости. Ее там нет.
* * *
Расставив, таким образом, все точки над i, мы можем теперь лишь кратко коснуться оставшихся учений. Как мы уже говорили, софиологические настроения и построения составляют характернейшую черту культуры «русского ренессанса»; следы их — едва ли не во всех ее сферах, а в русском символизме они определенно господствуют. В философии их спектр довольно обширен. Недавно были впервые опубликованы сохранившиеся фрагменты самого раннего опыта — незавершенной студенческой работы С. Н. Трубецкого «О Святой Софии, Премудрости Божией» (1885-86). Это еще не «учение о Софии», но лишь осторожные подступы к нему — штудии, сбор материалов. Поздней ряд последователей нашла софиология Флоренского — под ее влиянием были Эрн, Дурылин, отчасти и Лосев. На каких-то своих этапах сближалась с софиологией философия Вяч. Иванова, Карсавина, даже Бердяева, не примкнувшего к метафизике всеединства (к нему София, как и многие другие идеи, пришла от Беме — в «Смысле творчества», «Этюдах о Якове Беме» она возникает в ряде избранных тем, в частности, об андрогине). Однако развернутых софиологических систем, помимо учений Флоренского и Соловьева, возможно указать всего две. На наш взгляд, они несут уже меньше творчески оригинального и принципиально нового — хотя софийное учение о. Сергия Булгакова является и самым обширным, и самым обсуждавшимся из всех. Софиология князя Евгения Николаевича Трубецкого (1863-1920) — усердная, честная и довольно неуклюжая попытка соединить вместе три явно несоединимых элемента: влияние софиологии Соловьева (с которым князь был в близких дружеских отношениях с юных лет) — стремление базировать свою мысль на солидном основании, на строгой и современной европейской философии — и твердую, незыблемую приверженность Православию в его канонических, церковных формах. Поистине — лебедь, рак и щука.
Солидным и строгим основанием для философской мысли в начале нашего века представлялось неокантианство — направление, почти целиком ограничивающее горизонт философии гносеологическими и методологическими проблемами и в самой сути своей полярное софийным спекуляциям и визионерству — как веком назад сам Кант был резким противником Сведенборга, которого Соловьев числил в своих предшественниках. Соответственно, философия, пытающаяся сочетать софиологию и неокантианство, несет в себе заведомо нечто противоречивое — а можно и сказать, синкретическое, памятуя об александрийском типе культуры Серебряного века. Но неокантианства у Трубецкого было не слишком много — так, некоторый европейский позумент на русском кафтане… Трубецкой начинает, как бы на кантианский манер, с гносеологического анализа — но его анализ как-то относительно быстро и легко приводит к понятию Абсолютного Сознания. Это центральное понятие его метафизики, определяемое им как собрание всех «истин-смыслов», относящихся к Абсолютному (Богу) и ко всему сущему в мире, имеет весьма мало общего с неокантианскими концепциями сознания, но зато полностью возвращает нас на знакомую почву христианского платонизма с его «идеальными первообразами» и «миром в Боге». Трубецкой развертывает и критику кантианской гносеологии, вскрывая за нею скрытые «онтологические предпосылки». Критика эта, близкая к русской «онтологической гносеологии» тех лет, к идеям его брата С. Н. Трубецкого, Франка, Лосского и других, занимает объемистую книгу с подзаголовком «Опыт преодоления Канта и кантианства» — и все же оставляет его философию довольно поверхностною смесью непреодоленных кантианских влияний с общими структурами софийного платонизма и общим духом православной церковности. Что же до собственно софиологии, то главная ее часть умиляет некою первородной и несокрушимой наивностью: пройдя искусы неокантианских методологий, пережив на глазах своих гниение и развал великой родины, его и моей, князь Евгений Николаевич в своей последней книге «Смысл Жизни» (1918) решает проблемы бытия, добра и зла, философии истории, разнося вещи мира по двум длинным спискам, в одном — все софийное, хорошее, а в другом — нехорошее, антисофийное: софийны — день, голубизна небес, любовь и «солнечный гимн жаворонка»; антисофийны — ночь, безобразие, хаос, «хохот филинов», «когти и зубы хищника»… Благодушная бухгалтерия русского барина, которою так славно заниматься голубым летним утром, под липами в усадьбе, за самоварчиком. В Москве же 1918 г. подобная дребедень есть откровенное банкротство мысли — сколь мы ни разделяли бы ее нравственный пафос.
Так мы близимся постепенно к окончанию нашей темы, к ее последнему эпизоду — финалу? кто знает! — в Париже. Эпизод этот связан с судьбою учения о Софии о. Сергия Булгакова. Первоначально о. Сергий обратился к идее Софии под влиянием Флоренского, однако в дальнейшем он оказался много более стойким и активным приверженцем этой идеи, нежели его Друг (как называет он о. Павла). После «Столпа и утверждения Истины» Флоренский оставил софиологию, чтобы разработать «конкретную метафизику», учение совершенно иного рода, хотя и пребывающее в том же широком русле платонизма. Булгаков же в этот период лишь намечал очертания своих софийных концепций. Впервые, еще бегло и предварительно, они представлены им в «Философии хозяйства» (1912); затем «Свет Невечерний» (1917) приступает уже вплотную к их систематическому развитию. Это — обстоятельный (и отлично написанный) софиологический трактат, с историческим очерком, с последовательным проведением софийной темы во всех разделах учения о Боге, мире и человеке. В главнейших пунктах, позиции автора — типичный, уже знакомый нам софийный платонизм: София — идеальный первообраз мира, «предвечное человечество в Боге», или еще — «всеорганизм идей»; в ней и через нее осуществляется причастность мира Богу, и она обладает личной, ипостасной природой.
Новое же, что вносит Булгаков, остается на уровне отдельных мотивов и акцентов, из коих наиболее важны и заметны два: так называемый «религиозный материализм» и историзм. Общий тезис о софийности твари, наличии у нее «корней в Боге», о. Сергий усиленно прилагает к религиозному оправданию материи и хозяйства, трудовой земной жизни, вслед за Достоевским развивая народную тему о «Матери — Сырой Земле» — как Богородице, стихии, отзывающейся и сотворчествующей Богу, способной воплотить Богочеловека. Что же до историзма, то, в отличие и от Флоренского, и от большинства платонических учений, Булгакову присуще историчное и динамичное видение явлений, и бытие мира предстает у него как Богочеловеческий процесс, охватывающий не только историю, но и ее сверхисторическое завершение, эсхатологию, и осуществляющий воссоединение мира со своим Божественным замыслом-первообразом: «соединение Софии тварной с Софией Божественной», на языке учения Булгакова.
К отличиям софиологии о. Сергия принадлежит и пройденная ею своеобразная эволюция. «Философия хозяйства» и «Свет Невечерний» — образцы основного философского жанра Русского ренессанса, так называемой «русской религиозной философии». Это — смешанный жанр, лежащий между богословием и философией и, как правило, злоупотребляющий этим промежуточным положением: тут автор нередко не считает себя обязанным следовать до конца требованиям ни философии, ни богословия; когда они кажутся ему стеснительны, он себя освобождает от них. Зато труды русских философов зачастую отличаются художественными достоинствами, доставляя отличные примеры философской эссеистики, лирической и исповедальной прозы — так что, в итоге, жанр следует считать не столько ущербным, сколько опять-таки — синкретичным: перед нами снова печать русского александрийства. — Но жанр этот не удовлетворял о. Сергия: пережив возвращение к глубокой вере и Церкви, приняв священство в 1918 г., он приходит к тому мнению, что философия в принципе неспособна верно следовать христианскому учению и обречена быть еретическою. Развив этот вывод в книге «Трагедия философии» (1920-21), он целиком переходит в своей работе в область богословия. Как показало будущее, в этом решении крылась драма или некая мефистофельская усмешка судьбы: оставив философию из отталкивания от ереси, став богословом, о. Сергий именно этим и навлек на себя целую кампанию обвинений в ереси: тексты Флоренского или Соловьева нередко отходили от ортодоксальных позиций куда дальше Булгакова — и однако, как бы не совсем принадлежа богословию, не вызывали активной догматической критики.
Кампания против булгаковского учения и есть тот последний эпизод, которым покуда завершается наша тема. «Финал в Париже» разыгрывался в середине тридцатых годов, вскоре по выходе в свет книги о. Сергия «Агнец Божий» (1933). Это — центральный текст софийного богословия Булгакова, как «Свет Невечерний» централен для его софийной метафизики. Неудивительно, что трактат по догматическому богословию, прямо вводивший Софию в жизнь и устроение Пресвятой Троицы (чего никогда не было в церковном учении), отождествлявший Софию с Сущностью Бога, в некотором Ее особом аспекте (чего также не делалось никогда), — вызвал возражения различного рода. Уже в 1935 г. появился объемистый контртрактат «Новое учение о Софии Премудрости Божией» архиепископа Серафима (Соболева). Помимо обширной догматической критики, тут усиленно утверждалась близость софиологии Булгакова и отчасти Флоренского к учениям гностицизма и каббалы (хотя ценность анализа и выводов умаляется простоватостью автора, который явно недопонял многого в критикуемом — так, у Флоренского он усматривает «абсурд» в том, что тот «именует Софию одним существом… и одновременно идеальным человечеством, т. е. многими существами»). В том же году последовали осуждения булгаковского учения в указах Московской Патриархии и зарубежного Карловацкого Синода. Московский указ был подготовлен на основе разбора софиологии Булгакова, проделанного В. Н. Лосским и выпущенного им затем отдельной брошюрой «Спор о Софии» (1936). Этот небольшой текст остается поныне самой глубокой критикой софиологии — критикой именно с тех позиций «православного энергетизма», что мы очень бегло очертили выше. Сам Булгаков представил обстоятельные ответы на оба указа, и специальная богословская комиссия Западноевропейского Экзархата, к которому принадлежал о. Сергий, рассмотрев материалы спора, вынесла сдержанное нейтральное решение. Стоит только заметить, что входивший в комиссию о. Георгий Флоровский — наряду с Вл. Лосским, другой крупнейший богослов следующего поколения — остался при особом мнении, твердо негативном к софиологии.
Для нас в «споре о Софии» поучительно то, что на стороне софийных учений, кроме Булгакова, не нашлось практически никого из видных представителей православной мысли (за вычетом разве что Л. А. Зандера, его прямого ученика). И это — вопреки тому безусловному уважению, почитанию, любви, какие привлекал к себе о. Сергий своею личностью, своею огромной деятельностью в русской культуре. В юбилейной статье к столетию со дня рождения о. Сергия, о. Александр Шмеман (1921-1983), бывший его студентом, писал: «Смотря на него, следя за ним… я всем своим существом чувствовал: нет, этот человек не еретик, а, напротив, весь светится самым важным, самым подлинным, что заключено в Православии. А, вместе с тем, читая его, пытаясь следить в толщенных его фолиантах за сложной диалектикой "Софии Божественной" и "Софии тварной"… я так же сильно чувствовал: — не то, не так, не о том». Для поколения о. Александра, следующего уже за поколением Флоровского и Вл. Лосского, русская софиология больше не была по-настоящему спорным и актуальным предметом. Бросив вдумчивый взгляд на весь ее путь, мы поймем: судьбу ее, в сущности, решила история.
После Второй мировой войны в немецком богословии был задан острый вопрос, определивший почти весь его послевоенный путь: Как возможно богословие после Освенцима? Подобный вопрос должен был возникнуть в России намного раньше, и звучать он должен был так: Как возможна софиология после Октября? Православное богословие (в отличие от протестантского, что через Лютера и Августина стойко тяготеет к неоплатонической онтологии) в целом не ставилось под вопрос дьявольщиной двадцатого века. Православный подвиг, постигший на опыте энергийную природу связи Бога и человека, с IV века предупреждал: лишь трезвым и непрестанным усилием держится эта связь, она не значит благих гарантий, и «если захочешь погибнуть, никто тебе не противится и не возбраняет» (преп. Макарий Египетский). Однако софиология утверждала «идеальные первообразы» и «корни в Боге» за всем на свете, независимо ни от какого трезвения и усилия, — и не диво, что ее постоянные спутники в России были — иллюзии и прекраснодушие, маниловщина, принятие желаемого за действительное. В начале роковой для России Первой мировой войны приверженцы софиологии активнее всех включились в ликующие восторги и предсказания скорых триумфов; они софиологически доказывали несокрушимость Святой Руси, несомненность русской победы и что Константинополь должен быть наш. Трезвые современники тогда же видели сомнительность и опасность этих восторгов, этих уверенных апелляций к «софийному лику» России. Иван Бунин назвал такие взгляды и настроения «великим дурманом» и свое отношение к ним описал так: «Раз, весной пятнадцатого года, я гулял в московском зоологическом саду и видел, как сторож, бросавший корм птице… давил каблуками головы уткам, бил сапогом лебедя. А придя домой, застал у себя Вячеслава Иванова и долго слушал его высокопарные речи о "Христовом лике России" и о том, что после победы над немцами предстоит этому лику "выявить" себя еще и в другом великом "задании": идти и духовно просветить Индию, — да, не более не менее, как Индию, которая постарше нас в этом просвещении этак тысячи на три лет! Что ж я мог сказать ему о лебеде? У них есть в запасе "личины": лебедя сапогом — это только "личина", а вот "лик"…» Другим трезвым критиком софийных миражей был Густав Шпет, представитель феноменологии — одной из самых трезвых и строгих философий. В мемуарах Федора Степуна рассказано, как уже при большевиках Шпет выступил с резкой речью против утопизма московских софийно-славянофильских кругов, где все по-прежнему полагали и настаивали, что Москва — третий Рим. «Какой к черту третий Рим, когда в Кремле засели большевики?» — Нетрудно признать в этой реплике русского феноменолога вариацию нашего вопроса: Как возможна софиология после Октября?
Эта слабость к иллюзиям и миражам, к соблазнам сомнительного и двусмысленного умствования в который раз возвращает нас все к тому же. Русская софиология в сильнейшей степени наделена тем свойством, что называется по-английски dated: она — датированное явление, меченое своим временем. Она неотделима от эпохи Серебряного века с ее единственным в своем роде обликом русской Александрии. И, когда умерла эпоха, меченое ею явление мысли стало неотвратимо тем, что называется по-английски out-dated: явлением с просроченной датой. Зажившимся.
* * *
Нет спору, что сегодня, когда мысль в России снова стала свободной, нам следует заново прочесть и заново оценить наследие русской софиологии. Необходимы изучение материалов, публикация текстов, критический разбор и анализ, конкретно показывающий ее «датированность». Однако едва ли все это делается сейчас. Софиология приобретает некоторую известность, вызывает некоторый интерес, только эти процессы — иного и специфического рода. Известность появляется оттого, что русская религиозная философия вводится в преподавание, становится частью привычного идейного фонда, имеющего хождение в прессе и обществе. Но как происходит это и что означает? В университетах и вузах, те же испытанные каменные лбы, что прежде насильственно впрыскивали российскому юношеству атеизм, диамат и другие слабительные средства, ныне с готовностью начиняют юные мозги Соловьевым и Булгаковым. В академических институтах, проблемных центрах ушлые мыслители, проваренные в чистках как соль, бодро примериваются, как бы употребить софийность и соборность на нужды обеспечения — идеологического для страны, материального для себя лично. Русская религиозная мысль в надежных руках.
Недавно я имел случай сам убедиться в этом, посетив конференцию памяти о. Сергия Булгакова в МГУ. В стенах старейшего университета, с которым связан весь путь русской софиологии — здесь учились Соловьев и Флоренский, профессорствовали Булгаков и Трубецкой — происходило типичное юбилейное заседание брежневских времен. Зачитывался юбилейный доклад, соединявший в себе густой бред и тошнотворный сюсюк. Превозносился и возвеличивался «универсальный гений», «великий русский феномен», который «плодотворно проявил» и «смог не только отразить, но и заложить». О. Сергий занимал вакантное место то ли Энгельса, то ли Чернышевского… И сами собой всплыли строки Пастернака: «После его смерти Маяковского стали вводить принудительно, как картофель при Екатерине. Это было его второй смертью, в которой он неповинен».
1996
Статья из книги "О СТАРОМ И НОВОМ" (стр.141–168)
Изд-во "АЛЕТЕЙЯ", Санкт-Петербург, 2000 г.
ПРЕМУДРОСТЬ БОЖИЯ ПОСТРОИЛА ДОМ (Притчи 9:1),
ЧТОБЫ БОГ ПРЕБЫВАЛ С НАМИ:
КОНЦЕПЦИЯ СОФИИ И СМЫСЛ ИКОНЫ
Инаугурационная лекция, прочитанная С.С. Аверинцевы 1 сентября 1998 года в Национальном Университете «Киево-Могилянская Академия» по случаю присвоения звания профессора Honoris causa
Я очень благодарен руководству Киево-Могилянской Академии за почетную возможность обновить старые и теплые отношения с вашим славным городом, который накопил в себе столько сокровищ исторической памяти. Благодарю за разрешение прочесть лекцию в помещении Академии, которая в позднесхоластический и раннемодерный периоды была такой важной для нас, северных учеников киевских докторов, как образец для наших московских образовательных учреждений, таких как школа братьев Лихудов или Славяно-греко-латинская Академия.
Именно в качестве почетного гостя из северной Москвы, можно сказать, москаля, я и обращаюсь к вам. Прошу простить меня за то, что не владею украинским языком. Хотя нельзя сказать, чтобы этот язык был для меня совсем чужим и неизвестным: моя мать — фактически наполовину украинка, — бывало, пела мне на ночь украинские песни, большей частью на стихи Тараса Шевченко, и я познакомился с этими великими творениями таким вот особым сентиментальным образом.
Впоследствии в течение жизни я вновь и вновь делал попытки изучать украинскую поэзию по первоисточникам. Но, как я уже сказал, я не владею вашим языком и потому не решаюсь говорить на нем, чтобы не оскорбить ваше внутреннее чувство языкового достоинства в фонетике, лексике и грамматике, чтобы не совершить, Боже сохрани, crimen laesae majestatis linguae Ruthenicae.
Предмет моей лекции разносторонне связан с геоисторическим локусом нашего сегодняшнего диалога. Лично мне кажется невозможным произносить имя города Киева без мысли о его святейшем Палладиуме, зовущемся собором Святой Софии (и который был темой моей софиологической лекции, прочитанной в Москве в 1966 году и опубликованной, в соответствии с обычными советскими условиями, несколькими годами позднее).
Он вызывает размышления о значении имени «София, Премудрость Божия» и напоминает мне хорошо известный факт связи созданного в Киеве иконографического типа Софии с западным типом «Непорочности». Трудно не вспомнить еще и другой факт, а именно — факт украинского происхождения самого выдающегося русского софиолога — Владимира Соловьева. Итак, я попытаюсь ответить на вопрос о сущности этого феномена: Икона Софии. Собственно, речь пойдет о двух взаимосвязанных вопросах: 1. Что такое София? 2. Что такое икона?
Созданная в Византии восточно-христианская традиция иконы, развитая в восточно-европейском ареале, от Македонии до монастырей северной России, являет особый тип святого образа, который занимает среднюю позицию между эмоциональным и чувственным искусством Запада и схематичным и статичным возбуждением каких-нибудь индуистских йантра или исламских каллиграфических изображений. Он не является ни тем, ни другим, но объединяет в себе очень существенные элементы их обоих, например, некоторые священные монограммы, ИСХС, что означает Иисус Христос, МР OY, что означает Матерь Божия и др., которые напоминают нам восточную склонность к каллиграфии, а также фигурные элементы. Традиционные законы иконы не позволяют ни миловидности ренессансных мадонн, ни тучности барочных святых; но отказ от чувственного не исключает человеческого лика и человеческой формы как главного отображения Божественного, и при всех художественных модификациях определенные аспекты древнегреческого художественного мировосприятия сохраняются, не допуская полной ориентализации. Движение еще сохраняется, его не заменяет тотальная статичность буддийского образа; восприятие пространства мистически модифицировано, но не искоренено; это чувство управляется аскетической дисциплиной, но не заменяется каким-то нирваническим отсутствием эмоций. Это художественное и духовное равновесие, существующее как раз посередине между крайностями восточного негуманистического ощущения священного и западным гуманизмом, кажется, имеет какое-то особое универсальное значение. Оно — за пределами искусства, даже религиозного искусства. Конечно, такое равновесие, как любое равновесие, трудно было сохранить; на некоторых поздних иконах мы находим вряд ли нечто большее, чем тень этой давней гармонии. Но даже некоторые тени способны поражать.
Нужно помнить, что византийское богословие сталкивается со второй заповедью Декалога — «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли» (Исход 20, 4).
И как раз именно Византия, создавшая икону, породила и радикальнейшее иконоборческое движение. На протяжении столетий, пока существовало это противостояние, православные были заняты анализом, осознанием, осмыслением доводов иконоборцев и поиском адекватного ответа. Таким образом, острейшая проблема иконы как таковой явно понималась ими как тождественная центральным проблемам христианской метафизики: отображение Трансцендентного в имманентном как тайна, возможность которой была обусловлена иной тайной, тайной Воплощения, которая сущностным образом связана с материнским достоинством Богородицы. Эта связь замечательно изложена в византийском литургическом песнопении эпохи, следующей за эпохой иконоборчества:
«Неописанное Слово Отца описало Себя в Своем Воплощении через Тебя, Матерь Божия; когда Он обновлял оскверненный образ (т.е. человеческую форму) в его первообразе (в Боге), Он наполнил его божественной красотой; и мы, исповедуя спасение, отображаем его реальность словами и делами».
Большое значение имеет то, что в тексте этого песнопения говорится о Богородице. Византийское богословие и литургия представляют Ее как привилегированное место во вселенной, где трансцендентный Творец Сам становится имманентным Своим творениям и откуда заново воссоздает их. Через Нее, как сказано в некоторых важных с богословской точки зрения древних византийских песнопениях и гимнах, творения становятся новыми, ибо через Нее все творение радуется (последняя из названных формул, «О тебе радуется...», в России обозначает важный иконографический тип, который представляет Пресвятую Богородицу в космическом измерении). Вновь и вновь Она сравнивается с земным раем, с цветущим Эдемом. Она прославляется буквально как «Бога невместимого вместилище» и «честнаго таинства двери», «селение преславное Сущаго на серафимех», Жертвенник, Скиния Святая, Святая Святых, Дом Божий, Врата Небесные (Бытие 28,17), т.е. вход и жилище радикально, онтологически неприступного Бога. Тут перед нами — важнейший парадокс библейской веры. Может ли Бог — трансцендентный, духовный и вездесущий — наделить Своим особенным реальным присутствием какое-нибудь отдельное место в пространстве, хотя бы это было Святая Святых или лоно Марии, физическое тело Человека Иисуса или евхаристические хлеб и вино; не кощунственно ли по отношению к духовному и исключительно трансцендентному учению отважиться говорить таким странным языком? Что ж, этот вопрос известен был еще Ветхому Завету. «Поистине, Богу ли жить на земле? Небо и небо небес не вмещают Тебя!» (3 Царств 8, 27). Но все же Божие намерение, замысел и обетование остаются такими, какими они выражены в Исходе 29, 45: «И буду обитать (weshakanti) среди сынов Израилевых». Тот же семитический корень — shakan «поселиться», буквально «разбить шатер», — воспринятый греческим языком, употреблен в Иоанновом Прологе (Иоанн 1, 14): «И Слово стало плотью и обитало (εσκηνωσεν) с нами». Вездесущий стал Присутствующим, Невместимый обретает вместилище.
Но воля, враждебная этому Присутствию, которая называется в Новом Завете архонтом этого мира (Иоанн 12, 31; 14,30; 16,11), делает попытки развести Трансцендентность и имманентность, закрыть двери творения перед Творцом и таким образом очистить природу от всего сверхъестественного. В этом он получает некоторую поддержку от невольного союзника: от зелотского богословского рационализма, жаждущего искоренить все, что в его глазах скомпрометировано каким-либо напоминанием о народных полуязыческих верованиях древности или многобожия эзотерических кругов, и получить чистейший трансцендентализм.
Эта ревность понятна как протест, вызванный некоторыми недопустимыми преувеличениями; но и она в свою очередь недопустима, ибо несовместима с неотъемлемым богатством христианского опыта; эта ревность привела к антимариологическим, антисакраментальным и иконоборческим призывам, хорошо известным в истории христианства. Что же касается русского Православия, это заострило хорошо известные «софиологические» дебаты нашего столетия.
Мистическая концепция «Софии» содержит в себе как открытость творений перед Творцом, так и милость Творца к Своему творению, но и то, и другое — как единую и уникальную тайну. Эта концепция возникла в конце XIX века в философии и поэзии русского провидца и метафизика Владимира Соловьева (1853—1900), чтобы стать по-разному воспринятой и развитой двумя священниками-богословами — Павлом Флоренским (1882—1937) и Сергием Булгаковым (1871—1944), — но также чтобы встретить резкое противодействие со стороны многих других русских православных богословов (самые известные среди них Владимир Лосский и патриарх Сергий).
Может показаться немного странным, что концепция Софии обсуждалась (и обсуждается) в нашем столетии как что-то новое. Ведь в русской, как и в украинской православной иконографии «софиологические» темы и мотивы присутствовали на протяжении веков. Каковы же значение и богословское обоснование этих мотивов?
Основным источником их были книги «премудрости» Ветхого Завета. Оба духовных опыта, крайне важные для библейской веры — опыт первичной онтологической дистанции между Творцом и творением и опыт трансцендентного Присутствия, — привели к тенденции заменять Божие имя определенными словами, означающими модусы Его Присутствия в имманентности, такими как Его «Слава», Его «Сила» (Луки 22, 69) и т.п. Особое место среди этих имен принадлежит «Премудрости», или Софии. Космическое измерение и демиургический характер этой «Премудрости» раскрывается во многих местах 8-й главы Книги Притч:
«Господь имел меня началом пути Своего, прежде созданий Своих, искони. [...] Когда Он уготовлял небеса, я была там. Когда Он проводил круговую черту по лицу бездны, когда утверждал вверху облака, когда укреплял источники бездны, когда давал морю устав, чтобы воды не переступали пределов его, когда полагал основания земли: тогда я была при Нем художницею, и была радостию всякий день, веселясь пред лицем Его во все время, веселясь на земном кругу Его, и радость моя была с сынами человеческими».
То, что мы читаем здесь, не является ни Трансцендентностью как таковой, ни имманентностью как таковой, но точкой встречи их обеих; радость Творца разделена с Его творением и воспринята им. Очень легко увидеть поэтический, метафорический смысл, присутствующий повсюду в этом тексте, посредством риторической персонифицированной фигуры, но богословское значение этого текста не сводится лишь к его поэтике и риторике.
Что касается Нового Завета, то «Божия Премудрость» упоминается в Первом Послании к Коринфянам (1, 24) в явно христологическом контексте. Для критиков «софиологической» концепции этот текст кажется решающим: «Божия Премудрость», считают они, есть просто одно из христологических имен — и ничего больше. Представляется важным, однако, что Апостол Павел говорит не просто о Христе, но о Христе распятом, Χριστος εσταυρωμενος, даже, согласно контексту, о Кресте (1,18 ο λογος του σταυρου); здесь тема — так называемая икономия спасения, явно включающая кенотический акт Воплощения. Таким путем мы возвращаемся к тайне причастности, к обмену между божественным Логосом и тварной природой, заново сотворенной в Нем.
Так что это было не простое воссоздание языческих мифологий и гностических ересей, а скорее внутренняя потребность христианского опыта в том, чтобы символическая фигура Софии представлялась тесно связанной не только с Христом воплощенным, а и с личностным орудием Его Воплощения, представляющим в этой орудийной функции Творение в целом, т.е. с Богородицей.
Латинская надпись XII века в римской церкви Санта Мария в Космедине, принадлежавшая тем грекам, которые почитали иконы и были изгнаны иконоборцами, открыто именует Богородицу Премудростью Божиею. В ту же самую эпоху чтение из 8‑9‑й глав Притч было литургически связано с Богородичными праздниками как на Востоке, так и на Западе.
В русской рукописи XVII века София определяется как «душа неизреченного девства», т.е. сущность той чистоты, которая необходима для творения, когда-то сотворенного непорочным, чтобы оно оставалось открытым своему Творцу и было таким образом принято в общение с Ним.
Осмысливая комплекс этих идей, мы становимся способными постигнуть глубинное значение Софийной иконографии. Мы узнаем, например, это уникальное расположение Премудрости именно в том месте, где Сам Бог и Его Святые встречаются, так что Богородица и Иоанн Креститель обращены в своей молитве к Софии и, кажется, обращаются к ней, но над Софией расположена фигура Христа, верховного Участника этого диалога. Таким образом, мы не видим никакого языческого почитания Софии вместо Христа, никакой узурпации Христова места, лишь определенное отображение Его центральной позиции, поскольку престол Софии расположен ниже Христа, но между фигурами самых великих святых, изображенных в позе поклонения. Это кажется аналогичным месту Богородицы в иконографическом типе Пятидесятницы: Пресвятая Богородица находится среди трепещущих апостолов, Она — Сердце Церкви, а Христос — ее Глава; Глава тела помещена выше Сердца, но они вместе составляют функциональный центр всего организма.
Что же касается именно Киевского типа софийной иконографии, он демонстрирует отчетливую связь с католической иконографией Непорочного Зачатия. Доктрина Непорочного Зачатия имела статус догмата, обязательного для каждого католика еще в прошлом столетии, до 1854 г.; она была хорошо известна в эпоху барокко (воспринята также Киевской православной традицией и защищалась великим православным богословом св. Димитрием Ростовским) и придала важные импульсы сакральному искусству той эпохи. В очень распространенном иконографическом стиле, например у Мурильо, образ Богородицы приобретает космическое измерение, заимствованное из апокалиптического видения (Откровение 12, 1 и далее) «великого знамения», т.е. Жены, облеченной в солнце, с луной под ногами и короной с двенадцатью звездами на голове; в каждом из этих образов, включая украинскую православную софийную иконографию, перед нами — видение безгрешного творения, непорочного естества, земного рая в Эдеме перед Адамовым падением, т.е. видение земли, чистой, как небеса, видение Космоса, обретающего свою первобытную чистоту. Всякий, кто хоть немного знаком с мистическим символизмом, приобретающим такое огромное значение в художественных творениях, вдохновленных верой, может увидеть его уместность в воображаемых мирах Григория Сковороды или у Достоевского с его призывом целовать Матерь Землю, которая, по учению одной святой юродивой, упоминаемой в «Бесах», идентична Богородице («мать сыра земля Богородица есть») и обещает Божию милость ее блудному сыну Раскольникову.
Все мы знаем достаточно распространенные аргументы разных точек зрения, конфессиональных, «культурологических» или даже «геополитических» по поводу того, что само существование католической, ergo западной доктрины и иконографии Непорочного Зачатия, представленной в более или менее космических параметрах, уже достаточно для доказательства того, что любые идеи или образы этой тенденции абсолютно чужды конфессиональной идентичности Православия, так же как и культурной тождественности восточнославянского пространства, ибо представляют собой не более чем одно из следствий западной культурной экспансии или, согласно отцу Георгию Флоровскому, некую киево-московскую «псевдоморфозу». Действительно ли это так? Характерный для римо-католического способа мышления догмат 1854 р. проявляется лишь в некоторых деталях своей неосхоластической артикуляции, т.е. в использовании ею таких юридических концепций, как заслуги, но не в ее сущности. Если русский православный богослов отец Сергий Булгаков, остро критикуя эти юридические концепции в своем мариологическом трактате «Купина Неопалимая» (1927), в то же время мог воспринять видение Непорочной Марии в ее сущностной, онтологической глубине, то можно показать, что он в этом вопросе был ближе к литургической, иконографической и мистической традиции Православия, чем его богословские антагонисты. Но мы не можем проследить в этом контексте все возможные богословские контроверзы; касательно же культурологического измерения этой проблемы, то невозможно отрицать свидетельство такого гения Украины, как Сковорода, такого протагониста русской метафизики, как Достоевский, не говоря уже о неисчислимых фольклорных свидетельствах восточнославянских народов.
И теперь мы возвращаемся к проблеме иконы вообще, чтобы несколько иначе подойти к более широкой проблеме, а именно: Трансцендентность против имманентности.
Любая христианская теория сакрального искусства всегда сталкивается со второй заповедью Декалога: «Не делай себе кумира (pesel, ειδωλον) и никакого изображения (temunah, ομοιωμα) того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли» (Исход 20, 4). Этот строгий запрет имеет очень глубокое значение, поскольку отрицает любое легкое удовлетворение духовного желания, любое потворство подмене, любую опасную смесь истины с иллюзией, защищая реальную вещь от компрометации ее подделками. Для религий, воспринявших наследие Ветхого Завета, запрет идолопоклонства составляет единственную возможность быть серьезными перед лицом Бога. Люди, исполняющие эту заповедь буквально, заслуживают уважения как защитники серьезности; даже если иконоборчество ранних протестантов нас несколько раздражает, поскольку они уничтожили богатства средневекового искусства, мы, однако, должны понимать их мотивы.
Традиция православной иконы возникла и развилась, как известно, в Византии. Что ж, нужно еще раз сказать, что и сама Византия создала радикальнейшее иконоборческое движение задолго до западноевропейской Реформации. И в этом заключается тайна иконы: теория и искусство иконы действительно противостояли вызову иконоборчества, понимая, переосмысливая и трансформируя причины его возникновения и вырабатывая адекватный конструктивный ответ. В непосредственном контексте, открытом византийскими мыслителями, феномен иконы должен быть объединен не только с концепциями литургическими и эстетическими, но также с онтологическими и гносеологическими.
Слово «икона» происходит от греческого εικων «образ, изображение». В языке греческой православной традиции это слово очень насыщенное, с большим числом глубинных коннотаций. Оно употреблялось не только для обозначения предмета сакрального искусства, но прежде всего как богословский технический термин в контексте толкования видимого мира по отношению к невидимой реальности. «Воистину видимые вещи — явленные иконы (εικων) вещей невидимых», — говорит тот великий богослов эпохи патристики, чьи труды сохранялись на протяжении столетий под именем Дионисия Ареопагита. Все творение функционирует как «икона»; для разума, ищущего Бога, все есть «икона» в смысле известного высказывания Гете обо всех вещах как «лишь притче» (nur ein Gleichnis). Но это остается истинным, согласно византийскому богословскому учению, даже за пределами царства сотворенных вещей. Нетварный Логос и Сын Божий, т.е. Сам Христос, есть, по Апостолу Павлу, истинная икона Бога невидимого (2 Коринфянам 4, 4; Колоссянам 1, 15). Таким образом богословие Иконы становится ее христологической основой. И в самом начале 1 Послания св. Иоанна мы читаем:
«О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали, и что осязали руки наши, о Слове жизни...».
Лишь потому, что сверхъестественное было действительно пережито естественным образом как виденное человеческими очами и ощутимое человеческими руками, икона может быть оправданной с православной точки зрения как законное выражение христианской веры.
Что именно является предметом изображения в художественном и духовном контекстах иконописи? Реальность, которую можно назвать софийной в наиболее точном смысле этого слова, т.е. ни чисто Божественная, ни чисто человеческая, ни Трансцендентность, ни имманентность сами по себе, но, если воспользоваться высказыванием великого английского поэта Уильяма Блейка, «божественный человеческий образ»: человеческое тело, преображенное, прославленное и обоженное «действием Благодати в Христовых святых», по определению 7-го Вселенского Собора. Именно так, ни больше, ни меньше. Не Божественная Трансцендентность сама по себе, которая может быть визуально представлена лишь посредством какого-нибудь языческого или неоязыческого мифологического образа, чуждого любому христианскому реализму. (византийская иконография и раннее средневековое искусство вообще постоянно избегали изображения Бога Отца в виде величавого Старца с седыми волосами и бородой; при изображении некоторых мотивов Ветхого Завета, таких как творение неба и земли, Творец является с обликом Христа не только в византийской миниатюре, айв скульптурах Шартрского собора и некоторых других западных шедеврах. И это было логично, ибо лик Христа возникает в контексте христианской традиции как единственный и неповторимый человеческий лик Бога невидимого, не только Сына, но также Иконы Отца. «Бога не видел никто никогда; единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил» [Иоанн 1, 18].)
Лишь накануне Ренессанса ясность и порядок этих метафизических концепций затуманились, и таким образом появилась возможность для Микеланджело создать прославленное Творение в Сикстинских фресках (которые, будучи одним из высочайших достижений всей европейской культуры, отображают вместе с тем глубочайший кризис сакрального искусства как такового).
Повторяю, искусство Иконы не поглощено ни божественным как таковым, ни «человеческим, слишком человеческим», по выражению Ницше, простым натуралистическим уровнем человеческого существования, который оказывается низведенным до своих границ. Реальность, которая с православной точки зрения может быть одновременно законно представлена и быть достойной этого, располагается точно в «софийных» пределах между имманентностью и Трансцендентностью, видимым и невидимым, естественным и сверхъестественным, творением и нетварной Благодатью, или, говоря точнее, там, где великая онтологическая граница пересекается и становится открытой благодаря событию Воплощения Христова. Что же касается непорочного материнства Пресвятой Богородицы, Она является орудием и действительным возвещением этого события. Когда иконописец поглощен не самими образами Христа или Богородицы, а образами тех других, «исполненных Благодати», т.е. святых, то суть остается той же самой, т.е. божественная Благодать становится видимой и ощутимой через человеческую форму.
Известный православный иконописец и богослов иконы нашего столетия Леонид Успенский (умер в 1988 р. в Париже) поясняет этот тезис в своем труде «Der Sinn der Ikonen» («Смысл икон»):
«Если Преображение является проникновением целостного духовного и материального состава молящейся личности нетварным светом божественной славы, то человеческое существо превращается в живую икону Бога, икона тем самым становится внешним выявлением этого Преображения, репрезентацией человека, исполненного Благодати Божией. Икона, таким образом, ни в коем случае не представляет саму Божественную Природу, но указывает на участие того или иного человека в Божественной Жизни. Это — свидетельство реально пережитого освящения человеческого тела».
Слово «икона», как и имя «София», означает, в конце концов, одно и то же: тайну человеческого достоинства в ее христианской интерпретации.
________________________
* Источники помещенных в этой книге работ см. в разделе «Библиография С.С. Аверинцева» (с. 429).
С.С.Аверинцев "СОФИЯ – ЛОГОС. СЛОВАРЬ."
Издательство "Дух и Литера", Киев, 2000
Стр. 6-13
Библейское мировоззрение вообще, в особенности же мировоззрение писцов, этих профессиональных служителей и как бы приближенных домочадцев Премудрости, создавших так называемую сапиенциальную литературу, каноническую (Иов, некоторые псалмы, особенно Екклесиаст и Притчи) и девтероканоническую (Кн. Иисуса, сына Сирахова, Премудрость Соломона), – мировоззрение это обнаруживает одну важную, бросающуюся в глаза и подлежащую постоянному учету особенность. Оно систематически рассматривает ценности, которые назвали бы интеллектуальными, как нечто несравнимо большее. Тонкость ума, имея своим началом и корнем "страх Божий" (Притч 1:7; 9:10, ср. 15:33 и сл., также Иов 28:28 и проч.), представляет собой прежде всего иного особую чуткость к постижению воли Божьей и особую способность к ее исполнению. Самый прозаичный здравый смысл, ограждающий человека от глупостей и безумств в каждодневной жизни, имеет высшей задачей оградить от греха. Премудрость проявляется в точном следовании Торе и на шкале ценностей почти совпадает с Торой. «Вот, обращается Моисей к народу, – я научил вас постановлениям и законам, как повелел мне Господь, Бог мой... Итак, храните и исполняйте их; ибо в этом мудрость ваша и разум ваш перед глазами народов, которые, услышав о всех сих постановлениях, скажут: "только этот великий народ есть народ мудрый и разумный" (Втор 4:5-6)» 1). Та же мысль неоднократно звучит в псалме 119(118):
Заповедью Твоею Ты соделал меня мудрее врагов моих;
ибо она всегда со мною.
Я стал разумнее всех учителей моих;
ибо размышляю о поучениях Твоих.
Я сведущ более старцев;
ибо повеления Твои храню.
(98-100)
Радикальная противоположность такой Премудрости - тот персонаж псалмов 14(13) и 53(52), который выговорил "в своем сердце", т.е. в средоточии своей негодной, невоспитанной, нездравой мысли: "нет Бога". Как бы мы ни переводили примененное к нему слово nābāl – "глупец", "безумец", или иначе, – очевидно, что имеется в виду отсутствие того особого ума, о котором только что шла речь.
От легендарных времен Соломона, царя писцов и мудрецов, при котором общие для цивилизованных земель Ближнего Востока культурные стандарты, в том числе навыки мысли и поведения сословия писцов, нашли себе путь в жизнь народа Божьего, и до эпохи эллинизма, породившей девтероканонический эпилог "сапиенциальной" литературы, константной традиции, о которой мы говорим, остается нерасторжимое единство сакрального интеллектуализма, предполагающего, что праведность - непременное условие тонкости ума, но и тонкость ума непременное условие полноценной праведности:
Только тот, кто посвящает свою душу
размышлению о законе Всевышнего,
будет искать мудрости всех древних
и упражняться в пророчествах.
Он будет замечать сказания мужей именитых
и углубляться в тонкие обороты притчей;
будет исследовать сокровенный смысл изречений
и заниматься загадками притчей <...>
Сердце свое он направит к тому,
чтобы с раннего утра обращаться ко Господу,
Творцу его <...>
Он покажет мудрость своего учения,
и будет хвалиться законом завета Господня.
(Сир 39:1-3,6,10)
Напротив тому:
В лукавую душу не войдет премудрость,
и не будет обитать в теле, порабощенном греху.
(Прем 1:4)
Позднее мы встречаем очень энергично заявленное утверждение сакрального интеллектуализма в Талмуде, например, "Грубый человек не страшится греха, и невежда не может быть свят, <...> и нетерпеливый не может учить, и тот, кто занят торгом, не может стать мудрым" (Pirqe Abot II 5). "Невежда не может быть свят" - это уже специфический мотив талмудического презрения к ’am hā<ārez, с христианской точки зрения непозволительного. Возвращаясь, однако, к библейским текстам, мы без труда понимаем, почему слово nebālāh, означающее свойство "глупости", носитель которого - nābāl, так часто употребляется в них для обозначения тяжкого греха: отроковица, впавшая в блуд, совершила nebālāh среди Израиля и должна быть казнена (Втор 22:21); старик из колена Ефрема умоляет жителей Гивы не насиловать гостя, лицо, священное по всем патриархальным законам, и не творить nebālāh (Суд 19:22); это же слово применено к инцестуозному насилию, совершенному Амноном, сыном Давида, над Фамарью (2 Цар 13:12).
Итак, мы неизменно видим, что в плане аксиологическом Премудрость выступает как ценность сакральная; где ее нет - там грех. Но уместно ли в приложении к библейской Премудрости самое слово "ценность"? До известной меры - да: о ней говорится как о ценности в самом буквальном, наивном, дофилософском смысле слова. Она есть ценность, ибо ценнее злата, серебра и драгоценных камней (Притч 3:14-15). Более того, она сверхценность, ибо она дороже всего на свете, и потому для нее и не может быть адекватного менового эквивалента (Иов 28:15-19). Как всякую ценность, ее желательно искать и найти, как рудокоп отыскивает серебряную или золотую жилу, - но знать, где она, выше человеческих сил, и только один Бог знает заповедное место, где она скрыта (Иов, тема всей главы 28).
Однако ценность или даже сверхценность - понятия безличные: что, а не кто. Это не единственный модус библейских высказываний о Премудрости.
Уже в Книге Притчей мы слышим о Премудрости как о персонаже, о персоне или хотя бы персонификации 2), как о субъекте некоего действия; более того, мы слышим не только о ней, в формах третьего лица - мы слышим ее самое, ее голос.
Премудрость возглашает на улице,
на площадях возвышает голос свой,
в главных местах собрания проповедует,
при входах в городские ворота говорит речь свою:
"доколе, невежды, будете любить невежество,
и вы, буйные, услаждаться буйством?
доколе глупцы будут ненавидеть знание?
Обратитесь к моему обличению:
вот, я изолью на вас дух мой,
возвещу вам слова мои..."
(1:20-23)
Не Премудрость ли взывает,
и не разумение ли возвышает голос свой?
Она становится на возвышенных местах,
при дороге, на распутиях;
она взывает у ворот при входе в город,
при входе в двери:
"к вам, люди, взываю я,
и к сынам человеческим голос мой!"...
(8:1-4)
Этот мотив возвращается снова и снова. Сам по себе образ публичного, настойчивого призыва внимать добрым советам здравого смысла как будто умещается в категорию тривиальной персонификации. В "сапиенциальной" литературе, дидактической по самой своей сути, все время слышится поучающий голос, например, отца к детям (Притч 1:8 слл; 2:1 слл; 3:1 слл; 3:21 слл; 4:1 слл; 4:20 слл; 5:1 слл; 5:7 слл; 6:1 слл и проч.), матери к сыну (Притч 31:2-8); голос Премудрости возможно понять как метафорическое обобщение всех вообще родительских и наставнических голосов, как бы сливающихся в один голос. Отметим одно: если это метафорический образ, в нем есть один ощутимый момент парадокса. Как по-русски и по-славянски, как по-гречески и по-латыни, Премудрость и по-еврейски обозначается существительным женского рода: hōkhmāh, или, в форме pluralis maiestatis, как Притч 1:20, hōkhmōt. Но для персонажа женственного ее поведение в необычной мере публично: она является не в укрытии дома, но при дороге, на распутиях, на улицах и площадях, у городских ворот. В таких местах выступают персоны, чье бытие публично по самой сути вещей: цари, судьи, пророки, – но из женщин –блудницы. В той же Книге Притч мы читаем о распутной женщине: ноги ее не живут в доме ее; то на улице, то на площадях, и у каждого угла... (7:12). Премудрость созывает и приглашает к себе всех, кто ее слышит (например, 9:4-5); но и блудница зазывает к себе. Парадоксальная параллельность внешних черт ситуации явно осознана и подчеркнута: блудница соблазняет юношу тем, что не далее как сегодня заколола по обету жертвуšelāmĩm, а потому имеет в доме достаточно мяса для пира (Притч 7:14), – но Премудрость также заколола жертвы (буквально "заколола заколаемое", 9:2), приготовила вино и теперь зовет на пир (9:5). Публичное явление Премудрости - и публичное явление блудницы; жертвенный пир Премудрости - и жертвенный пир блудницы, - всюду симметрия, не приглушенная, но заостренная ради некоего важного контраста. Но о смысле этого контраста, как и вообще о функциях образа жены чуждой (<iššāh zārāh см. 2:16), придется говорить подробнее.
А пока вернемся к Премудрости. Возразим на только что сделанное предположение: если учительство Премудрости можно понять как дидактическую персонификацию, ее собственные слова о её космической, демиургической роли выходят за пределы такой персонификации. Вспомним прежде всего locus classicus – Притч 8:22-3:
Яхве имел меня началом пути Своего,
прежде созданий Своих, искони;
от века я поставлена (другой перевод: "помазана"),
от начала, прежде бытия земли.
Я родилась, когда еще не было бездны (tehumōt),
когда еще не было источников, обильных водою;
я родилась прежде, нежели устроены были горы,
прежде холмов,
прежде, чем Он сотворил землю и долы,
и начальные крупицы вселенной (tebel),
когда Он утверждал небеса, я - там,
когда Он чертил круг по лицу бездны (tehōm),
когда Он укреплял облака в выси,
когда устанавливал источники бездны,
когда давал морю предел,
дабы воды не преступали уставов Его,
когда полагал основания земли,
тогда я была при Нем художницею,
и была веселием каждый день,
непрестанно радуясь пред лицеи Его,
радуясь на земном кругу Его,
и веселие мое - с сынами человеческими.
Описание Премудрости в девтероканоническом тексте также не умещается в пределы нормального понятия оперсонификации: она описывается как πνεuμα νοερoν "умный дух", – для эллинистического греческого языка термины достаточно ответственные. "Она есть дух умный, святой, единородный, многочастный, тонкий, подвижный, проницательный, неоскверненный, ясный, нетленный, влаголюбивый, быстрый, неудержимый, благодетельный, человеколюбивый, незыблемый, неколебимый, за всем надзирающий и проходящий все умные, чистые, тончайшие сущности. Ибо Премудрость подвижнее всякого движения, и по причине чистоты своей сквозь все проходит и проникает. Ведь она есть дыхание силы Бога и чистое излияние славы Вседержителя; потому ничто оскверненное не войдет в нее. Ведь она есть отблеск вечного света и незамутненное зеркало энергии Бога, и образ благости Его. Будучи одна, она может все, и, пребывая в самой себе, все обновляет, и, переходя сообразно поколениям в праведные души, приготовляет друзей Бога и пророков" (Прем 7:22-27).
После известной книги Гельмера Рингрена "Word and Wisdom" (Лунд, 1947) многократно обсуждался вопрос: можно ли говорить о"гипостазировании" Премудрости в Книге Притчей?
Нам представляется, что вопрос поставлен не вполне корректно. Отнюдь не желая играть словами, спросим, однако, в ответ: как выразить понятиегипостазирования, хотя бы приблизительно или описательно, на еврейском языке Книги Притчей? Мы не смогли бы передать это понятие даже на греческом языке девтероканонических авторов.
Вопрос о словесном выражении – не праздный; стабильный статус термина может отставать от осознания проблемы, но борьба за термин начинается с этим осознанием. Вспомним, с каким напряжением, ломая семантическую инерцию, преобразуя прежний смысл слова, христианская догматическая мысль IV века творила термин для передачи нужного ему понятия "ипостаси". Как и вообще в античном бытовом и философском узусе, так и в Септуагинте (например, Прем 16:21), слово uπoστασις еще чрезвычайно далеко от своего будущего христианско–доктринального значения. Термин "лицо" в своем "персоналистском", философско-теологическом смысле, тоже чужд библейскому обиходу – обороты вроде "пред лицом" или "лицом к лицу" имеют в виду нечто совсем, совсем иное. "Персоналистская" терминология в тринитарных спорах ("Единый Бог в Трех Лицах") долго представляла затруднения – потому и потребовался термин "ипостась".
Воздержимся при разговоре о Книге Притчей от вопросов: "гипостазируется" Премудрость или нет, "ипостась" она или не "ипостась", "лицо" или "не лицо". Ограничимся внутрилитературной констатацией: если она – и не "лицо", она – "персонаж", подлежащий изучению в качестве такового. Она больше, чем эра, больше, чем "фигура речи". Будем говорить просто о "фигуре", имея на границе умственного поля зрения христианский термин praefiguratio ("преобразование").
Мы не будем обсуждать и возможных языческих прототипов Премудрости в Книге Притчей. Упомянем дискуссии, вызванные попытками проследить историю архетипического образа богини мудрости и вина в шумерских, аккадских, хананейских и финикийских традициях: W.F. Albnght. The Goddess of Life and Wisdom. "American Journal of Semitic Languages" 33, 1919-1920, p. 5-294; id., Wisdom in Israel and in the Ancient Near East, "Vetus Tastamentum" Supplement, Leiden, 1955, p. 1-45. В поисках параллелей обращались также к египетскому культу Маат и зороастрийским представлениям о Спента-Майнью; не были забыты и политеистические пережитки в культе Яхве, открыто сохранявшиеся некоторое время у иудеев в Египте, дерзнувших устроить собственный Храм. Новейший обзор этих теорий можно найти, например, у Клавдии В. Кэмп (С. V. Camp) в указанной выше работе 1985 года "Премудрость и женственность в книге Притч".
Наличие некоторых общих черт у библейской Премудрости и различных языческих вариантов того, что Карл Густав Юнг назвал бы женственным Архетипом, совершенно очевидно; было бы очень трудно, пожалуй, невозможно вообразить себе полное отсутствие сходства. Что касается генетических связей с той или иной конкретной языческой традицией, здесь, во-первых, слишком мало можно твердо доказать или хотя бы твердо опровергнуть, а во-вторых, контекст библейского монотеизма, в рамках которого неизменно выступает библейская Премудрость, сообщает каждой ее черте функцию, немыслимую в контексте любой языческой мифологии. В широкой перспективе развития библейской веры нужно осознать: с определенного исторического момента не синкретическое веяние, не размывание принципа монотеизма, но, напротив, прогрессирующая радикализация этого принципа, все более углубляемая доктрина о трансцендентности Бога как Творца, отличного от Творения, требовала особых терминов и образов, передающих пограничную реальность с одной стороны, имманентное действие трансцендентного Бога, с другой стороны, особо привилегированное Творение, ближе всего стоящее к Творцу. Первое нелегко отличить в ряде случаев от второго, поскольку имманентное действие Бога имеет привилегированное Творение своим инструментом. Так или иначе, именно строгий монотеизм творит церемониал метафизической учтивости, воспрещающей фамильярность. В более ранние, наивные времена можно было говорить о явлении и речи Самого Яхве; позднее та же ситуация описывается так, что является и говорит "вестник/ангел Яхве", и сколько бы сравнительное религиоведение ни говорило о персидских истоках еврейской ангелологии, сам смысл такой замены вытекает из логики монотеизма, иначе говоря, из логики того, что Библия называет "страхом Божьим". В силу этой же логики благословляют не Самого Господа, но Его "Имя", говорят не о Нем Самом, но о Его "Славе". Не только запретный Тетраграмматон заменяется на "Адонаи", но в особенно благочестивых кругах избегают произносить и писать слова, означающие "Бог" (<el, <elohīm, <elōah), заменяя их различными субститутами, например, "Пространство" (māqōm), "Небеса" – почему "Царствие Бога" обозначается в Евангелии от Матфея как "Царствие Небес". Мотив привилегированного Творения как инструмента Творца приводит к доктрине о вещах, сотворенных прежде сотворения мира; эти сущности – творения в их отношении к Творцу, но как бы изъяты из суммы всего остального Творения, поставлены превыше него, различные талмудические тексты упоминают в этой связи Тору, Престол Бога, Имя Мессии и т.д. Между прочим, если говорить о сотворении мира, нельзя не вспомнить, что библейский рассказ о таковом, а вместе с ним вся Тора и весь вообще канон Библии открывается речением bere<šit, которое переводится "в начале", но смысл которого отнюдь не сводится к чисто темпоральной "точке отсчёта", чему-то вроде "Big Bang". Существительное re<šit этимологически восходит к ro<š "голова" и потому означает как бы "главное", то, что "во главе"; Аквила, древний переводчик Библии на греческий язык, готовивший свой труд как альтернативу Септуагинте и заботившийся об этимологической точности, перевел bere<šit как εν κεφαλαiφ "в главном"; а в наше время Андре Шураки (Chouraqui), также ревнитель этимологической точности, вводит то же речение на французский как en-tête. Вообще "начало" легко понять как "принцип", как онтологическое звание, но и как некое инструментальное первое Творение, "в" котором Творец творил небо и землю. Весьма примечательно, что это же существительное re<šit применено в Книге Притчей к Премудрости (4:7 в значении "главного", "важнейшего"; 8:2 в космогоническом значении предшествующего всему миру). Не удивительно, что Таргум Иерушальми, древнее переложение Торы на арамейский язык, заменяет начальные слова Книги Бытия "В начале сотворил Бог небо и землю" поясняющим вариантом: "В Премудрости (behōkhmāh) сотворил Бог небо и землю". И когда знаменитый средневековый еврейский толкователь Раши истолковал "начало" как синоним Торы, он специально ссылался на Притч 8:22, отождествляя Божий Закон и Божью Премудрость как предшествовавшую Творению суть, меру и цель Творения.
Вернемся, однако, к Премудрости как литературному персонажу Книги Притчей. Ей противостоит, как уже упоминалось, другой персонаж – "жена чуждая" (<iššāh zārāh, <iššāh nōkhrīyāh). опрос о смысловых нюансах этих наименований – предмет дискуссии. "Жена чуждая" может быть понято как "жена другого", есть попросту прелюбодейка, вовлекающая себя и своего" любовника в бесчестие и в смертельную опасность; но это же сочетание слов может подразумевать женщину чужеземную и Иноверную, поклонницу, жрицу и представительницу Иштар-Астарты, самый блуд которой имеет ритуальный характер и не случайно связан с жертвенной трапезой (7:14). Эта интерпретация была в свое время энергично высказана в работе: Gustaf Bostrom Proverbiastudien: Die Weisheit und das fremde Weib in Spriiche 1-9, Lunds Universitets Arsskrift 30, 3, 1935. Но против нее можно привести 2:17, где сказано, что "жена чуждая" - не иноземка, но отступница: она "забыла завет Бога своего". Вспомним, как часто пророки описывают неверность народа монотеистическому Завету как прелюбодеяние; вполне эмпирический блуд, сопровождавший языческие культы плодородия, придавал символу конкретную наглядность, отнюдь не лишая его многозначности, то есть его природы символа. Интересно, что Раши усматривал в "жене чуждой" персонификациюложной доктрины, ереси. Разумеется, его средневековую экзегезу, вносящую понятия, не свойственные библейской древности, не следует принимать буквально. И все же представляется, что его мысль шла в направлении, не вполне ложном. Все новые и новые упоминания "жены чуждой" в Книге Притчей немедленно сопровождаются указанием не на что иное, как на соблазнительность ее речи, ее слов (2:16; 5:3; 7:21; 6:24; 9:13-17). Казалось бы, блуднице, будь то тривиальная неверная жена или иноземная служительница богини сладострастия, свойственно в первую очередь употреблять иные, более плотские, более непосредственные соблазны, нежели риторику; но на первом плане каждый раз оказывается именно риторика - "гладкие речи", "уста, сочащие сок", "гортань, гладкая, как масло".
Раши прав в одном: "чуждая жена" - не просто обольстительница, хотя бы средствами риторики, но проповедница, публично выступающая с проповедью безумия. В Средние века говорили, что Диавол - обезьяна Бога. "Чуждая жена" – обезьяна Премудрости, и это самый важный из ее признаков. Её прочие признаки могут быть переменными: то неверная жена, любовнику которой следует беречься ярости мужа, то некое подобие сакральной блудницы, то иноземка, то неверная дщерь Народа Божия, изменившая Завету. Но константа – ее функция как пародии Премудрости.
Мы уже слышали о Премудрости, возвышающей голос свой на улицах и площадях, при входах в городские ворота и т.п.. А вот фигура ее антагонистки:
Женщина вздорная и шумная,
глупая и ничего не знающая,
восседает у врат дома своего на престоле,
на возвышенных местах города,
чтобы звать проходящих мимо,
держащихся пути прямого:
"кто глуп, пусть обратится сюда!" –
и скудоумному она говорит: "Воды краденые сладостны,
и хлеб утаенный приятен".
(9:13-17)
Кто глуп, пусть обратится сюда - буквальное повторение такого же призыва Премудрости несколькими стихами (9:14). Премудрость зовет невежду, чтобы научить его добру; антагонистка делает то же самое, чтобы научить его преступлению. Похвала краденой воде и припрятанному хлебу отвечает возгласу Премудрости:
Приидите, ешьте хлеб мой,
и пейте вино, мною растворенное!
(9:5)
Внешний образ ложной "Премудрости" достаточно импозантен: она восседает на кресле (kisse<), которое в обстановке библейского быта может быть только престолом, привилегией государей, вельмож и авторитетных наставников. Она "шумна" - но ведь и настоящая Премудрость "возвышает глас свой". Интересно, что яркая эротическая метафорика сопровождает образ законной жены (5:15-19), радости брака с которой, стоящие под знаком верности и постольку под знаком Завета, не противоречат велениям истинной Премудрости; позволительно даже представить себе, что эта "жена юности", то есть предмет верного отношения всю жизнь, – некое низшее подобие Премудрости. Напротив, в образе абсолютной антагонистки Премудрости эротический соблазн полностью отступает перед соблазном лжи как таковой, неверности как таковой, отказа от Завета.
Подведем итоги.
1. Премудрость в Книге Притчей - фигура, выходящая за пределы простой метафоры; речь идет, может быть, не о лице, но о сущности.
2. Это не тень язычества в мире библейской веры, но, напротив, момент монотеистической мысли: посредничество между Творцом и Творением, как ряд аналогичных библейских понятий. Христианство добавило к ним еще одно: Церковь, "созданную прежде солнца и луны" (II послание Климента Римского к коринфянам).
3. Премудрость изображена в конфронтации со своим злым двойником. Ее проповеднические и обрядовые действия, ее всенародные воззвания, ее атрибуты описаны в поражающей симметричности действиям, воззваниям и атрибутам той, которая является ее антагонисткой и пародией на нее. Если, однако, Премудрость ведет к жизни, "чуждая жена" ведет к смерти, в обитель пустых призраков - "рефаимов".
(В скобках заметим, что русские символисты, начиная с Блока, в своих визионерских следованиях за Владимиром Соловьевым слишком мало учитывали библейское увещание относительно сходства между Премудростью и ее врагиней.)
4. Когда мы проводим границу между Нетварным и Творением, по какую сторону этой границы оказывается Премудрость? Для эпохи Ветхого Завета такой вопрос анахронизм. Между тем, если бы христология Отцов Церкви была всецело направляема законом "эволюции идей", вне чуда Откровения, - эволюция идей как от литературы Премудрости, так и от греческих платонических источников могла бы с необходимостью вести только к арианству. Поэтому победа над арианством была преодолением мнимой автономии "эволюции идей".
5. Как "образ" и "преобразование" Премудрость относится к тайне встречи Творца и Творения. "Страх Божий", который есть начало Премудрости, есть адекватный ответ на близость трансцендентного Бога: ни имманентное, ни только-трансцендентное не могли бы внушать такого страха. Страх возникает лишь в парадоксальной ситуации присутствия Трансцендентного.
____________________________
1) Цитаты из Священного Писания даны в переводе автора. - Ред.
2) Ср. Camp C.V. Wisdom and the Feminine in the Book of Proverbs. "Bible and Literature Series", 11, Columbia Theol. Univ. 1985.
АЛЬФА И ОМЕГА" № 1, 1994г. (стр.25-38)
Прот. Сергий Булгаков
Религия человекобожества у Л.Фейербаха
Недавно (в 1904 году) праздновалось столетие со дня рождения замечательного мыслителя, который, хотя провел большую часть своей сознательной жизни в деревенском отшельничестве, не изменив ему даже в революционный 1848 год, однако своими философскими идеями оказал глубокое влияние на своих современников, далеко не изжитое и до сих пор. И, по-настоящему, в ряду имен, выражающих собой духовный облик XIX века, наравне с именами Гегеля и Дарвина, Маркса и Ог. Конта, Спенсера и Милля, следует поставить и малоизвестное сравнительно имя брукбергского отшельника - Людвига Фейербаха.
Но если живы до сих пор идеи Фейербаха, которого по справедливости можно поэтому причислить к разряду духовных вождей современного человечества, то имя его находится в незаслуженном небрежении и забвении. Исполнившийся столетний юбилей также не принес ничего, кроме нескольких, в большинстве случаев совершенно незначительных, газетных заметок. Можно указать на одно только исключение. В настоящее время выходит - трудами Иодля и Болина, двух современных фейербахианцев, новое, дополненное издание сочинений Фейербаха <<2>> и вышла, кроме того, в серии "Fromann's Klassiker der Philosophie" работа о Фейербахе, принадлежащая перу того же Иодля (вместе с монографиями Старке и Болина почти исчерпывающая скудную литературу о нем). Будучи решительным и принципиальным противником мировоззрения Фейербаха в самых его основах, я, однако, особенно желал бы привлечь общественное внимание к его идеям и к его сочинениям, ибо благодаря огромным достоинствам последних, в числе которых на первое место следует поставить философский радикализм и откровенную прямолинейность Фейербаха, в них с неотразимой энергией ставятся основные вопросы о высших и последних человеческих ценностях, столь часто отодвигаемых на задний план. Фейербах принадлежит к числу таких мыслителей, которые в высокой степени содействуют сознательному самоопределению человека в ту или другую сторону, от него, как от философского распутья, резко расходятся дороги в противоположные стороны, и полезно каждому, прежде чем окончательно вступить на извилистые тропинки, углубляющиеся в дебри, прийти к этому распутью, откуда видно исходное различие путей. Таково общее значение философии Л. Фейербаха для нашего времени.
Понять, почему Фейербах так мало пользуется вниманием со стороны представителей современной философской мысли, в особенности немецкой школьной философии,<<3>> весьма нетрудно. Это объясняется больше всего тем, что он слишком на них не похож, - шероховатый, дерзкий, даже революционный писатель чересчур отличается от солидных и чинных представителей "научной" критической философии, шокирующихся воинствующим и страстным атеизмом Фейербаха, но не желающих усмотреть и оценить в нем подлинно человеческих мотивов и настоящих человеческих страданий. Пришла уже мода на Ницше, но не дошла еще, а может быть, и не дойдет очередь до Фейербаха. Основная и коренная причина этого холодного равнодушия к Фейербаху (она же долгое время препятствовала тому, чтобы разглядеть также и Ницше) состоит в том, что философия для Фейербаха не есть дело школы и школьной специальности, как для многих специалистов по философии, но дело жизни. Фейербах жил в своей философии, отсюда ее взволнованность, непоследовательность и постоянная, неугомонная его склонность развивать, переделывать и изменять свою систему. В этом смысле в нем есть нечто ницшеанское. Раз философия действительно становится делом жизни, то это необходимо отражается и на ее темах, на основных ее проблемах. Отступают на задний план - не будем отрицать, нередко в ущерб точности и ясности мышления - проблемы характера школьного, пропедевтического, технического (у Фейербаха, например, совсем отсутствуют - horribile dictu<<*1>> - специальные трактаты по теории познания, когда же он касается этих вопросов, то впадает в беспомощный ребяческий сенсуализм, доступный для опровержения со стороны среднего студента философии). Зато все внимание его поглощают жизненные задачи философии, вопросы об абсолютных ценностях или о смысле человеческой жизни, т. е. вопросы религиозные. Религиозный интерес у Фейербаха всю жизнь оставался господствующим, так что к нему вполне применима характеристика одного из героев Достоевского: "меня всю жизнь Бог мучил", и, несмотря на весь фейербаховский атеизм, его по справедливости следует назвать атеистическим богословом. Он сам говорит о себе в лекциях о религии, читанных им уже на склоне жизни в единственное почти его выступление перед публикой: "Несмотря на различие тем моих сочинений, все они имеют, строго говоря, только одну цель, одну волю и мысль, одну тему. Именно, эта тема есть религия и теология и все, что связано с ними... Во всех своих сочинениях я никогда не упускал из внимания отношения к религии и теологии и всегда занимался этим главным предметом моей мысли и жизни, хотя, конечно, и различно в соответствии с различием лет".<<4>>
И достаточно беглого знакомства с его сочинениями, чтобы убедиться в справедливости этой характеристики. Он выступил впервые в литературе с "Мыслями о смерти и бессмертии"; основное его сочинение, представляющее собой один из замечательнейших и характернейших памятников мысли XIX века, есть "Сущность христианства", к которому он написал еще целый том дополнений и объяснений. Далее следовали "Сущность религии", "Лекции о религии", "Теогония" и многие мелкие этюды критические, полемические, даже стихи (двустишия). И эта напряженность религиозных исканий, атеистическая страсть, которой одержим был Фейербах, постоянные усилия богоборчества, не могущего успокоиться и окончательно победить "мучащего" Бога, - словом, это отсутствие религиозного индифферентизма, столь обычного в наше время, делает Фейербаха весьма своеобразным и значительным явлением религиозной жизни XIX века. И все эти черты, которые отчуждают его от его теперешних соотечественников, странным образом приближают его к нам, к нашим теперешним исканиям. Нам не претит его нестрогость в школьном смысле слова, ибо не нам на нее претендовать, но зато как дорога и понятна нам эта религиозная распаленность, сосредоточенная замкнутость его мысли, его религиозный, хотя и атеистический, энтузиазм. Штирнер иронически обозвал Фейербаха "благочестивым атеистом" (frommer Atheist), и на самом деле Фейербах благочестив в своем атеизме, хотя в то же время в нем было какое-то непримиримое упрямство (составляющее, на наш взгляд, самую характерную черту в его лице на портрете), какое-то тяжелое однодумство, которое отвращало его сердце от Бога и делало его воплощенным противоречием, - "благочестивым" богоборцем. Но в искреннем и тяжелом, мучительном богоборчестве, может быть, и впрямь заключается особый (хотя и, так сказать, предварительный) тип благочестия. Неужели же Фейербах, Ницше, даже Штирнер (у нас теперь Шестов), как коршуны, сами поедающие свою печень, столь чуждые и далекие от уравновешенного и успокоенного, "трезвого" индифферентизма позитивистов, и впрямь не найдут для себя места в одной из "многих обителей", уготованных Отцом, и не вложат, наконец, свои пытующие персты неверующего Фомы в язвы гвоздиные? Неужели не вознаграждены будут эти искренние религиозные страдания?!
II
Но если Фейербах столь близок нам своей десницей, которой мы считаем чуждое религиозного индифферентизма направление его мысли, то не менее жизненное значение получает он и благодаря своей шуйце, которой мы считаем все положительное содержание его учения, его атеистическую догматику, вообще его религиозно-философскую доктрину. Эта доктрина живет и по настоящее время, и прежде всего в массах, исповедующих учение Маркса и Энгельса, ибо в религиозно-философском отношении оба они являются учениками Фейербаха, и притом неоригинальными учениками, с своей стороны только иссушившими доктрину учителя. Для знакомых с генезисом марксизма известно, какое огромное влияние имели здесь идеи Фейербаха. Впрочем, об этом рассказывает сам Энгельс в своей брошюре, хотя и не имеющей самостоятельного философского значения, но представляющей большой интерес исторический, - "Л. Фейербах и исход классической философии". Здесь мы читаем следующее: "...тогда появилось "Wesen des Christenthums" Фейербаха. Одним ударом оно уничтожило противоречие, возведя без обиняков снова на трон материализм. Природа существует независимо от всякой философии; она есть основа, на которой мы выросли; мы, люди, сами продукт природы; вне натуры и человека не существует ничего, и высшие существа, которые создала наша религиозная философия, суть только фантастические отражения нашего собственного существа. Чары были разрушены, "система" лопнула и отброшена в сторону, противоречие устранено, хотя оно имелось только в воображении. Нужно было пережить на себе освободительное влияние этой книги, чтобы составить себе о нем представление. Воодушевление было общее: мы все моментально стали фейербахианцами".<<5>>
Ранние сочинения Маркса, относящиеся к 40-м годам и переизданные теперь Мерингом, отражают это увлечение Фейербахом ("Heilige Familie", "Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie", отчасти "Zur Judenfrage", у Энгельса - "Die Lage Englands"). Позднее Маркс и Энгельс отступили от ортодоксального фейербахианства, но Энгельс, несомненно, страшно преувеличивает степень этого разногласия. Материалистическое понимание истории и учение о классовой борьбе явились только восполнением и, так сказать, конкретизированием общей формулы Фейербаха, но ни в какой степени не затронули ее сущность. В отношении общефилософских идей Маркс не сделал ни малейшего шага вперед против Фейербаха, и учение последнего было той почвой, на которой вырос марксизм, и по сие время остается его действительным общефилософским фундаментом. Атеистический гуманизм Фейербаха составляет душу марксистского социализма <<6>> и характерен для него не меньше, нежели политико-экономическая доктрина самого Маркса, которая может быть совместима и с принципиально противоположным общим миросозерцанием. Имея в виду эту философскую генерацию идей, мы смело можем выставить парадоксальное на первый взгляд положение, что Фейербах в гораздо большей степени является духовным отцом марксизма, нежели сам Маркс, который дал только плоть для идей Фейербаха, и потому, если углубить теперешний социал-демократизм до его общефилософских оснований, то в фундаменте его окажутся идеи Фейербаха. Эта связь идей, однако, очень слабо сознается или совсем даже не сознается участниками современного социал-демократического движения вследствие общего его философского оскудения, которое тем увеличивается, чем дальше мы отходим от философского первоисточника. Во всяком случае, если хотят подвергнуть критике существо марксизма, то нужно считаться не с социалистическими идеями (которые еще не так характерны для марксизма как такового, ибо могут соединяться и с противоположным теоретическим мировоззрением) и даже не с "экономическим материализмом", представляющим лишь надстройку над учением Фейербаха, но с религиозно-философскими идеями этого последнего. Здесь религиозно-метафизический центр марксизма, как и всего вообще материалистического, атеистического социализма. В целях религиозно-философской критики следует понять марксизм именно как фейербахианство.
Но Фейербах живет не только в марксизме, ибо фейербахианство гораздо шире марксизма, последний есть только частный случай первого, и подобных частных случаев может быть несколько; несомненно, марксизмом не ограничивается сфера непосредственного или косвенного влияния Фейербаха. Оно сказывается во всем новейшем антирелигиозно-гуманитарном движении, во всем атеистическом гуманизме, в атеистической религии человечества, которою новое время характеризуется.<<7>> Здесь его влияние сталкивается и сливается с однозначащим влиянием Конта, тоже проповедника религии человечества.
Поразительно это совпадение основных идей и одновременное выступление двух сродных мыслителей, чуждых по крови, по языку, едва ли знавших и слышавших друг о друге, но связанных реальным единством общеевропейской цивилизации и духа времени. В то время, как брукбергский отшельник вынашивал в баварской деревне свои учения о религии человечества, другой отшельник в Париже создавал свою до поразительности, до загадочности близкую доктрину "позитивной политики", основанную на той же религии человечества. Обоих мыслителей разделяет вся разница, какая только существует между культурами и характером породивших их стран. Один, представитель точных наук, с презрением к спекулятивной философии и с весьма слабым знакомством с ней, после научных изысканий пришел к своим заключительным идеям, которым придал догматически-топорную форму какого-то папизма без папы. Другой вышел от Гегеля, из недр абсолютного немецкого идеализма, сын рефлексии и абстракции, противоречивший себе в запутанном ходе своих мыслей и до конца сохранивший неизгладимую печать гегельянства, писатель, о котором сдержанный и привычный к философским тонкостям Ланге выражается так: "Система Фейербаха отличается мистическою темнотой, которая нисколько не проясняется подчеркиванием чувственности и очевидности".<<8>>
И вот столь разные мыслители на разных языках в одно время сказали одно и то же: поставили и затем посильно разрешили вопрос о религии без личного Бога, но с богом - человечеством, дали философское выражение стремлению новейшего человечества, по выражению Достоевского, "устроиться без Бога", притом вполне и окончательно.
Конту повезло у нас больше, чем Фейербаху, его больше знали и чтили. Но как мыслитель Фейербах гораздо глубже, значительней и интересней Конта, он лучше вводит в сложную проблему человекобожия, его аргументация тоньше и сильнее, хотя в силу большей сложности обнаруживает и большее количество слабых сторон. Полное и возможно законченное выражение идее человекобожия, религии человечества, дал именно Фейербах.
Читателю ясно, почему марксизм есть только частный случай фейербахианства или контизма, ибо по существу дела в рассматриваемом отношении представляет одно и то же (хотя это не мешает Марксу при случае дать Конту, с обычной для него резкостью, хорошего пинка). Атеистический гуманизм, или религия человечества, находит в новой истории много форм выражения и помимо марксизма. Он есть универсальное, обобщающее явление в духовной жизни нового времени, поскольку она определяется вне христианства или даже в сознательной противоположности ему. Религия человечества есть значительнейшее религиозное создание нового времени. Этот продукт его религиозного творчества, столь противоречивый и сложный, требует внимательного, добросовестного и беспристрастного к себе отношения, и нельзя преувеличить всю важность внимательного его исследования.
Фейербах оставил большое литературное наследство в виде трудов по философии, истории философии и религиозной философии, так что ознакомление с этими трудами потребовало бы целой монографии.<<9>> Кроме того, надо не забывать, что Фейербах эволюционировал в течение всей жизни, начав с гегельянства, а кончив более или менее решительным материализмом. Ввиду этого относительно его философского развития и учения может быть поставлено весьма немало проблем, касающихся разных сторон его мировоззрения в разные эпохи. Мы не ставим себе столь широкой задачи. Дело в том, что в разных сторонах своего учения Фейербах представляет весьма различный интерес. Нас мало интересует, напр., его теория познания (если можно о ней говорить), сбивающаяся на сенсуалистический материализм, притом вульгарного оттенка. Мало интересует нас также и чисто философская ею позиция, хотя и весьма характерная для хода общего разложения гегельянства и любопытная поэтому для исследования судеб гегельянской философии. Наконец можно оставить в стороне и прямые нападения Фейербаха на христианскую религию с его критикой догматов христианства. Эта критика неразрывно связана с собственной метафизикой Фейербаха и, при своем поверхностно-рассудочном характере, не представляется сама по себе настолько серьезной, чтобы с ней надо было считаться как с таковой. Она получает интерес и значение только в связи с его собственным положительным учением о религии, с его философией религии.
В этой последней мы и видим центр тяжести и главный интерес учения Фейербаха. Он и сам видел главное дело своей жизни в новом учении о религии, которое считал поворотным пунктом в истории<<10>>. "Задачей нового времени, - говорит он<<11>>, - было овеществление и очеловечение Бога - превращение и перерождение теологии в антропологию".
Антропологическое учение Фейербаха о религии, Фейербах как проповедник религии человечества, как религиозный учитель гуманитарного атеизма - такова тема этого очерка. В основных положениях этой своей доктрины Фейербах оставался сравнительно неподвижен; он старался ее усовершенствовать и восполнять, но оставлял в неприкосновенности ее основы, вполне определившиеся уже в сочинении "Wesen des Christenthums".
Основные мысли о сущности религии, выраженные в этом сочинении, Фейербах развивал и углублял в "Wesen der Religion", "Vorlesungen über des Wesen der Religion", в "Ergängzungen und Erläuterungen zum Wesen des Christenthums" и т. д. Изложение своих мыслей он обременял при этом бесконечными повторениями в разных, иногда даже малоразнящихся словах, с настойчивостью однодума, вдобавок несколько одичавшего в деревне. Но везде, через всю его деятельность, проходит один вопрос: в чем тайна религии? Почему человек создает себе Бога? Характеризуя свою духовную эволюцию, отправным пунктом которой было изучение богословия, срединным - метафизики, а конечным - философия рационализма, позитивизма и атеизма, Фейербах говорит о себе: "Бог был моей первой мыслью, разум - второй, человек - третьей и последней мыслью". Это часто цитируемое его выражение характеризует различие ответов, даваемых им в разные времена жизни на один и тот же жизненный вопрос, именно вопрос о боге как предмете религии. Бог был и первой, и второй, и последней мыслью Фейербаха.
III
Проповедник атеизма Фейербах не только не отрицает религии вообще, но видит в ней существенное отличие человека от животных, которые не имеют религии<<12>>. Он ставит это в связь с природой человеческого сознания, которому свойственна идея бесконечного, главный признак религии. "Сознание, в строгом или собственном смысле слова, и сознание бесконечного неразделимы; ограниченное сознание не есть сознание"<<13>>.
Фейербах стремится не упразднить религию, а ее очеловечить, свести с неба на землю, растворить ее в стихийной силе чувства<<14>> и, самое главное, представить ее как раздвоение человека с самим собой, которое, раз осознано, подлежит упразднению и сознательной замене религией человечества. "Абсолютное существо, бог человека, есть его собственное существо"<<15>>. В предисловии к собранию своих сочинений Фейербах в таких выражениях формулирует свою основную мысль о религии:
"Вопрос о том, существует бог или нет, противоположность атеизма и теизма принадлежит XVIII и XVII, но не XIX столетию. Я отрицаю бога, это значит у меня: я отрицаю отрицание человека. Я ставлю на место иллюзорного, фантастического, небесного утверждения (Position) человека, которое в действительной жизни необходимо приводит к отрицанию человека, чувственное, действительное, а следовательно, необходимо также и политическое и социальное утверждение человека. Вопрос о бытии и небытии бога у меня есть именно вопрос о бытии или небытии человека".
"То, что есть для человека бог, это его дух, его душа, и то, что составляет его дух, его душу, его сердце, это и есть его бог: бог есть открытая внутренность, высказанная самость (Selbst) человека, религия есть торжественное раскрытие скрытых сокровищ человека, признание в сокровеннейших мыслях, открытое исповедание таинства любви"<<16>>. "Религия, по крайней мере христианская, есть отношение человека к самому себе или, точнее, к своему существу, но отношение к своему существу как к другому существу. Божественное существо есть не что иное, как человеческое существо или, лучше, существо человека, освобожденное от границ индивидуального, т. е. действительного, телесного человека, опредмеченное (vergegenständlicht), т. е. считаемое и почитаемое как другое, от него отличное, особое существо, - все определения божественного существа суть поэтому определения человеческого существа"<<17>>.
"Религия есть разделение человека с самим собой; он противопоставляет себе бога как противоположное себе существо. Бог не есть то, что есть человек, человек не есть то, что есть бог. Бог есть бесконечное, человек - конечное существо; бог совершенен, человек несовершенен; бог вечен, человек временен; бог всемогущ, человек бессилен; бог свят, человек грешен. Бог и человек суть противоположности (Exstreme): бог исключительно положительное начало, совокупность всех реальностей, человек - исключительно отрицательное, совокупность всяких ничтожностей (Nichtigkeiten). Но человек опредмечивает в религии свое собственное существо. Таким образом, должно быть доказано, что эта противоположность, это раздвоение бога и человека, которым начинается религия, есть раздвоение человека с своим собственным существом"<<18>>.
"Ты веришь в любовь как божественное свойство, ибо ты сам любишь, ты веришь, что бог есть мудрое, благое существо, ибо ты ничего не знаешь над собой высшего, чем доброта и разум, и ты веришь, что бог существует, что он есть, следовательно, субъект или существо, ибо ты сам существуешь, сам представляешь собой существо... Бог есть для тебя нечто существующее (ein Existerendes), существо на том же самом основании, на котором он является для тебя мудрым, блаженным, благим"<<19>>.
На этом основании "отрицать человека значит отрицать религию"<<20>> и "там, где прекращается человек, прекращается и религия"<<21>>.
Таким образом, "вера в бога есть не что иное, как вера в человеческое достоинство, в божественное значение человеческой личности"<<22>>, (человек есть начало религии, человек есть средина религии, человек есть конец религии"<<23>>.
"Наше отношение к религии, - подводит Фейербах свой итог, - не является поэтому только отрицательным, но критическим, мы выделяем истинное от ложного. Религия есть первое самосознание человека. Религии священны именно потому, что они суть предания первого сознания. Но то, что для религии является первым, - бог, то в действительности есть второе, ибо он есть лишь опредмеченное существо человека, а что для нее второе, - человек, это должно быть полагаемо и высказываемо как первое. Любовь к человечеству не должна быть производной, она должна сделаться самобытной (ursprünglich). Только тогда любовь становится истинной, священной и надежной силой. Если существо человека есть высшее существо для человека, то и практически любовь человека к человеку должна быть первым и высшим законом. Homo homini deus est <<*2>> - таково высшее практическое правило, - это есть поворотный пункт мировой истории. Отношения детей и родителей, супругов, братьев, друзей, вообще человека к человеку, короче, моральные отношения сами по себе суть поистине религиозные отношения. Жизнь вообще в своих существенных сторонах вполне божественной природы"<<24>>.
Итак, homo homini deus est - вот лапидарная формула, выражающая сущность религиозных воззрений Фейербаха. Это не отрицание религии и даже не атеизм, это, в противоположность теизму<<25>>, антропо-теизм, причем антропология силою вещей оказывается в роли богословия.
IV
К этому первоначальному учению Фейербах впоследствии пристраивает еще второй этаж. Именно, в позднейших сочинениях (в "Wesen der Religion" и "Vorlesungen über das Wesen der Religion") сущность религии усматривается еще в чувстве зависимости (Abhängigkeitsgefühl - известная формула Шлейермахера) от природы и к первоначальной формуле: Theologie ist Antropologie делается еще прибавка - und Physiologie. Приближаясь все больше и больше к натурализму и вульгарному материализму и опасаясь, что и первая его формула звучит слишком идеалистически, Фейербах спешит обезопасить ее от такого истолкования соответственной материалистической интерпретацией.
"Сущность, которую предполагает человек, с которой он связан необходимым отношением, без которой не может мыслиться ни его существование, ни его существо, есть не что иное, как природа"<<26>>. "Божественная же сущность, открывающаяся в природе, есть нечто иное, как сама природа, которая открывается, представляется и отпечатлевается для человека как божественное существо... Природа есть не только первый, первоначальный объект, она есть также пребывающее основание, постоянно существующая, хотя и скрытая основа (Hintergrund) религии"<<27>>. "Моя доктрина выражается в двух словах: природа и человек. Предполагаемая мной сущность человека, сущность, которая есть основание или причина человека, которой он благодарен своим возникновением и существованием, это есть и называется у меня не бог - мистическое, непонятное, многозначное слово, но природа - ясное, чувственное, недвусмысленное слово и сущность" (!!!).
Фейербах старательно подписывает к своему основному рисунку: "Се лев, а не собака", - сие надо понимать материалистически и чувственно, но не идеалистически и отвлеченно. Бывший последователь Гегеля, прошедший, надо думать, и через Канта, и вообще человек философски образованный, отмахивается от преследующего его фантома религии, отгораживается от Бога вульгарно-мифологическим понятием природы, которое берет без всякой критики, без всякого анализа<<28>>. Если эта сторона учения и представляет своеобразный исторический и психологический интерес, почему и мы не могли обойти молчанием эту позднейшую теоретическую пристройку, хотя бы ради того, что сам автор придавал ей такую принципиальную важность, то никакого философского интереса и самостоятельного значения эти позднейшие самоинтерпретации не имеют, и мы далее не будем на них останавливаться, а обратимся к более внимательному изучению основной религиозно-философской идеи Фейербаха, его антропо-теизма.
Здесь возникает прежде всего основной вопрос: если человек в действительности является или должен стать истинным предметом религии, то какой именно человек: вот этот или каждый встречный, я или другой, индивид или же вид, иначе, человек или человечество?
Антропо-теизм, или, по русскому выражению Достоевского, человекобожие, может иметь своим объектом или отдельных избранников или весь человеческий род, быть аристократическим, олигархическим и даже эгоистическим ("эготизм") или же демократическим, распространяясь в идее на весь человеческий род. Именно таким демократическим обожествлением человеческого рода в целом характеризуется мировоззрение Фейербаха. Homo homini deus est y него надо перевести так: человеческий род есть бог для отдельного человека, вид есть бог для индивида.
"Понятие божества (читаем мы у Фейербаха) совпадает воедино с понятием человечества. Все божественные определения, все определения, которые делают бога богом, суть определения рода, которые, хотя в отдельном индивиде ограничены, но границы эти устраняются в сущности рода и даже в его существовании, поскольку он имеет соответственное существование в совокупности всех людей. Мое знание, моя воля ограниченны; но границы для меня не суть в то же время границы и для другого, не говоря уже о человечестве; что мне тяжело, другому легко; что невозможно, непонятно для одного времени, то понятно и возможно для будущего. Моя жизнь связана с определенным временем, жизнь же человечества нет (?!). История человечества состоит не в чем ином, как прогрессирующем преодолении границ, которые в каждое определенное время считаются границами человечества и потому абсолютными, непреодолимыми. Будущее раскрывает все более, что предполагаемые границы рода были лишь границами индивидов... Таким образом, род неограничен, ограничен только индивид.
Но чувство ограниченности тягостно, от этой тягостности индивидуум освобождается в созерцании высшего существа; в нем владеет он тем, что ему не хватает. Бог у христиан есть не что иное, как созерцание (Anschaung) непосредственного единства рода и индивида, общего и отдельного существа, Бог есть понятие роди как индивида, понятие или сущность рода, которая является родом в качестве всеобщего существа как совокупности всех совершенств, всех свойств, освобожденных от действительных или мнимых границ индивида, но вместе с тем и индивидуальным, особным существом. "Сущность и существование для бога идентичны" - это значит не что иное, как то, что он есть родовое понятие, родовое существо, непосредственно существующее и как отдельное существо"<<29>>.
"Идея рода (развивает Фейербах в полемике с Штирнером) необходима, неотъемлема для отдельного индивида, а каждый ведь является отдельным. "Мы достаточно совершенны", справедливо и изящно выражается Единственный (Штирнер); но в то же время мы чувствуем себя ограниченными и несовершенными, ибо мы необходимо сравниваем себя не только с другими, но и с самими собой. Мы чувствуем себя ограниченными не только морально, но и чувственно, в пространстве и времени; мы, данные индивиды; существуем лишь на этом определенном месте, в этом ограниченном времени. Как можем мы исцелиться от чувства этой ограниченности, если не в мысли о неограниченном роде, т. е. в мысли о других людях, других местах, других счастливых временах? Кто не ставит поэтому на место божества род, тот оставляет в индивиде пробел, который необходимо заполняется представлением о боге, т. е. персонифицированном существе рода. Лишь род в состоянии упразднить божество и религию, а вместе и заменить их (Фейербах проговаривается здесь о подлинном, богоборческом, мотиве, которым вызвана к жизни его религия человечества). Не иметь никакой религии значит думать только о самом себе, иметь религию значит думать о других. И эта религия есть единственно пребывающая, ибо раз только мы имеем хотя бы двух людей - мужа и жену, мы имеем уже религию. Двое, различение, есть происхождение религии, - ты есть бог для меня, ибо я не существую без тебя, я завишу от тебя, нет тебя, нет и меня"<<30>>. В "Grundsätze der Philosophie der Zukunft" мы находим следующие решительные афоризмы о божественности рода:
"Отдельный человек сам по себе не имеет существа человека в себе ни как в моральном, ни как в мыслящем существе. Существо человека содержится только в общении, в единстве человека с человеком, - единстве, опирающемся лишь на реальности различия между я и ты" (№ 59). "Одиночество есть конечность и ограниченность, общественность есть свобода и бесконечность. Человек сам по себе (für sich) есть только человек (в обычном смысле слова): человек с человеком, единство я и ты, есть бог" (№ 60).
Таким образом, нет никакого сомнения в том, что речь идет здесь не о чем другом, как именно о религиозном обожании человечества в лице ли первого встречного ты или же совокупного человеческого рода. Фейербах постоянно колеблется (и колебание это, как мы убедимся ниже, вытекает из самого существа дела, есть неизбежное свойство занятой им философской позиции) между узким и широким пониманием человечества как бога. В полемике с Штирнером он указывает даже на различие полов и семейный союз как необходимую основу религиозного отношения к человеку, так что храм этого божества то суживается до супружеской спальни и детской, то расширяется, охватывая собой арену жизни всего исторического человечества. В мировоззрении Фейербаха борются партикуляристическая и универсалистическая тенденции, и если, имея в виду первую, Ланге обозначил его названием туизма (от tu - ты), то, имея в виду вторую, его нужно назвать гуманизмом в самом широком смысле слова. И когда Фейербах не бывал так притиснут к стене сокрушительной критикой, как это было в случае с Штирнером, он склонен был рассматривать предмет своей религии универсалистически, обнаруживая даже явное стремление персонифицировать род, придать идее человечества не только абстрактное, но и реальное существование, ощутить Grand-être, о котором учил Ог. Конт. Необыкновенно характерны в этом отношении его суждения о Христе, показывающие, как помимо ведома и против воли были все же дороги и близки некоторые истины христианства тому, кто борьбу с христианством сделал своей жизненной задачей. Мы читаем:
"Христос есть не что иное, как образ, в котором отпечатлелось и выразилось для народного сознания единство рода. Христос любил людей; Он хотел объединить их всех без различия пола, возраста, звания и национальности. Христос есть любовь человечества к самому себе (!!) как образ (в соответствии развитой природе религии) или как лицо, но лицо, которое (в религиозном отношении) имеет значение только символа, есть лицо идеальное. Поэтому любовь и выставляется как отличительный признак Его учеников. Но любовь, как сказано, есть не что иное, как практическое осуществление единства рода в настроении (Gesinnung). Род не есть одна только мысль; он существует в чувстве, в настроении, в энергии любви. Род есть то, что вселяет в меня любовь. Полное любви сердце есть сердце рода. Таким образом, Христос, как сознание любви, есть сознание рода. Все мы должны сделаться едино во Христе. Христос есть сознание нашего единства. Итак, кто любит человека ради человека, кто возвышается до любви к роду, до универсальной, соответствующей сущности рода любви, тот есть христианин, тот сам есть Христос. Он делает то, что делал Христос, что Христа делало Христом. Где, следовательно, возникает сознание рода как рода, там исчезает Христос, хотя и, сохраняется Его истинная сущность, ибо Он был лишь заместителем, образом сознания рода"<<31>>.
Несмотря на все религиозное убожество этих суждений, в которых совершенно устраняется живой Лик Христов, печатлеющийся в сердцах верующих в Него, в них достаточно ясно выражена мысль о реальном, а не отвлеченном только единстве человеческого рода. Отказываясь видеть это реальное, мистическое единство в Богочеловеке, но инстинктивно чувствуя всю важность, всю необходимость этого единства, Фейербах принужден искать его в Левиафане, и человечество, вместо тела Христова, объявляется телом Левиафана. Неумолимая логика карает идолопоклоннический атеизм Фейербаха, шаг за шагом толкая его, свободолюбца и коммуниста, чрез гегелевское обожествление государства к римскому обожествлению главы государства. Отвергнув Христа, он ставит реальной главой человечества главу государства - Divus Caesar! <<*3>> Тех, кто сочтет это за клевету, приглашаем внимательно проследить следующие суждения Фейербаха:
"Субъективное происхождение государства объясняется верой в человека как бога для человека. В государстве выделяются и развиваются силы человека для того, чтобы при помощи этого разделения и их нового соединения установить бесконечное существо; многие люди, многие силы суть одна сила. Государство есть совокупность всех реальностей, государство есть провидение для человека. В государстве один заменяет другого, один восполняет другого; чего я не могу, не знаю, может другой. Я не один, отданный случайностям естественной силы; другие существуют для меня, я окружен (umfangen) всеобщим существом, являюсь членом целого. Истинное государство есть неограниченный, бесконечный, истинный, совершенный, божественный человек. Лишь государство есть человек, сам себя определяющий, к самому себе относящийся, абсолютный человек... Связь государства есть практический атеизм; люди существуют в государстве, потому что они существуют в государстве без бога, государство есть бог для человека, почему оно и виндицирует себе по праву божественный предикат "величества" ("Majestät")"<<32>>.
Своеобразный культ! Но послушаем еще:
"Человек есть основное существо (Grundwesen) государства. Государство есть реализованная, организованная, выявленная целокупность (Totalität) человеческого существа. В государстве воплощаются в различных сословиях существенные качества или виды деятельности человека, но в лице главы государства снова сводятся к тождеству (Identität). Глава государства представляет все сословия без различия: пред ним все они равно необходимы и равноправны. Глава государства есть представитель универсального человека"<<33>>.
Вот какое содержание в конце концов получает формула homo homini deus est: богом для человека является глава государства, и остается только воскресить и внешнюю оболочку этой античной идеи, т. е. восстановить священные изображения главы государства, принесение им жертв и т. д. Не проносится ли здесь, как роковое предчувствие, тень того, что некогда воссядет во храме, как бог, и потребует для себя божеских почестей!..
Так или иначе, но такова религия, проповедуемая Фейербахом. Ибо речь идет именно о религии, которая была бы способна противостать христианской религии, о сознательно антихристианской религии. Фейербаху мало одного философского учения, какими являлись до сих пор разные теории.
"До сих пор (die bisherige) философия не могла заместить религии; она была философией, но не религией, без религии. Она оставляла своеобразную сущность религии вне себя, она притязала (vin-dicierte) для себя лишь на форму мышления (Gedankenform). Если же философия призвана заместить религию, то она должна сделаться религией как философия, она должна принять в себя способом ей свойственным (ihr conform) то, что составляет сущность религии, те преимущества, которые имеет последняя пред философией...
Если практически человек стал теперь на место христианина, то и теоретически человеческая сущность должна стать на место божественной. Словом, мы должны то, чем мы хотим стать, выразить в одном высшем принципе, в одном высшем слове: лишь таким образом освящаем мы нашу жизнь, обосновываем нашу тенденцию. Лишь таким образом освобождаемся мы от противоречия, которое отравляет в настоящее время наше внутреннее существо: от противоречия между нашей жизнью и мышлением и коренным образом противоречащей им религией. Ибо мы должны снова сделаться религиозными, - политика должна делаться нашей религией, но это возможно в том лишь случае, если мы и в нашем мировоззрении будем иметь в качестве самого высшего то, что обращает для нас политику в религию.
Можно делать политику религией инстинктивно, здесь дело идет о высшем сознанном (leitztem ausgesprochenen) основании, об официальном принципе. Этот принцип есть не что иное, как, выражаясь негативно, атеизм, т. е. устранение бога, отличного от человека"<<34>>.
Слова, замечательно характерные для Фейербаха, раздвигающие туманную философскую завесу и показывающие и главный двигатель его мысли, и его горделивую мечту: двигатель этот - атеизм, определеннее - антихристианство, мечта начать новую эру, создать новую религию, превратить людей из "теологов в антропологов, из теофилов в филантропов, из кандидатов на тот свет в студентов этого света, из религиозных и политических камердинеров небесной и земной монархии и аристократии в сознательных, свободных граждан земли"<<35>>.
Нет бога, кроме человека, и Фейербах пророк его. Не о малом идет речь, ибо, если справедливо собственное мнение самого Фейербаха, что периоды истории различаются между собой религиозными переворотами, то Фейербах хотел открыть новую эру в истории и в глуши своего Брукберга выковать духовный рычаг, которым можно было бы перевернуть и поставить на новый путь человечество.
Замечательно, насколько удалось Фейербаху в цитированных словах угодить духу времени. Нельзя было сказать чего-либо более соответствующего современному настроению, более угодного лукавству князя мира сего, как этот призыв иметь религию в политике, сделать политику религией. Ибо ведь в течение всего XIX века и до наших дней - и чем дальше, тем быстрее - растет количество людей, обходящихся без потусторонних идеалов и целиком перенесших их сюда, в "царство мира сего", и фактически для этих людей политика давно стала религией. Многочисленные полки материалистического социализма, непрерывно множащиеся в разных странах, живут этой религией. Здесь подтверждается, между прочим, справедливость наших вступительных замечаний о том, до какой степени Фейербах выражает своим учением душу современного материалистического социализма, его религию, насколько он проникает в самую сокровенную и интимную его сердцевину.
V
Раз род объявлен абсолютом и божеством, отсюда получается неизбежный и необходимый вывод, именно, что "das Mass der Gattung ist das absolute Mass, Gesetz und Kriterium der Menschheit"<<36>>, т. е. что "мера рода есть абсолютная мера, закон и критерий человечества". В роде - весь закон и все пророки.
Хотя догматика религии рода только бегло и неполно намечена Фейербахом, однако мы укажем некоторые основные догматы ее ввиду их характерности для всего замысла и возможного направления дальнейшей разработки.
Верующие видят в божестве живое воплощение истины, которая раскрывается в историческом познании человечества, в развитии научной и философской мысли, постепенно приближающейся к человеческому сознанию. Они видят в нем, далее, воплощение абсолютного нравственного совершенства, живой идеал, о котором сказано: "Будьте совершенны, как Отец ваш небесный совершен есть". Они видят в нем, наконец, источник совершенной красоты, разлитой в мире и имеющей в торжестве своем "спасти мир". Божество мыслится как триединство истины, добра и красоты. Религия рода у Фейербаха не упраздняет этого триединства, но она относит его к своему божеству, делает эти определения предикатами рода, играющего роль абсолюта. (Нужно, впрочем, заметить, что сам Фейербах не занимался вопросами эстетики, но не трудно себе представить, в каком направлении могла бы она разрабатываться в общем соответствии основным его идеям.)
Истина, по Фейербаху, является функцией рода, установляется родовым сознанием.
"Только в общении, только из отношений между людьми возникают идеи. Не в одиночку, но лишь сообща приходят к понятиям, вообще к знанию. Два человека необходимы для рождения человека духовного так же, как и физического: общение человека с человеком есть первый принцип и критерий истины и всеобщности. Уверенность даже в существовании других вещей, кроме меня, для меня опосредствована уверенностью в существовании другого человека помимо меня. Что я вижу один, в том я сомневаюсь; верно лишь то, что видит и другой"<<37>>. "Истина существует не в мышлении, не в знании за свой счет (für sich selbst). Истина есть лишь целокупность человеческой жизни и существа"<<38>>. "Истинно то, в чем другой со мной соглашается, - единогласие (Übereinstimmung) есть первый признак истины, но лишь потому, что род есть последний масштаб (Mass) истины... Истинно то, что согласно с существом рода, ложно то, что ему противоречит. Другого закона истины не существует"<<39>>.
Таков основной гносеологический тезис Фейербаха, который в настоящее время, осложненный кантианством и дарвинизмом, выражает основную гносеологическую идею Зиммеля (отчасти Риля). Фейербах сам, однако, отшатывается от выводов, проистекающих из прямолинейного и решительного применения этого тезиса, по которому выходит, что прав не Сократ, а его судьи, не Коперник, а судивший его трибунал, вообще не новатор и революционер мысли, но косная и темная толпа. "Другой, - продолжает Фейербах, - по отношению ко мне есть представитель рода, заместитель других во множественном числе, именно его суждение может иметь для меня большее значение, нежели суждение бесчисленной толпы"<<40>>. Таким образом Фейербах утекает от собственной демагогической гносеологии, а так как в другом месте<<41>> Фейербах замечает, что индивид сам для себя представляет род, то тезис Фейербаха теряет всякое реальное значение и, освободив себя от всех неприятных выводов из своего учения, из обороны он переходит в наступление: "Словом, существует качественное, критическое различие между людьми, но христианство погашает эти качественные различия". Виновато или не виновато христианство в этом погашении, но при такой интерпретации религия рода, человечества, нечувствительно переходит в религию индивида-сверхчеловека, а Фейербах преображается в Ницше, вообще говоря, представляющего из себя антипода Фейербаха именно в этом пункте.
В роде не только истина, но и добро. "Другой есть моя предметная совесть: он упрекает меня за мои недостатки, даже если он прямо не говорит мне об этом: он есть мое персонифицированное чувство стыда. Сознание морального закона, права, целесообразности, даже истины, приурочено к сознанию других"<<42>>.
Однако для рода, как абсолюта, недостаточно быть "предметной совестью", т. е. субъективным возбудителем добра, - это положение само по себе мало характерно для религии человечества - ему надо быть и объективным добром, воплощением сущего добра. Абсолют - так уж абсолют, ему принадлежит, следовательно, в качестве неотъемлемого атрибута и святость. Сумма состоит из всех слагаемых, а род из всех индивидов, значит, в коллективной святости участвую и я со всеми несмываемыми пятнами, какие только знает моя совесть, и Мессалина, и Калигула, и Боржиа, и чеховские "нудные", серые люди... Вот твой бог, пади ниц и молись, молись самому себе, молись Мессалине, молись "Ионычу". Это роковой для Фейербаха и для всякой религии человечества вопрос: куда же деть всю слабость и всю порочность нового бога, которая в христианской религии приводится в связь с коренным человеческим грехопадением, с первородным грехом и, далее, с догматом искупления? Прошу теперь внимания, - мы увидим, как Фейербах выпутывается из затруднения. Рассуждение это мне представляется самым важным, самым решающим и самым ответственным во всех сочинениях, во всем мировоззрении Фейербаха и, кроме того, совершенно из него неустранимым: кто его примет, без труда примет и всю остальную догматику религии человечества, а кто не принимает только этого, не принимает ничего. Речь идет у Фейербаха именно о догмате первородного греха, и, критикуя этот догмат, он говорит следующее:
"Здесь совершенно отсутствует объективное воззрение, сознание, что ты принадлежит к совершенству я, что люди лишь в совокупности составляют человека, только вместе суть они то, чем должен быть человек, существуют так, как он должен существовать. Все люди суть грешники, я это допускаю, но не все они грешны на один и тот же манер, напротив, существует весьма большая, даже существенная разница. Один человек наклонен ко лжи, а другой нет: он пожертвует скорее жизнью, чем нарушит слово или солжет; третий имеет склонность к пьянству, четвертый - к распутству, зато первый не имеет всех этих склонностей по милости ли своей природы, или благодаря энергии характера. В моральном отношении люди восполняют друг друга, как в умственном и физическом, так что взятые вместе в целом они таковы, какими должны быть, представляют совершенного человека".
Таким образом, для получения совершенного человека Фейербах предлагает брать алгебраическую сумму добродетелей и пороков. Он не замечает только, что и по этому рецепту, научающему, каким образом из десяти Мессалин можно получить одну Цецилию, из десяти Калигул - одного маркиза Позу, из десяти чеховских типов - одного героя и т. д. и т. д., в окончательной сумме получается в лучшем случае только нуль, в результате погашений плюсов и минусов, а не "совершенный человек". Фейербах следующим образом развивает свою мысль:
"Если даже любовь и дружба из существ, которые сами по себе несовершенны, делают одно, относительно, по крайней мере, совершенное целое, насколько же больше грехи и пороки отдельных людей исчезают в самом роде, который имеет достойное существование только во всем человечестве (in der Gesammtheit der Menschheit)... Ламентации о грехе поэтому лишь тогда вступают в порядок дня, когда человеческий индивид в своей индивидуальности считается совершенно абсолютным, не нуждающимся в других для реализирования в себе рода, совершенного человека, когда на место сознания рода выступает исключительное самосознание индивида, когда индивид не сознает себя частью человечества, не отличает себя и человечества, а потому свои собственные грехи, свои границы, свою слабость превращает во всеобщие грехи, в грехи, границы и слабость всего человечества. Поэтому, где род не является предметом для человека как род, там он становится для него предметом как бог. Отсутствие понятия о роде восполняется понятием бога как существа, свободного от границ и недостатков, которые обременяют индивид и, по его мнению, самый род, так как он отождествляет себя с родом. Но эта свободная от границ индивидов, неограниченная сущность именно и есть не что иное, как род, который обнаруживает бесконечность своей сущности в том, что осуществляется в неограниченно многочисленных и разнообразных индивидах. Если бы все люди были абсолютно равны, то, конечно, не было бы никакой разницы между родом и индивидом. Но в таком случае существование многих людей было бы чистой роскошью, одного было бы достаточно для целей рода... Однако хотя существо человека едино, но оно бесконечно, его действительное существование имеет целью открыть бесконечное, взаимовосполняющееся разнообразие, богатство его сущности. Единство в сущности есть разнообразие в существовании"<<43>>.
Таким-то образом расправляется Фейербах с роковыми вопросами индивидуального сознания, трагедии духа, язвами совести, абсолютностью запросов и бессилием удовлетворить их, со всеми этими антиномиями, которые делают человека столь загадочным противоречием, из которых и рождаются метафизические системы и религиозные верования. И на все один ответ: несовершенства индивида поглощаются в роде, сумма больше своих слагаемых. Роду приписывается совершенство, бесконечность, разнообразие форм существования и, натурально, способность к безграничному прогрессу в истории, представляющему из себя в современном философском сознании нечто вроде "комиссии" у бюрократов: чтобы разделаться с беспокойными, настойчиво требующими разрешения и вместе с тем неразрешимыми бюрократическим путем вопросами жизни, их сдают в комиссию, а чтобы разделаться с "проклятыми" философскими вопросами, ссылаются на прогресс: он все разрешит, все устроит. Читаем и у Фейербаха в связи с вопросом о будущей жизни следующее:
"Заключение относительно теологического или религиозного Jenseits, предположение будущей жизни в целях усовершенствования человека было бы в таком случае оправдано, если бы человечество находилось постоянно на одной точке, если бы не было истории, усовершенствования, улучшения человеческого рода на земле... Но существует культурная история человечества. Бесчисленное из того, что не могли и не знали наши предки, можем и знаем мы теперь. Таким образом, то, что для нас теперь есть только предмет желания, некогда исполнится, бесчисленное из того, что темным охранителям и защитникам теперешних представлений веры и религиозных институтов, современных политических и социальных условий являлось невозможным, некогда станет действительностью; бесчисленное из того, что не знаем мы теперь, но хотел бы знать, узнают наши потомки. На место божеств, в которых исполнются лишь безосновательные прихотливые желания человека, мы имеем человеческий род или природу, на место религии - образование, на место Jenseits за нашей могилой - на земле историческое будущее, будущее человечества"<<44>>.
При этом Фейербаха не смущает вопрос о смерти всего живого, всего индивидуального, столь плохо вмещающийся в эту оптимистическую картину. Нужно отдать справедливость Фейербаху, он не прошел молчанием и не отмахнулся просто от этой проблемы, как это обыкновенно принято делать. Напротив, он всегда пристально всматривался в загадку смерти, не зажмуривая глаз и стараясь примириться со смертью и оправдать ее, создать, по выражению Иодля, "танатодицею" (по аналогии с теодицеей), что так трудно и так противоречит живому и непосредственному чувству. Несколько раз он возвращался к проблеме смерти. Ей посвящено было его первое сочинение "Todesgedanken", проникнутое еще пантеистическим гегельянством, где рядом со смертью индивидуального признается бессмертие целого (это одно из наиболее туманных и незрелых произведений Фейербаха). "Todesgedanken" представляют собой поэтому оптимистически-благодушный гимн смерти личности во имя бессмертия целого<<45>>. Позднее Фейербах сосредоточивает свою критику на существующих представлениях о жизни после смерти<<46>>, но эта рассудочная критика представляет слабый принципиальный интерес. В конце концов, став философским материалистом, Фейербах успокаивается на идее биологического приспособления к смерти, естественности своевременной смерти, предвосхищая то, что в настоящее время проповедует Мечников. В "Vorlesungen über das Wesen der Religion", подводящих итог всему его мировоззрению, мы читаем по этому поводу следующее суждение:
"Все имеет свою меру, - говорит греческий философ, - для всего наступает, в конце концов, насыщение, даже для жизни, и человек желает себе, наконец, смерти. Нормальная, сообразная природе смерть, смерть законченного человека, который отжил, не имеет поэтому ничего устрашающего. Старики часто даже вздыхают о смерти. Немецкий философ Кант от нетерпения едва мог дождаться смерти, он стремился к ней, не с тем, чтобы начать жить снова, но из желания своего конца. Лишь неестественный, несчастный смертный случай, смерть ребенка, юноши, мужа в полной силе возмущает нас против смерти и заставляет желать новой жизни. Но как ни странны, как ни скорбны такие несчастные случаи для переживающих, они, однако, не уполномочивают нас к принятию Jenseits уже по той причине, что эти ненормальные случаи - они ненормальны, хотя бы и повторялись теперь чаще, чем сообразная с природой естественная смерть, - имеют следствием и ненормальный потусторонний мир, мир лишь для умерших насильственно или преждевременно; но такой ненормальный мир был бы чем-то невероятным и противоразумным"<<47>>.
Этими суждениями характеризуется до конца общее мировоззрение Фейербаха.
VI
Теперь мы можем обратиться к критическому рассмотрению мировоззрения Фейербаха. Но раньше мы должны еще остановиться на одном литературном эпизоде, необыкновенно интересном для освещения доктрины Фейербаха и имеющем поэтому огромную важность для точного ее понимания. Мы имеем в виду полемику Фейербаха со Штирнером, знаменитым автором "Der Einzige und sein Eigenthum". Между обоими современниками, Штирнером и Фейербахом, существуют и большая близость, и непримиримая противоположность. Близость состоит в том, что оба они являются воинствующими проповедниками атеизма, противоположность же - в различии способов понимания этого атеизма и того содержания, которое в него вкладывается. Фейербах проповедует атеизм положительный, гуманистический, который отрицает бога во имя человека и человечества, и свою атеистическую религию формулирует: hoто homini deus est. Штирнер же понял свой атеизм дерзновенно-нигилистически, заострил его в проповедь чистого нигилизма, отрицания всяких высших ценностей, всего святого: "Alles Heilige ist ein Band, eine Fessel"<<48>>. Он подошел к самому краю пропасти, за которым открывается зияющая бездна, он атомизировал человечество, упразднив всякий коллективизм его существования и оставив только одно "единственное" свое я, для которого нет ни права, ни общей нормы, ни добра (Ich bin meine Gattung, bin ohne Norm, ohne Gesetz, ohne Muster u. dgl.), ибо все эти понятия возникли и связаны с идеей признания человеческого общества, "рода", равноценности чужого я моему я. Штирнер говорит в предисловии к своей книге: "Божеское есть дело бога, человеческое - дело "человека". Мое дело есть ни божеское, ни человеческое, оно не есть истинное, доброе, справедливое, свободное и т. д., но исключительно мое собственное (das Meinige), и оно вовсе не есть всеобщее, но есть единственное (Einzige), как и я есть единственный. Нет ничего выше меня! (Mir geht nichts über Mich)"<<49>>. Вот две лапидарные формулы, выражающие два атеизма, штирнеровский и фейербаховский: "Mir geht nichts über Mich" и "homo homini deus est". Может ли быть большая противоположность, еще подчеркивающаяся близостью исходных позиций? Столкновение этих двух атеистов имеет огромный философский интерес, до сих пор как-то не замеченный и не оцененный в литературе. Кто прав из них в качестве атеиста? Кто из них более подлинный атеист, чей атеизм последовательней, радикальнее, искреннее, смелее? Заметьте, что для людей, которые сделали атеизм как бы специальностью, которые ни о чем так не заботятся, как о том, чтобы быть последовательными атеистами, не может быть большего оскорбления, злейшей иронии, как обвинение их в теологии, благочестии, религиозности. И такое именно обвинение выставил один, более смелый атеист против другого, который хотел бы, по грубой, но меткой поговорке, и невинность соблюсти и капитал приобрести, хотел бы при атеистической догматике не отказываться и от некоторых выводов из верований религиозных. Штирнер первый бросил перчатку в своей книге, которая, можно сказать, представляет собой одно сплошное возражение против Фейербаха, выступив с открытой насмешкой над его благочестием:
"После уничтожения веры Фейербах мечтает укрыться в мнимо мирную бухту любви. "Высший и первый закон должна быть любовь человека к человеку. Homo homini deus est - таково высшее практическое правило, таков поворотный пункт истории". Собственно изменился только бог, deus, любовь же осталась; там любовь становилась сверхчеловеческим богом, здесь любовь к человеческому богу, и homo в качестве deus. Стало быть, человек для Меня свят. И все "истинно-человеческое" для Меня свято! Брак свят сам по себе. И так же обстоит дело со всеми нравственными отношениями. Свята есть и да будет тебе дружба, свята собственность, свят брак, свято благо каждого человека, но свято an und für sich. Разве нет здесь снова попа? Кто его бог? Человек! Что считается божественным? Человеческое! Таким образом, только предикат превращен в субъекта и вместо положения: "бог есть любовь" стоит: "любовь божественна", вместо "бог сделался человеком" стоит "человек сделался богом" и т. д. Это есть только новая религия<<50>>.
Восставая против помыслов и понятий современности, эгоист безжалостно совершает самое решительное уничтожение святынь (Entheiligung). Ничто ему не свято!
Было бы глупо утверждать, что я не имею никакой власти над своей собственной. Только позиция, которую я занимаю по отношению к ней, будет совершенно иная, чем та, которая существовала в век религиозный: я буду врагом всякой высшей власти, тогда как религия учит делать ее другом нашим и унижаться перед ней. Уничтожатель святынь (Entheiliger) напрягает все свои силы против страха божьего. Имеет ли бог или человек освящающую силу в человеке, следовательно, что-либо почитается святым во имя ли бога или человека, это не изменяет страха божьего, ибо человек с таким же успехом почитается "высшим существом", как и с специально религиозной точки зрения бог в качестве "высшего существа" требует от час страха и благоговения, и оба они импонируют нам.
Собственный страх божий давно уже испытал потрясение, и более или менее сознательный атеизм, внешним образом распознаваемый по широко распространяющейся "нецерковности", непроизвольно задает тон. Но то, что взято у бога, придано человеку, и сила человечности (Macht der Humanität) увеличилась в такой же мере, в какой потеряло в весе благочестие: "человек" есть нынешний бог, и страх пред человеком заступил место старого страха пред богом. Но так как человек представляет собой только разновидность высшего существа, то в действительности в высшем существе произошла только метаморфоза, и страх человеческий есть лишь измененная форма страха божьего.
Наши атеисты - благочестивые люди"<<51>>.
"Существует ли единый или триединый бог, или бог лютеранский, или être suprême,<<*4>> или совсем нет бога, но раз "человек" представляет собой высшее существо, это не составляет никакой разницы для того, кто отрицает само высшее существо, ибо в его глазах эти служители высшего существа в совокупности - благочестивые люди: самый свирепый (wüthendste) атеист не в меньшей степени, чем верующий христианин"<<52>>.
Впечатление, произведенное на Фейербаха критикой Штирнера, было огромно. Фейербах на наших глазах просто извивается от боли под тяжелыми ударами сарказмов Штирнера. Хотя он в письме к брату <<53>> и заявляет, что Штирнер в своей "гениальной" книге "не попадает в суть относительно меня" и что критика его "основана или на простом недомыслии (puren Unverstand), или легкомыслии", но в своем ответе Штирнеру ("Das Wesen des Christenthums in Beziehund auf den "Einzige und sein Eigenthum") он обнаруживает, по нашему мнению, не только поразительную слабость, но и совершенную растерянность. Его теория не выдержала действия щелочной кислоты реактива, которым явился для нее бесшабашный "эгоист". Фейербах пытается вначале сам перейти в наступление: ""Ich hab mein Sach auf Nichts gestellt", - поет Единственный. Но разве ничто не является тоже предикатом бога и разве положение; бог есть ничто (которого, заметим к слову, никогда не высказывал и не высказал бы Штирнер, который выставлял совсем иной тезис: не "бог есть ничто", а "нет бога, нет святыни"), - не есть выражение религиозного сознания?" В примечании к этому месту для научной видимости Фейербах приводит ссылку, что определение "бог есть ничто" встречается не только в восточных религиях, но и у христианских мистиков. Этой ссылкой Фейербах только окончательно обнаруживает свою растерянность и бессилие возразить что-либо по существу: нужно ли говорить, что между мистическим акосмизмом буддизма и некоторых христианских мистиков и боевым нигилизмом Фейербаха гораздо меньше сходства, нежели даже между учением Фейербаха и церковной ортодоксией. Далее Фейербах пытается оспаривать тезис "единственного" об его "единственности" ссылкой на существование пола, жены, детей и т. д., как будто эта ссылка имеет какое-нибудь значение для "единственного" и способна побудить его отказаться от своей "единственности", сойти с своего нигилистического трона и признать за этими людьми права, а за собой обязанности, признать в них для себя святыню, а не средство. Как будто существование гаремов и лупанаров недостаточно показывает, что различия полов самого по себе вовсе недостаточно еще для того, чтобы женщина стала не вещью, удовлетворяющей прихотям своего "единственного", повелителя, а личностью, про которую можно сказать homo homini deus est. В дальнейших своих замечаниях Фейербах беспомощно путается в противоречиях<<54>>, но ничего не возражает Штирнеру по существу. Мы думаем, что это имеет причиной, конечно, не случайную слабость Фейербаха, но самое существо дела: ему, действительно, нечего было возразить, ибо относительно Фейербаха Штирнер совершенно прав. Говоря языком Фейербаха, Штирнер есть правда, раскрытая тайна Фейербаха. Настоящий атеист есть Штирнер, а Фейербах остается, действительно, "благочестивым" атеистом, "попом".
"Нравственники, - бросает Штирнер упрек Фейербаху, - сняли жир с религии, воспользовавшись им сами, а теперь стараются разделаться с происходящей от нее болезнью желез" (Drüsenkrankheit). "С силой отчаяния хватается Фейербах за все содержание христианства, не для того, чтобы его отбросить, нет, для того, чтобы привлечь его к себе, для того, чтобы его, давно желанное, но всегда далекое, последним усилием увлечь на свое небо и навсегда удержать при себе. Разве это не борьба последнего отчаяния, не борьба на жизнь и на смерть, и не есть это разве, вместе с тем, и христианское томление (Sehnsucht), и желание Jenseits? Герой не хочет вступать в Jenseits, но хочет привлечь его к себе, заставить его сделаться Diesseits! Разве не кричит с тех пор весь свет, более или менее сознательно, что речь идет об этом свете (Diesseits) и что небо должно прийти на землю и быть пережито уже здесь"<<55>>. Пред лицом всесокрушающего, ни перед чем не останавливающегося нигилиста Фейербах представляется настоящим паинькой, пастором, добродушным сектантом. Вся противоположность между двумя атеистами и двумя "эгоистами", щеголяющими своим атеизмом и своим эгоизмом, выразится еще полнее, может быть, если мы познакомимся, как они понимают свой эгоизм.
Послушаем сначала "Единственного". В ответ на возможные упреки в эгоизме он заявляет:
"Ладно! Я не хочу иметь ничего особого в сравнении с другими, я не хочу притязать ни на какое преимущество пред ними, но я меряю себя не по другим и вообще не хочу иметь никакого права. Я хочу быть всем и иметь все, что могу. Имеют ли то же самое другие, какое мне дело. Равного, того же самого они не могут ни иметь, ни представлять собой... Я считаю себя не чем-нибудь особенным, но единственным (einzig). Конечно, я имею сходство с другими, но это имеет значение лишь для сравнения или рефлексии; в действительно ста я несравним и единственен. Я не хочу в тебе признавать или уважать что бы то ни было, ни собственника, ни босяка (Lump), ни даже только человека, но хочу пользоваться (verbrauchen) тобой... Для меня ты являешься лишь тем, что ты составляешь для меня, именно мой предмет, а так как мой предмет, то и мою собственность"<<56>>. "Ausser mir giebt es kein Recht"<<57>>.
Как это все угадано Достоевским, который, конечно, никогда не знал Штирнера, зато глубоко проник в мировоззрение атеизма. Ведь приведенную немецкую фразу по-русски прямо же можно перевести роковой формулой Ив. Карамазова: все позволено, нет Бога, нет и морали. "Где стану я, там сейчас же будет место свято".
И рядом с этими воистину сатанинскими речами Фейербах лепечет свои благочестивые речи, прикидываясь при этом страшным нигилистом, хотя из-за маски выглядывает кисточка колпака домовитого обывателя, доброго дядюшки и любимца детей:
"Я разумею под эгоизмом любовь человека к себе самому, т. е. любовь к человеческому существу, ту любовь, которая побуждает к удовлетворению и развитию всех тех стремлений и наклонностей, без удовлетворения и развития которых он не может быть и не есть истинный, совершенный человек. Я разумею под эгоизмом любовь к себе подобным, - ибо что я без нее, что я без любви к существу мне подобных? - любовь индивида к самому себе настолько же, насколько всякую любовь к предмету или существу как прямую любовь к себе, ибо я могу любить только то, что соответствует моему идеалу, моему чувству, моему существу"<<58>>.
Таково любвеобильное сердце нашего добродушного "эгоиста", рядом с которым ложится черная, мрачная тень от демонической фигуры другого, облеченного в мрачное сияние своего первообраза, с опаленными крыльями и клеймом проклятия вечного одиночества.
Можно ли представить себе более поучительное зрелище, чем это столкновение двух "эгоистов", из которых один прошел свой путь до конца и остановился у полюса, другой же занес только ногу, но остался стоять на прежней, надежной почве, изображая философский "бег на месте".
Идейное столкновение Штирнера и Фейербаха никоим образом нельзя считать изжитым. Штирнер произвел лишь слабое впечатление на свое время и был забыт с чрезмерной легкостью<<59>>. Но явился новый, более поздний и более талантливый проповедник сродных идей, который начинает оказывать могучее влияние на души современников, до сих пор благочестиво пробавлявшихся наивной религией человечества Фейербаха и Конта. С еще большей страстностью и с неменьшим дерзновением он попытался произвести "переоценку всех ценностей" и всего ожесточеннее напал на ценности гуманизма, которые в качестве "жира, снятого с религии" остались в учении Фейербаха<<60>>. Ницше - мы говорим о нем - с особенной враждой отнесся к учению о любви, обвиняя за него христианство в порче исторического человечества, и для Ницше, как раньше для Штирнера, Фейербах, мнивший себя врагом христианства и его разрушителем, необходимо оказывается в числе представителей христианства. В области морали на место: люби ближнего, было поставлено: sei hart, "падающего толкни". На место демократического учения об этической равноценности людей было провозглашено учение об их разноценности, об исключительной, высшей или единственной ценности избранных сверхчеловеков, аристократов, для которых остальное человечество является только пластическим материалом. Таким образом, все перевертывается вверх ногами. И самое интересное при этом то, что идеи эти, выраженные в привлекательной для многих, экзотической форме, произвели сильнейшее впечатление на современность, замутили головы, разрушили непосредственность прежних гуманистических верований, сделались модными, между тем как Штирнер в свое время прошел почти незамеченным и никого не смутил. Но, воскресши в Ницше, через головы нескольких поколений подает он свой голос теперь. Атеистический гуманизм переживает несомненный и глубокий кризис, раз подвергнута сомнению его основа, самый главный его демократический догмат. И кризис этот, на наш глаз, еще в самом начале, ломка господствующего мировоззрения только начинается, ибо, как писал Вл. Соловьев, "из окна ницшеанского сверхчеловечества прямо открывается необъятный простор для всяких жизненных дорог"<<61>>. Каковы эти дороги, это окончательно еще не определилось, но началась уже духовная смута.
Штирнер и Ницше подкапываются под основной догмат Фейербаха и всего вообще атеистического гуманизма: homo homini deus. Ибо, действительно, догмат этот лежит в основе всех возможных его оттенков, составляя общую для всех их почву. Современные наукообразные теории общественного развития или прогресса могут весьма сильно различаться между собою и в теоретических основаниях и практических или тактических выводах, но все они признают одну-единственную ценность - человека, в смысле любого представителя вида в отдельности или же рода в целом. Либералы и социалисты, марксисты и народники, какие угодно фракции практически сойдутся в одном: нет Бога, но бог - человек и человечество. Это не всегда лежит на поверхности и отчетливо выступает в сознании, но догмат этот сохраняет свою силу даже тогда, когда он словесно отрицается. Последние годы жизни Энгельс склонен был отрицать свою близость с Фейербахом, во-первых, потому, что ему не нравилось употребление Фейербахом слова "религия", как будто здесь дело в словах и от перемены слова изменится сущность, а во-вторых, что Фейербах с своим учением о любви сентиментальничает и не понимает значения классовой борьбы<<62>>. Но очевидно, что это последнее возражение может быть объяснено только сужением умственного горизонта самого Энгельса, ибо иначе он против положения, имеющего общее, философское и религиозное значение, не возражал бы ссылками на частный социологический тезис, который, верен ли он или неверен, не может конкурировать с первым. Учение о классовой борьбе отвечает на вопрос как, но не на вопрос что, оно дает не цель, но только форму и средство, неразрывно связанные с данными условиями и подлежащие устранению вместе с ними. Классовая борьба в марксизме имеет целью упразднение классов, и, следовательно, самоупразднение, она в этом смысле тоже есть путь любви. Поэтому Фейербах в своей социологии мог бы быть марксистом, так же точно, как и Энгельс, и марксисты в своей философии остаются фейербахианцами, т. е. атеистическими гуманистами. В самом деле, разве они знают какую-нибудь ценность, высшую, чем человек и человечество, разве они практически подвергают сомнению формулу homo homini deus, и ею разве не определяются все их идеалы будущего, идеалы социализма, свободного устройства общества? Их атеизм есть такой же антропотеизм, как и у Фейербаха, и в этом смысле все его представители без различия оттенков оказываются принципиально противоположны более радикальным атеистам Ницше и Штирнеру, которые во имя атеизма отвергают и антропотеизм и, отрицая небесного Бога, не хотят и земного божества.
----
1 Напечатано в журнале "Вопросы жизни" за 1905 г. и выпущено отдельно в изд. "Свободная совесть". Москва, 1906.
2 За последние годы в русском переводе появились некоторые произведения Фейербаха, как то: "Сущность христианства", "Мысли о смерти и бессмертии".
3 Даже в специальном трактате по истории философии религии проф. О. Пфлейдерера посвящено Фейербаху лишь несколько совершенно бесцветных страниц. Prof. Otto Pfleiderer. Geschichte der Religionsphilosophie von Spinoza bis auf der Gegenwart. Dritte Ausgabe. Berlin, 1893, стр. 447-454.
*1 Страшно сказать (лат.).
4 Vorlesungen über das Wesen der Religion, составляющие 8-й том старого, изданного еще самим автором, собрания сочинений, стр. 6-7.
5 F. Engels. L. Feuerbach und der Ausgang der klassischen Philosophie, 10-11. (С тех пор, как написаны эти строки, вышло уже несколько русских переводов этой брошюры.) Ср. аналогичный рассказ Герцена о впечатлении, произведенном на него чтением "Wesen des Christenthums" ("Былое и думы").
6 Справедливо замечает Масарик: "Революционная движущая сила для Маркса и у Маркса не естествознание, а атеизм" ("Философские и социологические основания марксизма", пер. П. Николаева, стр. 423). В другом месте Масарик справедливо указывает, что "Маркс (и Энгельс) исходят от Фейербаха и влияние Фейербаха на Маркса было очень значительно, гораздо значительнее, чем обыкновенно полагали. Кто понял эти немногие страницы о Фейербахе (эти страницы содержат изложение его учения), тот больше поймет марксизм, чем при непереваренном прочтении первой части "Капитала"".
7 У нас последователем Фейербаха стал Н. Г. Чернышевский, бывший проводником его влияния в русском обществе.
8 Lange. Geschichte des Materialismus. 6 Ausg. hrsg: von Cohen, II, 73.
9 Таковою отчасти является книжка Иодля "Л. Фейербах". СПб., 1905.
10 Grundsätze der Philosophie der Zukunft (1843). Во втором томе нового издания Иодля и Болина, § 1.
11 Фейербах совершенно справедливо констатирует, что "периоды человечества различаются между собою только религиозными переменами" (Philosophische Kritiken und Grundsätze. Статья "Nothwendigkeit einer Reform der Philosophie", 1841, стр. 216, по новому изданию второго тома). Против этого положения с точки зрения своего исторического материализма возражает Энгельс (L. Feuerbach etc.. 28-29).
12 "Wesen des Christenthums", стр. l.
13 Ibid., стр. 2. Курсивы здесь и в дальнейших цитатах из сочинений Фейербаха принадлежат подлиннику.
14 Характеризуя эмоциональную сторону религии и односторонне сводя религию к одному чувству (как будто сам Фейербах, занимаясь исключительно метафизикой религии, не показывает тем самым, насколько неустранимы из нее и метафизические проблемы), Фейербах говорит: "Бог есть чистое, неограниченное, свободное чувство. Всякий другой бог есть бог, навязанный твоему чувству извне. Чувство атеистично в смысле ортодоксальной веры как такой, которая соединяет религию с каким-либо внешним предметом, оно отрицает предметного бога, оно само есть бог. Отрицание исключительных прав чувства (des Gefühls nur) с точки зрения чувства есть отрицание бога. Ты слишком робок или ограничен для того, чтобы высказать словами то, что утверждает в жизни твое чувство. Связанный внешними соображениями, неспособный понять душевное величие чувства, ты пугаешься религиозного атеизма своего сердца и в этом страхе уничтожаешь единство твоего чувства с самим собой, воображая себе отличное от твоего чувства предметное существо, и с необходимостью снова бросаешься к старым вопросам: существует ли бог или нет... Чувство есть твоя внутренняя и вместе с тем отличная от тебя сила, оно в тебе выше тебя: это самое подлинное (eigenstes) твое существо, которое, однако, охватывает тебя как другое существо, короче - твои бог; как же ты хочешь еще отличить от этого существа в тебе как другое предметное существо?" (Ibid., 13). Уже по первым цитатам читатель может усмотреть некоторые основные особенности стиля Фейербаха: его многословность и манеру повторять одну и ту же мысль разними словами, философскую неточность языка и, главное, постоянное, необузданное и неразборчивое употребление слова "Wesen", с которым часто просто не знаешь, что делать при передаче его на русский язык. При помощи этого слова Фейербах постоянно впадает в гипостазирование и мифологизирование понятий.
15 Ibid., 6.
16 Ibid., 15.
17 Ibid., 17.
18 Ibid., 41.
19 Ibid., 22.
20 Ibid., 54. "Вера в бога, по крайней мере, бога религии, теряется только там, где, подобно как в скептицизме, пантеизме, материализме, теряется вера в человека, по крайней мере, как он существует для религии".
21 Ibid., 322.
22 Ibid., 126.
23 Ibid., 422.
*2 Человек человеку Бог (лат.).
24 Ibid., 326.
25 "Теизм, вера в бога, является вполне отрицательной. Она отрицает природу, мир, человечество: пред богом мир и человек суть ничто, бог есть и был прежде, чем был мир и люди; ом может (?!) жить без них; он - ничто для мира и человека" (Vorlesungen über das Wesen der Religion, стр. 367).
26 Vorlesungen, 25.
27 "Wesen der Religion", собр. соч., т. VII, 416.
28 Приведем полностью то определение природы, которое дается Фейербахом: "Я понимаю под природой совокупность всех чувственных сил, вещей и сущностей, которые человек отличает от себя как нечеловеческие; вообще я понимаю под природой... сущность (Wesen), действующую согласно необходимости своей природы (Nota-bene: определение замыкается в очевидный логический и словесный даже круг - природа, действующая с необходимостью природы!), но она не есть для меня, как для Спинозы, бог, т. е. одновременно и сверхчувственная, отвлеченная, тайная, простая, но многообразная, общедоступная, действительная, всеми чувствами воспринимаемая реальность. Или, говоря практически: природа есть все, что непосредственно является человеку, независимо от супранатуральных нашептываний теистической веры, непосредственно, чувственно, как предмет и основание его жизни. Природа - это свет, электричество, магнетизм, воздух, вода, огонь, земля, животное, растение, человек (насколько он есть несвободно и бессознательно действующее существо), - ничего более, ничего мистического, ничего человечного, ничего теологического я не подразумеваю в слове природа. Я апеллирую этим словом к чувствам. Юпитер есть все, что ты видишь, говорила древность; природа, говорю я, есть все, что ты видишь и что не происходит от человеческих рук и мыслей" и т. д., в этом же роде ( "Vorlesungen über das Wesen der Religion", стр. 116-117).
29 Wesen des Christ, 184-185.
30 Das Wesen des Christenthums in Beziehung auf den "Einzigen und sein Eigenthum", Band VII, 303.
31 Das Wesen des Christenthums, 324-325.
*3 Божественный Цезарь! (лат.)
32 Philosophische Kritiken und Grundsätze, статья "Nothwendigkeit einer Reform der Philosophie" (1841), ч. II, стр. 219-220.
33 Vorläusige Thesen zur Reform der Philosophie (1842), т. II, стр. 244.
34 В. II, 218-219.
35 Vorlesungen, 29. Сравните рассуждения Кириллова в "Бесах" Достоевского: "Бог есть боль страха смерти. Кто победит боль и страх, тот сам станет богом. Тогда новая жизнь, тогда новый человек, все новое... Тогда историю будут делить на две части: от гориллы до уничтожения Бога и от уничтожения Бога до... до перемены земли и человека физически. Будет богом человек и переменится физически".
36 Wesen des Christenthums, 20.
37 Grundsätze der Philosophie der Zukunft, собр. соч., т. II, 304, §41.
38 Ibid., § 58.
39 Wesen des Christenthums, 191.
40 Ibid.
41 "Человек мыслит, т. е. общается (conversirt), говорит сам с собою. Животное не может выполнять функции рода без другого индивида вне себя; человек же может выполнять родовую функцию мышления, речи, ибо мышление и речь суть настоящие функции рода, без другого. Человек есть сам для себя вместе я и ты, он может себя самого поставить на место другого именно потому, что предметом ему является его род, его существо, не только его индивидуальность" (Wesen des Christenthums, 3).
42 Ibid., 190.
43 Ibid., 189-190.
44 Vorlesungen, 364.
45 Мы читаем здесь, напр., такой дифирамб смерти: "О, смерть! Я не могу оторваться от сладостного созерцания твоего кроткого, столь интимно слившегося с моим существом существа! Зеркало моего духа, отблеск моей собственной природы! Из распадения единства природы с самой собой восстал сознательный дух, вспыхнул этот всеобщий, сам себя созерцающий свет и, как месяц светит светом солнца, так отражаешь и ты в своем кротком сиянии лишь горящий солнечный огонь сознания. Ты - вечерняя звезда природы и утренняя звезда духа; чувственные глупцы принимают одну звезду за две разных звезды. Ты светишь мудрому из страны грез к месту рождения истинного спасителя духа. Глупцы воображают, что лишь после смерти и при ее посредстве они входят в дух, что духовная жизнь возникает лишь после смерти, как будто бы чувственное отрицание может быть основанием или условием духа. Они не видят, что смерть уже предполагает действительное существование духа, следует лишь за духом и как чувственный конец есть лишь проявление духовного и существенного конца. Утренняя звезда не приносит с собой утра, она сама есть лишь проявление утра" (Gedanken über Tod und Unsterblichkeit, собр. соч., т. I, стр. 71. Отрывок этот характерен для стиля и тона всего этого сочинения).
46 Для характеристики этой его аргументации приведем следующий отрывок: "Так же, как желание вечной жизни, желание всеведения и безграничного совершенства есть лишь воображаемое желание, и представляемой в качестве основания этого желания неограниченное стремление к знанию и совершенству, как показывает ежедневная история и опыт, лишь присочинены человеку. Человек хочет не всего, он только хочет знать то, к чему он имеет особую наклонность и предпочтение. Даже человек с универсальным стремлением к знанию, что редко встречается, никоим образом не хочет знать все без различия; он не хочет знать все камни, как минералог по специальности, или все растения, как ботаник; он довольствуется необходимым, потому что это соответствует его общему духу. Также человек хочет не все мочь, но лишь то, к чему он имеет особое стремление, он не стремится к безграничному, неопределенному совершенству, которое осуществляется только в боге и бесконечном Jenseits, но к определенному, ограниченному совершенству, к совершенству в определенной сфере" (Vorlesungen über das Wesen der Religion, 361).
47 Vorlesungen, 360-361.
48 Der Einzige und sein Eigenthum, изд. 1882 г., стр. 220. "Все святое есть узы, оковы".
49 Ibid., 8.
50 Ibid., 60-61.
51 Ibid., 188-189.
*4 Высшее существо (фр.).
52 Ibid., 41.
53 Приведено у Botin. Ludwig Feuerbach", eine Werken und seine Zeitgenossen. Stuttgart, 1881.
54 Вот для примера два суждения Фейербаха по вопросу о божественности индивида, которые разделены между собой расстоянием в две страницы:
""Теологический взгляд" Фейербаха состоит в том, что он "раскалывает нас на существенное и несущественное я" и "вид, человека вообще (den Menschen), абстракцию, идею как наше истинное существо представляет в отличие от действительного индивидуального я как несущественного". "Единственный"! Целиком ли читал ты "Wesen des Christenthums"? Не может быть, ибо что именно является главной темой, зерном этого сочинения? Единственно и исключительно устранение разделения на существенное и несущественное я - обожествление, т. е. утверждение (Position), признание всего человека с головы до пят. Разве в конце не провозглашается открыто божественность индивида как раскрытая тайна религии?.. В этом сочинении Фейербах открывает правду чувственности, лишь в нем он понял абсолютное существо как чувственное существо, а чувственное существо как абсолютное существо". Таким образом, божествен индивид весь с головы до пяток. Немного ниже читаем: "Индивид для Фейербаха есть абсолютное, т. е. истинное, действительное существо. Почему же он не говорит: этот исключительный индивид? Потому что тогда он не знал бы, чего хочет, тогда он возвратился бы к точке зрения религии, которую он отрицает. В том именно и состоит, но крайней мере в данном отношении, существо религии, что она избирает из класса или рода единственный индивид и противопоставляет его в качестве святого и неприкосновенного другим индивидам... Упразднить религию значит поэтому не что иное, как показать тождественность ее освященного предмета или индивида с прочими мирскими индивидами того же рода". Здесь уже отрицается божественность индивида "с головы до пяток", которая установлялась двумя страницами выше.
Еще пример. Мы знаем, что понятие "рода" обычно включает у Фейербаха совокупно? человечество, и в таковом лишь качестве оно является у него объектом религии. Однако в споре со Штирнером он уступает сильному противнику даже и эту основную позицию и дает уже такое определение: "Род обозначает у Фейербаха не абстракцию, но только ты, другого, вообще вне меня существующего человеческого индивида, взятого в противопоставление отдельному, фиксированному для себя самого я. Поэтому если у Фейербаха говорится: индивид ограничен, род безграничен, - то это значит не что иное, как: границы этого индивида не суть также и границы других, границы для современного человека поэтому не суть границы будущих людей". Но, несомненно, не это бессодержательное суждение содержится в основном учении Фейербаха о роде.
55 Der Einzige und sein Eigenthum, 35.
56 Ibid., 143.
57 Ibid., 194.
58 Vorlesungen, 64.
59 За последние годы пришла на него мода в России, где появилось несколько переводов "Единственного и его собственности".
60 Ср. обстоятельный очерк г. В. Саводника "Ницшеанец 40-х годов. Макс Штирнер и его философия эгоизма". Москва, 1902 г.
61 "Идея сверхчеловека", собр. соч., т. VIII, 312.
62 Engels. L. Feuerbach etc., 26-35. В сороковых годах Энгельс был непритязательным и наивным фейербахианцем, и никакой существенной перемены в его философском мировоззрении с ним не произошло. В статье "Die Lage Englands" (Aus dem litterarischem Nachlass von K. Marx, F. Engels und Ferdinand Lassalle, erster Band, 486-487) он говорит: "Безбожие нашего века, на которое так жалуется Карлейль, есть именно его религиозная полнота (в подлиннике игра слов: Gottlosigkeit и Gotterfülltheft). До сих пор существовал вопрос: что такое бог? и немецкая философия решила вопрос так: бог есть человек. Человеку нужно лично познать самого себя; мерить все жизненные условия сообразно себе самому, оценивая их, преобразовывать мир действительно по-человечески, сообразно требованиям своей натуры. Не в потусторонних, несуществующих областях, не вне пространства и времени, не у "бога", живущего в мире или потустороннего, нужно искать истины, но много ближе, в собственной груди человека. Собственное существо человека много возвышеннее и величественнее, чем воображаемое существо всех возможных богов, которые суть только более или менее смутные и искаженные отражения самих людей".
63 Wesen des Christenthums, 238.
*5 Я (а не "человек") есмь бог (лат.).
64 Ср. очерк: "К. Маркс как религиозный тип".
*6 От противного (лат.).
*7 Номинальная причина (нем.).
65 Не всем известно, что эти стихи Гете представляют перифраз изречения Плотина (Эннеады, I, 6, 9). Известный спор на тему об антропоморфизме представлений, о Боге вел с Эшенмейером Шеллинг. (См. об этом у К. Фишер. Ист. нов. фил., т. VII, стр. 718, 720.)
*8 Не будь глаз солнцезрачным, не мог бы он видеть солнца. Не живи в нас Божья сила, как могло бы нас восхищать божественное? (нем.)
66 Кроме этой альтернативы, что или бог существует, или есть лишь продукт фантазии, оказывается, возможна еще и третья, согласно которой бога еще нет, но он будет создан человечеством. Это философское изобретение, представляющее собой, на наш взгляд, самую безбожную и нечестивую выдумку всего XIX века, принадлежит эстетическому скептику и умственному гастроному Эрнесту Ренану. Читайте в его "Философских диалогах" следующий обмен мнений:
"Евтифрон. Вы думаете, значит, как Гегель (??!!), что бога нет, но он будет?
Теофраст. Не вполне. Идеал существует: он вечен; но он еще не вполне осуществлен материально, но когда-нибудь будет осуществлен сознанием, аналогичным сознанию человечества, но бесконечно высшим, которое по сравнению с нашим теперешним сознанием, столь ужасным, столь темным, покажется совершенной паровой машиной рядом со старой машиной de Marly. Универсальная задача всего живущего - создать совершенного бога (de faire Dieu parfait), содействовать великому окончательному результату, который заключит круг вещей в единстве. Разум, который до сих пор не принимал никакого участия в этой работе, совершавшейся слепо, при посредстве темного стремления всего существующего, разум, говорю я, заберет когда-нибудь в руки руководство этим великим трудом и, организовав человечество, организует бога (organisèra le Dieu, даже с большой буквы!)" (Renan. Dialogues et fragments philosophiques, 4-me éd. Paris, 1895. Диалог "Probabilités", стр. 78-79. Курсив мой). К удивлению, эти идеи последние годы нашли себе отголосок и на русской почве среди разочарованных марксистов.
*9 Познай самого себя (греч.).
*10 Я человек и ничто человеческое мне не чуждо (лат.).
*11 Все горе человечества охватывает меня (нем.).
*12 Руководительные духи (нем.).
Прот. Сергий Булгаков
Религия человекобожества у Л.Фейербаха
VII
"Религия есть отношение человека к своей собственной сущности - в этом заключается ее правда и ее нравственная благодетельная сила, - но к своей сущности не как к своей собственной, но как к другой, отличной от нее, даже противоположной сущности, - в этом состоит ее неправда, ее границы, ее противоречие с разумом и нравственностью"<<63>>.
Задачей главного сочинения Фейербаха "Wesen des Christenthums" и является не что иное, как именно опровержение неистинной, т. е. теологической, сущности религии при помощи выяснения истинной, т. е. антропологической, сущности религии - так и озаглавливаются два отдела, на которые распадается это сочинение.
Попытка Фейербаха сводится, другими словами, к тому, чтобы религию богочеловечества, основывающуюся на вере в Богочеловека, освободить от этой опоры и превратить просто в религию человечества, в то же время ничем не обедняя ее, а только снимая с нее теологический катаракт. Фейербах убежден при этом, что предпринимаемая им операция, действительно, вполне выполнима и не наносит никакого существенного ущерба, и религия человечества, лишенная всякой теологической опоры, будет держаться лучше, чем при ее помощи. С добросовестностью и талантом Фейербах старательно убирает отовсюду эти подпоры, сознательно и последовательно производя огромной, можно сказать, роковой важности философский эксперимент. Он берет на себя задачу религиозного пророка, творца новой религии. Стало быть, вот решительный и роковой вопрос: держится ли лишенное прежнего фундамента здание, не давая трещины, или же оно превратилось лишь в груду обломков? И то "существо" (Wesen) религии, с которым Фейербах производит свою операцию, живо ли оно и жизненно или уже давно мертво и только труп его сохраняет еще былые черты живого лица, искривленные и обезображенные смертью? И новый бог, которому молится Фейербах, бог ли это, или мертвый идол, или, что еще хуже, оракул, за которого вещает жрец, не пророк уже, а самозванец?
Ввиду такого, так сказать, хирургического происхождения учения Фейербаха, которое сохраняет все-таки неразрывную связь с им отрицаемым или, вернее, исправляемым христианством, и общее наше отношение к нему, естественно, двойственное. Его нельзя принять, но нельзя целиком и отвергнуть. Оно содержит в себе величайшие и важнейшие истины, но взятые в такой односторонности и отвлеченности, что благодаря этому они превращаются в столь же великие заблуждения. Те утверждения, которые Фейербах удерживает из отвергнутого им христианства, истинны, но, принимая эти производные истины, он отрицает в то же время гораздо более важные истины, их обосновывающие, и получается странная смесь уродливостей, противоречий и парадоксов, лабиринт, в котором нужно искать пути.
Две великие и важные истины высказаны с огромным ударением и энергией в учении Фейербаха: первая, что человек и человечество имеют безусловное религиозное значение, иначе, что человек для человека или человечество для индивида есть и должно быть религиозной святыней, пользуясь выражением Фейербаха, быть земным богом, как бы абсолютом; вторая истина состоит в том, что человечество есть единое целое, в котором индивиды суть только отдельные части, вне его теряющие всякий смысл и всякое значение, и это единство есть не абстракция, существует не в отвлечении только, но вполне реально, человечество есть живой и собирательный организм.
Обе эти истины о высшем достоинстве человеческого рода и об его реальном единстве, органически связанные между собою, представляют собой положительную часть учения Фейербаха, отрицательная же сторона его состоит в том, что он ставит их в непосредственную связь, стремится их представить в качестве необходимых выводов из философии атеизма и этим подрывает в основе оба учения. Полагая сущность своего мировоззрения в атеизме, Фейербах подрывает и свой гуманизм, ведет непрерывную борьбу с собой, раздирается непримиримыми противоречиями. Присмотримся к этой поучительной борьбе.
Начнем с первого тезиса, о религиозном значении человечества. На языке Фейербаха он формулируется не в том значении, что человек божествен только в смысле своих потенциальных способностей и конечного предназначения, но в совершенно обратном: нет Бога, а следовательно, человек человеку - бог, т. е. формулируется в качестве вывода из атеизма, как его синоним или вогнутая сторона рельефа.
Но антропотеизм в качестве вывода из атеизма содержит в себе внутреннее противоречие, ибо относительно частностей утверждает то, что отрицает в общем и целом, именно, уничтожая Бога, стремится сохранить божественное, святыню. Внутренняя и необходимая диалектика атеизма ведет поэтому от антропотеизма к религиозному нигилизму, к отрицанию всякой святыни, всякой ценности или, что то же, к возведению факта, потому только, что он - факт, в ранг высшей ценности, к приданию религиозного значения факту как таковому. Эту диалектику атеизм совершил при жизни Фейербаха в учении Штирнера, проповедника нигилизма, аморализма и "эгоизма", "сокрушителя святынь" (Entheiliger). Мы уже познакомились с этим знаменательным эпизодом истории мысли и знаем, что победителем в этом столкновении двух мыслителей нужно считать не Фейербаха, а Штирнера. Для последовательного и искреннего атеиста, не оставляющего для практического обихода старых религиозных верований, нет спасения от мертвящего нигилизма, от убийственной пустоты полного одиночества, и не одиночества в пустыне или тюремном заключении, но одиночества среди людей, отъединения от них.
И, действительно, если отвергнута и объявлена несуществующей высшая, абсолютная ценность, источник всяких ценностей производных, то какая же существует логическая, да и нравственная, возможность утвердиться на ценности относительной, производной, которая, как луна, отражает свет от солнца и гаснет вместе с последним? Ведь человечество, рассматриваемое в порядке натуральном, а не религиозном, есть все-таки только факт внешнего мира, факт биологии, истории, социологии и т. д., в этом качестве принципиально не отличающийся от других фактов или объектов внешнего мира, какими являются, напр., камень или гора или этот стол. Между фактами этими существует, конечно, огромное качественное различие, но не принципиальное, не по ценности или рангу. Обожествление факта, т. е. приписывание факту, производному и относительному, значения абсолютной ценности, предиката божественности, есть поклонение кумиру, на обычном языке называемое идолопоклонством. И если предки наши и современные дикари поклоняются как божеству предметам мира физического, - камню, животному, светилам небесным, то Фейербах таковым же образом предлагает поклоняться человечеству, совокупности особей homo sapiens. И если современный человек, войдя в кумирню, не найдет там ничего, кроме безобразных кукол и фигур, то и в кумирне Фейербаха настоящий атеист найдет тоже только кумиры, хотя и отвлеченного характера, и - посмеется над ними. Снявши голову, по волосам не тужат, мог бы сказать Штирнер благочестивому атеисту Фейербаху, - отвергнув абсолют, нужно оставить и благочестие, не пытаться сохранить все его атрибуты, приписав их существу заведомо неабсолютному. Противоречие неисходное, нечего даже на этом особенно настаивать. Прав Штирнер: атеизм и нигилизм, в какую бы они форму ни облекались, - синонимы. Или есть надо мною Высшее, пред Которым я простираюсь ниц, или я выше себя и над собой ничего не знаю, и ego (a не homo) deus sum.<<*5>>
Понятно и естественно идолопоклонство в эпохи темного и наивного сознания человечества, тем более, что тогда идолопоклонство и не являлось вовсе атеизмом, и идолы имели значение действительно священных изображений. Но трудно положение мыслителя XIX века, вышедшего от Гегеля, утратившего, следовательно, всякую наивность и непосредственность и принужденного, в силу внутренней душевной необходимости, сотворить себе заведомый кумир, проповедовать его божественность и молиться ему, причем этот кумир не какое-нибудь недосягаемое светило или неведомое существо, но мы сами, мы и наши друзья, жены и дети, их знакомые, знакомые их знакомых, наши предки и наши потомки, т. е. человечество. Такой человек должен переживать постоянную трагедию, терзаться жгучим противоречием, томиться от внутреннего беспокойства, и вот одна из причин, почему Фейербах никогда не мог остановиться на окончательной формулировке своего учения; всю жизнь он его перерабатывал, часто только повторяя другими словами старые мысли и как бы звуком новых слов стремясь заглушить внутренние сомнения. В этом беспокойстве - весь Фейербах, его лучшая благороднейшая сущность, и удивительно, если за маской догматического, воинствующего атеизма просматривают это борение и это беспокойство.
Человек есть святыня, и человечество священно, оно имеет абсолютное религиозное предназначение. Это глубоко почувствовал Фейербах. В особенную заслугу - не логики, но его человеческого чутья - ему надо вменить то, что он заговорил именно о религии человечества, что при всем своем атеизме он не отрицал, но проповедовал религию. Этим он становится десятью головами выше тех, которые стремятся упразднить не только ту или иную форму религии, но и религиозное обожание вообще, а в то же время с высокомерной гримасой отворачиваются от настоящего сокрушителя святынь Штирнера. Везде, где есть абсолютные ценности, предмет преклонения, святыня, в чем бы она ни состояла - в абстрактной идее человечества или в букве Эрфуртской программы, - есть религия, и мало чести проницательности Энгельса и Маркса делает то, что, удерживая философию Фейербаха, они старательно - в атеистическом и материалистическом своем фанатизме - устраняют его религию<<64>>. И, конечно, единственно мыслимой формой атеистической религии остается религия человечества, обожание человека, как его проповедовал Фейербах.
Или Бог или человек - такова альтернатива Фейербаха. Между тем на самом деле здесь не только нет противоположения, или - или, но оба эти понятия неразрывно связаны между собою, фактически объединяясь в понятии богочеловечества. Вера в Бога есть вера и в человека, и без этой веры человек превращается в странную, полную непонятных противоречий двуногую тварь. Но отъединить эти веры одна от другой невозможно, и всякая попытка дать религию человечества без Бога есть лишний аргумент a contrario<<*6>> в пользу этой истины, подобную же попытку мы имеем и у Фейербаха.
Человек и человечество есть высшее откровение Божества, ради которого создан этот мир, которое является посредствующим между Творцом и творением, душой мира. Только человек имеет способность свободного и сознательного усвоения божественного содержания, только в нем абсолютное находит свое другое, свой образ и свое подобие. В силу этого человечество и обладает потенцией бесконечного развития, способностью к истинному прогрессу, ведущему к действительному перерастанию самого себя, не к одним только пустым и напыщенным претензиям на сверхчеловечество. Рост человечества от темной тварной стихии до светлого богообщения и богопознания, от зверечеловечества к богочеловечеству и наполняет собой исторический процесс. Для этого процесса одинаково необходима и свободная человеческая стихия, активно усвояющая открывающееся божественное содержание, и необходимо это откровение Божества, многочастное и многообразное. Божество, неизменное и абсолютное, имеет в человечестве свой образ, свое другое, усвояющее это абсолютное содержание в историческом процессе, человечество есть в этом смысле становящееся абсолютное. Очевидно, что возможность откровения абсолютного, возможность богочеловеческого процесса, предполагает в человеке известные способности, известное духовное сродство, "образ и подобие" абсолютного. Если мы устраним это предположение и станем на почву деизма, сводящего божество, по прекрасному выражению Фейербаха, к роли Titularursache,<<*7>> то мы отвергнем всякую возможность богопознания и богооткровения. Относительно такого бога нельзя даже сказать: он есть, ибо для божества быть значит открываться, животворить. Бог же неживотворящий есть contradictio in adjecto. Поэтому деизм, признание Бога an und für sich вне всякого отношения к человеку есть только вежливая форма атеизма. Как люди, мы способны лишь к человеческому познанию, на человеческом же языке быть - значит проявлять свое существование, и положение, что вообще Бог есть, но нет Его для человека, есть нелепое противоречие. Поэтому деизм в силу неизбежной диалектики переходит в атеизм, и теоретически и исторически (в эпоху Просвещения).
Против этого возражают обыкновенно ссылкой на антропоморфизм таких представлений о Божестве, будто бы недостойный и грубый. Но упреки в антропоморфизме основываются на чистом недоразумении (если они не касаются, конечно, действительно грубых представлений о Боге, в которых божеству приписываются наши недостатки, слабости, земные свойства и т. д.). То, что называется при этом антропоморфизмом, есть на самом деле единственно возможное и доступное для человека, человеческое познание о Боге. Утверждая Его бытие, мы утверждаем вместе с тем, по крайней мере, хотя некоторую Его познаваемость для себя, а следовательно, приписываем себе и орган этого познания, способность к такому познанию. Но познание есть акт глубоко интимный, основанный только на внутреннем сродстве. Мы признаем, следовательно, божественность и своей собственной природы, т. е. образ и подобие Божие в себе. Давно уже указано великим поэтом, повторившим здесь не менее великого философа<<65>>, что мы не знали бы солнца, если бы наш глаз не имел в себе чего-то солнечного.
Wär'nicht das Auge sonnenhaft
Die Sonne könnt' es nie erblicken,
Lebt' nicht in uns die Götteskraft
Wie könnt' uns Göttliches entzücken? <<*8>>
Поэтому обвинения в антропоморфизме совершенно справедливы постольку, поскольку они отмечают ту истину, что бытие Божие неизбежно есть и откровение Божие, а потому Абсолютное Сущее предполагает и Абсолютное Становящееся. Если есть Бог, то, значит, божествен и человек, божественное происхождение и божественное предназначение имеют и его духовные силы. Таким образом, то, что обычно называется религиозным антропоморфизмом, т. е. признание божественного достоинства и образа и за человеком, нисколько не служит аргументом в пользу атеизма, в качестве какового пользуется им, между прочим, и Фейербах. Фейербах старается доказать, что человек создает бога по своему образу и подобию, как объективные, опредмеченные желания своего сердца, как мечту<<66>>. Он выворачивает утверждение, что человек имеет образ и подобие Божие, в том смысле, что Бог имеет образ и подобие человеческое. Но этим нисколько не решается вопрос, человек ли создал Бога как продукт своей фантазии, или человек создан Богом и постоянно сознает и чувствует свое богоподобие. Метафизически-религиозный вопрос этим указанием Фейербаха, которое он принимает за сильнейший аргумент в пользу атеизма, даже считает разоблачением тайны религии и поворотным пунктом истории, не только не разрешается, но в сущности и не ставится. Фейербах в "Сущности христианства" и Вл. Соловьев в "Чтениях о богочеловечестве" (а раньше его Шеллинг) весьма близко подходят друг к другу, поскольку дело идет об установлении богоподобия человека, но затем расходятся из этой общей точки в диаметрально противоположные стороны. Вообще эти сочинения имеют какое-то странное сходство и близость при величайшем контрасте, ибо оба они, при всей бездне, разделяющей их, характеризуются в сущности своей ответом на один основной и вечный вопрос, именно вопрос: что думаете вы о Сыне человеческом? И в ответе на него заключается ответ и на другой вопрос: что думаете вы о человеке и о себе самих? Недаром же Фейербах первоначально проектировал в заглавии своего сочинения выставить призыв к самосознанию: Γγωθι σεαυτόν<<*9>>.
Итак, антропологию Фейербаха, которую он считал самым победоносным и неотразимым орудием в арсенале атеизма, мы таковым совершенно не считаем, и она никоим образом не уполномочивает его к тем религиозно-метафизическим выводам в пользу атеизма, какие он сам из нее делал. Те данные религиозной психологии, которые были отмечены Фейербахом, укладываются и в противоположное мировоззрение; это, впрочем, не раз уже указывалось. Отвергнув Бога, Абсолютное Сущее, Фейербах должен был признать богом абсолютное становящееся, человечество обожествляющееся. Становление приравнено было законченному бытию и обожествляемость - обожествленности. Абсолютное в процессе, слагающемся из смешения абсолютного и условного, вечного и преходящего, было объявлено единственным и окончательным. Отсюда все дальнейшие трудности, весь трагизм положения Фейербаха. Отныне он обречен на то, чтобы собирать лучи, проникающие сверху в темную стихию, и при помощи этих лучей освещать и то, что остается неосвещенным.
Основной факт духовной природы человека - ее противоречивость. Человек - это живое противоречие и, в этом качестве, живая загадка. Небо и ад обитают в человеческой душе, тысячу раз было это сказано. Человек тянется одновременно вверх и вниз, раздирается борьбой различных и противоположных начал, которой и движется человеческая история. Эти непримиримые противоречия в человеке и не позволяют принять его в качестве абсолюта, каким признает его Фейербах. Для этого нужно стать на точку зрения полного нравственного безначалия, филистерского примирения со всем и со всеми, но при таком настроении вообще потребности в нахождении абсолютов не испытывается. В этом случае человечество обожествляется не за то, что оно собой представляет, но просто за то, что оно существует. Истинный глубокий демократизм подменивается своей противоположностью - демагогизмом, исключающим какие бы то ни было высшие критерии над толпой и ее суждением, и этой обманчивой видимостью воззрению этому придается особая популярность.
Божество - толпа, титан - толпа!
- как восклицает Надсон в одном из наиболее головных и фальшивых своих стихотворений. Эта сторона воззрений Фейербаха была особенно легко воспринята современностью, и идолопоклонство толпе, демагогизм, представляющий собой противоположность истинного сознательного демократизма, есть самая популярная форма современного атеизма, и лишь Ницше последнее время посягнул на этот кумир.
В демократии, как и во всех человеческих делах, возможны два аспекта, два пути, два направления: вверх и вниз. Вверх ведет сознание солидарности, высшего единства вселенского человечества и общности богочеловеческого дела, в котором, хотя "звезда от звезды и разнствует во славе" и есть рядовые и офицеры, есть чернорабочие и герои, но все они нужны и одинаково незаменимы для универсального всечеловеческого и богочеловеческого дела, создания царствия Божия, совместного служения высшему идеалу. Этому противоположна тенденция нивелирования, сведения под один ранжир, признания за правомерное только того, что в равной мере доступно и разделяется всеми, бессознательного стремления к приведению всего не к высшему, а к низшему уровню. Это отношение к массе - некритическое и даже не допускающее критики преклонение пред большинством, не только в том, в чем оно всецело компетентно, т. е. в том, что касается его материальных нужд и интересов, но и вопросов духа, - является в настоящее время весьма широко распространенным и обычно принимается за демократизм. Отсутствие высших масштабов, следствие атеизма, привело к тому, что масштаб качества заменяется масштабом количества, и в этом философском грехопадении повинен был и Фейербах. Эта тенденция представляет собой язву современной культуры и есть прямой результат не ее демократизма, с которым вовсе не связано обожествление толпы, но ее атеизма. Формулу Фейербаха: человечество есть бог и абсолют, - современность практически осуществляет сплошь и рядом в слепом поклонении толпе, обожествлении массы, и больше всего грешит этим прямая наследница Фейербаха - германская социал-демократия.
Погасив светоч и опустив острие разделяющего меча, Фейербах оказывается вынужденным вместо религии человечества проповедовать культ посредственности, как нравственной, так и умственной. Вы помните его чудовищное, абсурдное учение о том, каким образом установляется нравственное совершенство рода, принадлежащее ему по сравнению с индивидом: разные индивиды и добродетельны и порочны по-разному, и если взять алгебраическую сумму, то плюсы сократятся на минусы и получится образ совершенной добродетели - род, который и составляет в таком качестве и "предметную совесть" для индивида. Мы считаем эту концепцию совершенно явной нелепостью, одинаково возмущающей и ум и совесть. Ее можно не критиковать, но лишь объяснять. И самое поучительное при этом то, что Фейербах унизился до этого позорного учения не по какой-либо частной ошибке или случайному затемнению, но невольно, может быть, против воли, в борьбе с собой: иначе ему некуда было бы податься, и с честной последовательностью и смелостью мысли, его отличающей, он идет напролом, навстречу абсурду, выдает секреты, "тайну" своего атеизма, которую, может быть, было бы расчетливее и не выдвигать, а оставить в тени. Пусть кому-нибудь в мучительные, роковые минуты душевного упадка, уныния и отчаяния, когда опускаются руки, тускнеет вера в человека, в человеческий подвиг, красоту человеческой души, пусть Чехову, отравившемуся "серыми людьми", приведут на мысль это удивительное соображение, что "серые люди", рассматриваемые порознь, конечно, не первый сорт, но они "серы" на разный манер, и если взять в сумме все их оттенки, то из них получится пунцовый и ярко-фиолетовый цвет, получится герой. Найдется ли источник бодрости и веры в этом убеждении, прояснится ли отуманившийся взор, или же вернее освежит унывающего воспоминание или рассказ об одном каком-нибудь действительно хорошем поступке одного какого-нибудь отдельного человека, может быть, чистая улыбка ребенка, я не говорю уже о мысли о том Праведнике, "Едином Безгрешном", Который тоже носил человеческую плоть и скорбел человеческим скорбями. Как бы то ни было, но можно ручаться, что эта фейербаховщина будет в такую минуту просто отвратительна.
Такая же безвыходность почувствована была Фейербахом, когда он задался вопросом о природе истины. Бесспорно, что единая истина открывается только совокупному человечеству в историческом его развитии, причем и здесь различным индивидам распределяются разные, роли: одним дано быть пионерами, уходить далеко вперед, оставаясь непонятными своим современникам, другим суждено сразу находить отзвук и понимание, одним дано быть творцами, другим - более или менее пассивными усвоителями и хранителями приобретенного не ими. Справедливо во всяком случае, что истина познается сообща человеческим родом, здесь существует естественный и неустранимый коммунизм.
Но для Фейербаха мало было этой очевидной и бесспорной истины. Ему нужно было признать, что истина не только познается сообща, но и создается сообща. Признать сущую истину, существующую ранее всякого человеческого познания, значит уже признать Бога, - ибо истина есть одно из необходимых определений божества, - значит признать, что познавание по существу своему есть откровение, хотя и обусловленное активной самодеятельностью человечества. Верный своему атеизму, ничего этого Фейербах, конечно, не мог признать и оказался опять-таки вынужденным поддерживать явную нелепицу (хотя бы ее теперь разделяли даже такие острые, но с чрезмерным пристрастием к парадоксии умы, как Зиммель), что "истина есть сознание рода". Однако применение критерия количественного большинства, культ посредственности в данном случае связаны с явными неудобствами, еще большими, чем в предыдущем, поэтому Фейербах немедленно и делает решительное отступление от своего принципа, заявляя, что отдельный человек может быть представителем целого рода и в таком качестве с родом и не соглашаться. Очевидно, что это ограничение совершенно уничтожает самое, правило, и Фейербах только напрасно делал попытку его установить.
Итак, вот к чему привела великая и важная истина о религиозном достоинстве и назначении человечества, после того как Фейербах превратил ее в отвлеченное начало и, не желая признать Высшего Содержания, обожествил внешнюю форму, в которой Оно открывается, - не источник света и жизни, но темные и мертвые стихии. Фейербах явил собой типичный образ философского идолопоклонника.
VIII
Второй истиной величайшей важности, положенной в основание гуманизма или антропотеизма Фейербаха, является мысль, что человечество едино и что род, целое, существует первее индивида и представляет собой реальное существо. Эта мысль составляет Leitmotiv всей философии Фейербаха (как и его единомышленника и современника Ог. Конта). Он констатирует связь индивида с родом, человека с человечеством не в смысле только причинной зависимости, которая связывает нас и с внешней природой, но придавая этому факту принципиальное, религиозное значение. Род есть божество, которым святится каждый член его, каждый индивид. Фейербах удивительно близко и здесь подходит к сущности христианства и величайших истин его. Человечество признает себя солидарным и чувствует себя единым, - вот чудесный и загадочный факт, лежащий на самом дне человеческого сознания. Речь идет, повторяем, не о внешней причинной зависимости, но о гораздо большем. Конечно, причинная связь поколения с поколением лежит на поверхности и не может не броситься в глаза. Поколение от поколения находится в такой же точно объективной зависимости, в какой род земледелия - от климата и почвы, окраска кожи - от солнца и т. д. Но из этого факта причинной зависимости никак еще нельзя выжать этой общечеловеческой солидарности, о которой идет речь, ибо эта последняя содержит в себе нечто гораздо большее, чем причинную связь. В ней утверждается нравственная солидарность и единство человеческого рода, общая совесть, общее достоинство, общие задачи и идеалы. Мы живем и действуем не как индивиды А, В, С и не как механическая совокупность или сумма А + В + С, но как члены или элементы целого ABC, существующего прежде и независимо и от А, и от В, и от С и дающего им определенное качество. Мы говорим: homo sum et nihil humani a me alienum esse puto<<*10>>, и это заявление одинаково понятно на всех языках и во всех странах. Мы обладаем способностью гордиться и стыдиться за человека, т. е. чувствовать от имени человечества. Мы испытываем удовлетворение за человека, наблюдая творческий полет человеческого гения и красоту человеческого подвига, и нам стыдно и больно - опять-таки за человека, - когда мы останавливаемся мыслью на падениях человечества. "Der Menschheit ganzer Jammer fasst mich an"<<*11>>, - говорит Фауст, входя в темницу, где томится Маргарита, и воспринимая страдания покинутой им девушки опять-таки как скорбь всего человечества. И чем возвышеннее дух и тоньше сознание, тем острее сознается эта человеческая солидарность, тем глубже страдание и скорбь за людей, тем внятнее говорит голос не индивидуальной только, но общечеловеческой совести. Пороки и грех человечества принадлежат ему как целому; не может освободиться от греха один человек за свой собственный счет, пока коснеет во зле и неправде все человечество, и не может пасть один индивид, не вовлекая за собой в бездну и своих собратьев. Так становится все более понятным учение о первородном грехе всего человечества, которым все человечество могло согрешить в одном человеке.
Это сознание, этот первичный и элементарный факт совести, не поддается никакому рациональному, точнее, рационалистическому объяснению. Рационалистически понятно (если только еще понятно), почему я чувствую себя виновным за свои собственные поступки и их непосредственные результаты. Но когда я чувствую себя виновным в тех случаях, если этой связи не существует для видимого глаза (напр., как в рассказе Чехова за смерть безвестного самоубийцы, - "По делам службы"), или же если вина вообще безмерно превышает индивидуальную ответственность - ведь почему-то я чувствую себя виновным и в русско-японской войне, и в Цусимской катастрофе, - то приходится поневоле признать, что, кроме личной ответственности индивида за свои индивидуальные поступки, есть еще родовая совесть, родовое чувствилище, не выдуманное, а реальное общечеловеческое сознание, живущее во всяком индивиде. Его голос может быть более или менее внятен, иногда и даже часто совсем заглушен, но он есть, этот загадочный, таинственный голос, и говорит он: все за всех и во всем виноваты, человечество едино и солидарно, и нет в этом едином я живом целом возможности провести границу, где кончается вина одного или другого. Эта величайшая и глубочайшая истина христианства в новое время в русской литературе сознана больше всего Достоевским, сделавшимся настоящим ее проповедником (очень выдвигается она и в современном теософическом движении, и в учении о карме). Легко придать этому чувству даже некоторое рационалистическое подтверждение, указав на причинную связь всего сущего и на значение каждого самомалейшего индивидуального поступка для всей вселенной. Но это теоретическое положение само по себе не способно породить такого живого, реального чувства общечеловеческой солидарности, живой гордости и живого стыда и раскаяния за человечество. Это живое чувство не может корениться только в абстракции, в отвлеченной мысли, оно связано, очевидно, с нашей жизнью, с подлинным нашим существом, хотя и не с той его стороной, которая обнажена и лежит на поверхности сознания, где царит разъединение, чувство индивидуальности, особности от всего. Оно связано с той стороной, которая обращена к подземным мистическим корням сущего, где индивид реально соединяется с единым человечеством, с мировой душой, и загадочное, мистическое переживание общечеловеческой солидарности есть голос, доносящийся на поверхность из глубины.
Реальным мистическим единством человечества необходимо предполагается и живой, реальный, индивидуальный, а не абстрактный центр этого единства, его воссоединяющий и превращающий человечество в живой духовный организм. Этот центр есть Христос, неразрывно связавший Себя с человечеством, Богочеловек, воссоединяющий человечество с Божеством. Будучи таким живым и реальным центром человечества, Он мог принять на себя его вины и его грехи, и Его очистительная жертва. Его подвиг имели и могли иметь реальное значение для всего человечества, неразрывно с Ним связанного. И до тех пор, пока продолжается греховная жизнь еще не преображенного, хотя и искупленного уже человечества, мы, даже не веря во Христа, но тем не менее находясь в реальной связи с Ним, чувствуем боль, Ему причиняемую в Его человечестве, и это чувство есть общечеловеческая совесть. И, не веря во Христа, но чувствуя в себе реальное общечеловеческое единство, мы все же стараемся удержать в себе это чувство, сознавая его в себе как нечто высшее, как святыню. В этом заключается и объяснение печального парадокса, что Фейербах, противник христианства, проповедует его основную истину: единство, солидарность человечества, но единство без единящего центра, святость без святящей основы.
Но и здесь, как и в других случаях, он обречен на борьбу с собой, на погоню за убегающим призраком. Единство человечества - не абстрактное, а реальное, существенное - он хочет опереть исключительно на эмпирической действительности, но почва эта постоянно уходит у него из-под ног, ибо в эмпирическом своем существовании человечество не едино, единство существует здесь для него только как задача, точнее, как норма или идеал, никогда целиком не переходящий в действительность и не осуществляющийся в ней. Нет единого человечества, а потому нет и истории человечества, цивилизации человечества, прогресса человечества и т. д., это все абстракции и условности; на самом же деле есть лишь отдельные эпохи, отдельные поколения, отдельные сословия и классы, наконец, лица, а человечество в его целом ускользает из рук, как призрак, как только мы пытаемся его схватить. Из всей сферической поверхности, которой можно в данном случае уподобить человеческий род, для нас освещены и находятся в поле нашего зрения лишь несколько точек, а вся огромная сфера сверху и внизу окутана мраком. Прошлые поколения, с их мучительной и неблагодарной работой, к которой мы, стоя на их плечах, относимся, однако, по большей части с высокомерным и снисходительным, презрением, оставили нам одни кладбища, полные мертвецов, и с ними нас не может связывать благодарная память и живое чувство сердечной связи. Идея почитания умерших, непосредственно связанная с идеей бессмертия души и грядущего воскресения, не вмещается в позитивном сознании. Они были, а теперь нет, ничего не осталось от их страданий, сердечных мук, борений и отчаяний. Эти люди унавозили собой будущую гармонию, поработали для нас, и пусть в мире гниют их кости. Я ведь не клевещу и не карикатурю, ведь, действительно, для позитивизма нет и не может быть иного отношения к прошлому человечеству, - абстракцию и призрак былого любить нельзя, и усиливающийся научный исторический интерес, касающийся, впрочем, больше учреждений, чем людей, имеет в значительной степени характер любознательности и пристрастия к разным раритетам, чисто головной пытливости, а не сердечного участия. Ведь теперь современный экономист может в одном сочинении, одним, можно сказать, духом доказывать, что современная капиталистическая цивилизация основана на истреблении целых племен, разграблении целых культур, тонет в крови, и тут же одним духом хвастливо и самодовольно принимается перечислять все ее удовольствия и прелести с беззаботностью... цинизма. Нет, не нужно лукавить: современное человечество рассматривается как цель, а все предыдущие поколения суть только средства для него.
Но ведь и будущие поколения представляют собой тоже туманность, в которой глаз не различает ничего определенного. Можно предположить, что и они будут с таким же равнодушным презрением относиться к прошлому человечеству, как и мы, и нас будут рассматривать в качестве исторического навоза так же точно, как и мы рассматриваем своих предков. Оно "перепрыгнет" благополучно (если верить современным пророкам) из царства необходимости в царство свободы и будет, оглядываясь назад, вспоминать о нем с таким же презрительным ужасом, с каким мы вспоминаем времена инквизиции. И тогда будет тоже только одна освещенная точка, которая переместится в иное место, но по-прежнему будет окружена тьмою вверху и тьмою внизу.
Величайшая ложь позитивизма вообще и фейербаховского в частности заключается поэтому в его утверждении, что человек смертен, конечен и ограничен, человечество же бессмертно и способно к безграничному усовершенствованию. При позитивистическом понимании человеческой жизни, т. е. при ограничении человеческого бытия только данными эмпирическими условиями, человечества нет, это есть лишь абстракция, лишь алгебраическая формула. Штирнер, тоже эмпирик и позитивист, но более последовательный, тысячу раз был прав против Фейербаха, когда говорил ему, что он раздвояет человека на действительное и абстрактное существо, и что род есть абстракция. Фейербах указывал ему в возражении, что и "единственному" нужны жена и дети, вообще современники. Пусть так, но ведь современники не составляют собой человечества, рода как целого, они суть только освещенная точка сферы, а целого нет и не может быть. Человечества нет, его призрак бессильно валится пред великой уравнительницей смертью и рассыпается на отдельные поколения, чередующиеся, как волны, и, как волны, взаимно чуждые. Таким образом, реальное наполнение формулы Фейербаха homo homini deus может быть только таково: бог для меня - мои современники, мои друзья, враги, знакомые и незнакомые. Можно поздравить с таким божеством и с такой религией.
Не помогут и ссылки на то, что все человечество находится в объективной исторической связи, объединяющей его в одно целое. Пусть так. Пусть будет доказано, напр., что чрез посредство Библии я нахожусь в непосредственной связи с идеями древнего Вавилона. Но, во-первых, в подобной причинной связи я нахожусь со всем окружающим меня физическим миром, мое благосостояние неразрывно связано, напр., с правильным действием закона тяготения; физически меня связывает прямая преемственность со всем органическим миром, с птеродактилями, с гориллами и с лягушками, может быть, прочнее еще, чем с вавилонянами. Во-вторых же, и главное, ссылка эта ничего не говорит, ибо речь идет не об объективной причинной связи, установляемой наукой, а о живом чувстве сознания этой связи, о том сердечном признании, нужном для религии или даже просто для чувства солидарности, которым только и живо единое человечество.
Следует поэтому отвергнуть, как эвфемизм, как фальшивую монету, понятие: общечеловеческий прогресс, общечеловеческая цивилизация, правильнее говорить о цивилизации будущих поколений, об их благополучии и счастии, но не употреблять часть вместо целого и эти поколения - мы не знаем ни того, сколько их будет, ни того, каковы они будут, - не называть человечеством. Современный позитивизм все словоупотребление и, отчасти, даже круг идей заимствовал у христианства, не замечая, что все это, отсеченное от живого ствола, мертвеет и вянет, превращается в пустой звук. Понятие единого человечества содержит непримиримую антиномию: с одной стороны, сознание этого единства дано нам в непосредственном чувстве и является естественным и неизбежным постулатом, нормой наших действий, мыслей и чувств; с другой же, это единство безжалостно уничтожается смертью, которая внутреннее единство превращает во внешнее чередование поколений, а сознание связи и солидарности - в наследственные традиции истории, в исторический процесс. Единственный выход из противоречия, разрешение антиномии возможно только в том случае, если признать, что история не есть окончательная форма жизни человечества и что результаты совокупной деятельности и трудов всего человечества имеют значение, действительно, для всего человечества. Но это воззрение возможно только при принятии христианской веры в "будущий век" и всеобщее воскресение, с которым только и может быть связана вера в прогресс, в историческое творчество человечества, а не отдельных чередующихся поколений. Иначе оно превращается в бессмыслицу, в воплощенную иронию: неужели же нужны были многовековые страдания всего человечества, чтобы доставить благополучие неведомым избранникам на короткое время их жизни? Торжествует только одна победительница - смерть.
Фейербах чувствовал эти противоречия, недаром он так длинно и многословно критиковал идею личного бессмертия и восхвалял смерть, недаром он готов был спастись от них даже ценою явного абсурда. Отвергнув Богочеловека, мистический центр, единящий человечество, он начал искать его в эмпирическом мире и, как мы знаем, нашел его... в государстве. Читатель помнит, что в конце концов глава государства является в роли заместителя бога. Этот абсурд показывает, что внутри самого учения не все обстоит благополучно, является грозным предостережением для последователей Фейербаха.
Религиозная антропология, учение антропотеизма есть ключ, которым Фейербах пытается отмыкать все тайники религии и христианства. Эта критическая его работа имеет второстепенное и производное значение, хотя в ней и много остроумия и блеска, но принципиальные ее основания даны в антропологии... И если этот универсальный ключ оказывается покрыт со всех сторон ржавчиной и ломается в руках, мы считаем себя в праве освободить себя здесь от рассмотрения частностей критики христианства у Фейербаха, ибо принципиальное суждение о ней уже произнесено, исследование же подробностей может составить лишь специальную задачу.
IX
Если откинуть индивидуальные особенности, которые имеются у каждого писателя, то про Фейербаха, вместе с Ог. Контом, надо сказать, что им дано было сделаться выразителями духа нового времени в его самой основной, существенной и глубокой характеристике. Характеристика эта исчерпывается одним словом: гуманизм, - рассматриваемым не в узком смысле литературного по преимуществу течения, каким он выступил впервые в новой истории (хотя между средневековым и современным гуманизмом и существует прямое идейное сродство и преемственность), но понимаемым как величайший жизненный факт нового времени, начиная, примерно, с великой французской революции или даже ранее, с XVII-XVIII века. Гуманизм и новое время - синонимы. Новейший гуманизм не знает своего Лютера, или Цвингли, или Кальвина. Нивелирующий и демократический гуманизм не нуждается и даже не допускает единичных вождей, воплощающих или создающих движение. "Герои" гуманизма, понимая это слово в карлейлевском смысле, его "führende Geister"<<*12>>, конечно, не являются теми исполинами, как, напр., Магомет или упомянутые герои Реформации, но если и это время имеет своих героев, то в числе их непременно должен быть поименован и Фейербах. Дух нового времени, его настроения и чувства рельефнее, может быть, чем у более прославляемых его современников, отражается в его трудах. И в этом историческое значение Фейербаха, которое гораздо больше, чем чисто теоретическая и философская ценность его сочинений.
Совершенное богочеловечество, которое по учению христианства является окончательной мыслью Творца о Своем творении, идеальной задачей, разрешаемой в мировом и историческом процессе, предполагает свободное усвоение божественного содержания жизни, следовательно, устраняет возможность подавления человеческой стихии со стороны божественной силы. Человек, хотя и усвояет данное ему божественное содержание, но воспринимает его в свободном творчестве, в историческом процессе, в результате развития собственных сил, как реальное осуществление образа Божия в собственном существе. Это усвоение поэтому не может быть никоим образом лишь пассивным воспринятием чуждого содержания, оно предполагает движение и от себя, навстречу ему, движение самостоятельное, человеческое. Для этой цели человеческая стихия должна временно отделиться от божественной, быть осознанной до глубины как таковая, человек должен стоять на собственных ногах, чтобы свободно принять и усвоить божественное содержание жизни.
Таким образом, совершенное богочеловечество в равной степени невозможно как без Бога, так и без человека. В историческом раскрытии богочеловеческого единства, которое совершается вообще диалектически путем противоречий, были испробованы обе крайности, обе возможности одностороннего понимания универсальной идеи богочеловечества: если в средние века господствовало мировоззрение богочеловечества без человека или, точнее, помимо человека, в новое же время преобладает идея человечества без Бога или помимо Бога. В основе средневекового мировоззрения и основанной на нем практики жизни лежало недоверие к человеку и его силам, к его земным интересам и делам. Монашество считалось наиболее совершенным и адекватным воплощением богочеловеческой идеи. Меньше, чем кто-либо, я склонен преуменьшать одностороннюю правду этой идеи; напряженный идеализм, острота переживаний трансцендентного, могучая вера, - всеми этими особенностями средневековье накопило душе человечества богатство, доселе еще не изжитое нами, запас высоких чувств, молитвенных настроений, идеалистического презрения к преходящим благам этого мира. В русской душе, может быть, еще более, чем в европейской, живы эти чувства, связанные с общей духовной родиной европейского человечества - средневековьем (разумея этот термин не в смысле хронологической, но культурно-исторической эпохи). И до сих пор средневековая архитектура представляет непревзойденный и даже недостигнутый предел напряжения идеалистически-религиозного искусства (так же, как непревзойденной и недостигнутой - в совершенно другой сфере - остается для нас красота античного искусства). И по сравнению с этими величавыми памятниками душевной жизни средневекового человечества современность со своими вокзалами и отелями кажется такой мелкой, прозаической, мещанской. Нужно уметь поклоняться этой старине.
И тем не менее средневековое мировоззрение представляет для нас теперь, несомненно, уже историческое прошлое, и притом невозвратное прошлое. Оно пережито и изжито, совершенно ясно осознана его односторонность и его неправда, и если эта неправда еще пытается испытывать над современностью свою гнилую силу, то какое голое, мертвящее насилие, без прежнего обаяния святыни, без былого сияния вокруг потемневшего лика.
Средневековое понимание идеи богочеловечества было исторически побеждено мировоззрением, представляющим его полную противоположность и отрицание: гуманизмом, религией человечества или без Бога или против Бога. В этом или - или заключаются две возможности или два разных оттенка, как бы два регистра, в которых может звучать, по-видимому, одинаковая музыка. Но этого различия мы сейчас не будем касаться, остановимся пока на самом содержании этой мелодии.
Гуманизм выдвинул с необычайной силой земную, человеческую сторону исторического процесса, выступив в защиту человечности против бесчеловечности средневековья. Он выставил в качестве первейшей заповеди то, что спросится со всех нас без различия веры: накормить алчущего и напоить жаждущего, одеть нагого, посетить заключенного в темнице, ибо какое же иное содержание имеет созданное им социальное движение, как не выполнение этой Христовой заповеди. Гуманизм потушил костры инквизиции, разбил цепи рабства, с которым легко мирилось внечеловечное, исключительно потустороннее христианство, он освободил слово, мысль, совесть от тиранического гнета, создал свободную личность; он ведет теперь последнюю великую борьбу с социальным рабством капитализма, довершая дело эмансипации личности. Да будут всегда благословенны эти дела гуманизма!
Велики заслуги гуманизма в частности и у нас, в России. И у нас, в России, произошло такое же столкновение внечеловечного богочеловечества и безбожного гуманизма, средневекового и новейшего мировоззрения, что и на Западе. И у нас идеи гуманизма вдохновляли и вдохновляют освободительное движение. Вся почти революционная борьба велась под знаменем гуманизма. Различные общественные наши направления, начиная с западничества Белинского, одинаково и народничество, и народовольчество, и марксизм, все они при всех своих различиях имеют общую религиозно-философскую почву в идеях гуманизма. И на наших глазах теперь освобождение России совершалось кровью, болезнями, муками и трудами тех, которые своих святых имеют не в христианском храме, но в гуманистическом пантеоне.
Итак, можно как будто сказать, что гуманизм, заступивший место средневекового мировоззрения, является шагом вперед в общем историческом движении богочеловеческого процесса, а, кроме того, в известном смысле, и в христианском сознании. Подчеркивая самостоятельное значение человеческой стихии, он содействует полнейшему раскрытию великой истины богочеловечества, обнаруживая в ней новую сторону.
Однако мы уже видели и знаем, что гуманизм этот имеет и другую сущность, содержит двоякую возможность, односторонне выразившееся в нем человеческое начало, незаконно подавлявшееся в средневековом мировоззрении, сначала выступило хотя и без Бога, но, в сущности, во имя Бога. В этом случае кажущееся его безбожие есть только протест против средневекового мировоззрения, хотя, правда, протест, не различающий формы от содержания, исторического злоупотребления от существа дела, но имеющий своим исходным пунктом не бунт против Бога, а защиту прав человека. Однако возможен атеистический гуманизм уже гораздо более сознательный и глубокий, принципиально враждебный ко всему, превышающему человека. Возможность эта вытекает из самого существа дела: если богочеловечество для своего существования требует свободного участия человека, то человек должен быть волен обратить эту свою свободу и против этого участия, быть одинаково свободен как пойти за Христом и ко Христу, так и против Него. В гуманизме, несомненно, существует - и чем дальше, тем определеннее - такое сознательно антихристианское течение, в котором гуманизм является уже собственно средством борьбы со Христом. Великая мировая трагедия, борьба Христа с антихристом, неизбежно должна была проявиться под этой личиной и притом острее и сознательнее, чем где бы то ни было, ибо раз принято общее гуманистическое credo и понято как необходимое практическое приложение христианства, то, естественно, на первый план выдвигается уже различие последних, высших ценностей, от которых зависит и самое credo и его регистр. Антихристианский гуманизм хочет ограничить духовный полет человечества ценой земного благополучия, он, как некогда дух в пустыне, предлагает обратить - и обращает чудесами техники - камни в хлебы, но при условии, чтобы ему воздано было божеское поклонение. Он хочет окончательно погасить тот огонь Прометея, которым, как-никак, пылало средневековье, и, притупив трагический разлад в индивидуальной душе, создать царство духовной буржуазности, культурного мещанства. Он несет с собою тончайший духовный яд, обесценивающий и превращающий в дьявольские искушения его дары. И понятия человечества, человечности, религии человечества в этом употреблении оказываются, странно сказать, только личиной антихриста, его псевдонимом...
При своем возникновении, когда гуманизм только начинал выступать против христианства, ошибочно считая его окончательным и полным выражением средневекового мировоззрения, трудно еще было различить, к чему именно относится вражда. Но по мере дальнейшей дифференциации идей и практических успехов и завоеваний гуманизма, особенно же с тех пор, как начинают все более раскрываться в умах понятия истинного богочеловечества, целиком включающего в себя всю правду гуманизма, все его заботы о человеке и подлинно человеческом, все более отчетливо должны обозначиться два течения: гуманизм со Христом и во имя Его или же против Христа и во имя свое. "Я пришел во имя Отца Моего, и не принимаете Меня; а если иной придет во имя свое, его примете" (Ин. VI, 43). Вот разделившаяся бездна, вот верх и низ, правая и левая сторона: во имя кого? И будущему историческому развитию дано будет окончательно выявить в религиозном сознании два начала, две непримиримейшие противоположности, скрывающиеся пока под общим ярлыком гуманизма. Эти противоположности, обнажающие человеческую душу до подлинной ее метафизической сущности, коренятся, конечно, не столько в складках гибкого ума, сколько в сокровенных глубинах сердца, в свободном самоопределении его в сторону добра и зла. Поэтому и вся гуманистическая цивилизация также имеет антиномический, дуалистический характер, ценность ее заключена в конечной цели, цель же эта может быть различна и даже противоположна.
Дуализм этот не случайный и надуманный, но коренной, метафизический, лежащий как в основе всего мироздания, так и в основе человеческой души. Источник этого дуализма - свобода, в которой наше высшее достоинство - образ Божий. Где есть свобода, там есть и выбор и разделение, там есть и борьба, и не для ленивого прозябания, но для борьбы непримиримой и безостановочной посланы мы в этот мир, для созидания царствия Божия путем свободной борьбы.
Тем не менее необходимым фундаментом этого царствия Божия во всяком случае является свободное человечество, и высвобождение человека в истории, внешняя человеческая эмансипация, которая есть главная задача и главное дело гуманизма, есть необходимое для того условие. Поэтому те, кто трудились на поприще гуманизма, содействуя этой богочеловеческой цели, освобождению личности, принесли свой камень для сооружения нового Иерусалима. И в числе этих каменщиков и работников займет свое место и Л. Фейербах, вдохновенный проповедник гуманизма, "благочестивый атеист", вопреки своему атеизму презиравший божественную стихию в человеке и выразивший свои прозрения в многозначной и загадочной формуле: homo homini deus est.
--------------------------------
1 Напечатано в журнале "Вопросы жизни" за 1905 г. и выпущено отдельно в изд. "Свободная совесть". Москва, 1906.
2 За последние годы в русском переводе появились некоторые произведения Фейербаха, как то: "Сущность христианства", "Мысли о смерти и бессмертии".
3 Даже в специальном трактате по истории философии религии проф. О. Пфлейдерера посвящено Фейербаху лишь несколько совершенно бесцветных страниц. Prof. Otto Pfleiderer. Geschichte der Religionsphilosophie von Spinoza bis auf der Gegenwart. Dritte Ausgabe. Berlin, 1893, стр. 447-454.
*1 Страшно сказать (лат.).
4 Vorlesungen über das Wesen der Religion, составляющие 8-й том старого, изданного еще самим автором, собрания сочинений, стр. 6-7.
5 F. Engels. L. Feuerbach und der Ausgang der klassischen Philosophie, 10-11. (С тех пор, как написаны эти строки, вышло уже несколько русских переводов этой брошюры.) Ср. аналогичный рассказ Герцена о впечатлении, произведенном на него чтением "Wesen des Christenthums" ("Былое и думы").
6 Справедливо замечает Масарик: "Революционная движущая сила для Маркса и у Маркса не естествознание, а атеизм" ("Философские и социологические основания марксизма", пер. П. Николаева, стр. 423). В другом месте Масарик справедливо указывает, что "Маркс (и Энгельс) исходят от Фейербаха и влияние Фейербаха на Маркса было очень значительно, гораздо значительнее, чем обыкновенно полагали. Кто понял эти немногие страницы о Фейербахе (эти страницы содержат изложение его учения), тот больше поймет марксизм, чем при непереваренном прочтении первой части "Капитала"".
7 У нас последователем Фейербаха стал Н. Г. Чернышевский, бывший проводником его влияния в русском обществе.
8 Lange. Geschichte des Materialismus. 6 Ausg. hrsg: von Cohen, II, 73.
9 Таковою отчасти является книжка Иодля "Л. Фейербах". СПб., 1905.
10 Grundsätze der Philosophie der Zukunft (1843). Во втором томе нового издания Иодля и Болина, § 1.
11 Фейербах совершенно справедливо констатирует, что "периоды человечества различаются между собою только религиозными переменами" (Philosophische Kritiken und Grundsätze. Статья "Nothwendigkeit einer Reform der Philosophie", 1841, стр. 216, по новому изданию второго тома). Против этого положения с точки зрения своего исторического материализма возражает Энгельс (L. Feuerbach etc.. 28-29).
12 "Wesen des Christenthums", стр. l.
13 Ibid., стр. 2. Курсивы здесь и в дальнейших цитатах из сочинений Фейербаха принадлежат подлиннику.
14 Характеризуя эмоциональную сторону религии и односторонне сводя религию к одному чувству (как будто сам Фейербах, занимаясь исключительно метафизикой религии, не показывает тем самым, насколько неустранимы из нее и метафизические проблемы), Фейербах говорит: "Бог есть чистое, неограниченное, свободное чувство. Всякий другой бог есть бог, навязанный твоему чувству извне. Чувство атеистично в смысле ортодоксальной веры как такой, которая соединяет религию с каким-либо внешним предметом, оно отрицает предметного бога, оно само есть бог. Отрицание исключительных прав чувства (des Gefühls nur) с точки зрения чувства есть отрицание бога. Ты слишком робок или ограничен для того, чтобы высказать словами то, что утверждает в жизни твое чувство. Связанный внешними соображениями, неспособный понять душевное величие чувства, ты пугаешься религиозного атеизма своего сердца и в этом страхе уничтожаешь единство твоего чувства с самим собой, воображая себе отличное от твоего чувства предметное существо, и с необходимостью снова бросаешься к старым вопросам: существует ли бог или нет... Чувство есть твоя внутренняя и вместе с тем отличная от тебя сила, оно в тебе выше тебя: это самое подлинное (eigenstes) твое существо, которое, однако, охватывает тебя как другое существо, короче - твои бог; как же ты хочешь еще отличить от этого существа в тебе как другое предметное существо?" (Ibid., 13). Уже по первым цитатам читатель может усмотреть некоторые основные особенности стиля Фейербаха: его многословность и манеру повторять одну и ту же мысль разними словами, философскую неточность языка и, главное, постоянное, необузданное и неразборчивое употребление слова "Wesen", с которым часто просто не знаешь, что делать при передаче его на русский язык. При помощи этого слова Фейербах постоянно впадает в гипостазирование и мифологизирование понятий.
15 Ibid., 6.
16 Ibid., 15.
17 Ibid., 17.
18 Ibid., 41.
19 Ibid., 22.
20 Ibid., 54. "Вера в бога, по крайней мере, бога религии, теряется только там, где, подобно как в скептицизме, пантеизме, материализме, теряется вера в человека, по крайней мере, как он существует для религии".
21 Ibid., 322.
22 Ibid., 126.
23 Ibid., 422.
*2 Человек человеку Бог (лат.).
24 Ibid., 326.
25 "Теизм, вера в бога, является вполне отрицательной. Она отрицает природу, мир, человечество: пред богом мир и человек суть ничто, бог есть и был прежде, чем был мир и люди; ом может (?!) жить без них; он - ничто для мира и человека" (Vorlesungen über das Wesen der Religion, стр. 367).
26 Vorlesungen, 25.
27 "Wesen der Religion", собр. соч., т. VII, 416.
28 Приведем полностью то определение природы, которое дается Фейербахом: "Я понимаю под природой совокупность всех чувственных сил, вещей и сущностей, которые человек отличает от себя как нечеловеческие; вообще я понимаю под природой... сущность (Wesen), действующую согласно необходимости своей природы (Nota-bene: определение замыкается в очевидный логический и словесный даже круг - природа, действующая с необходимостью природы!), но она не есть для меня, как для Спинозы, бог, т. е. одновременно и сверхчувственная, отвлеченная, тайная, простая, но многообразная, общедоступная, действительная, всеми чувствами воспринимаемая реальность. Или, говоря практически: природа есть все, что непосредственно является человеку, независимо от супранатуральных нашептываний теистической веры, непосредственно, чувственно, как предмет и основание его жизни. Природа - это свет, электричество, магнетизм, воздух, вода, огонь, земля, животное, растение, человек (насколько он есть несвободно и бессознательно действующее существо), - ничего более, ничего мистического, ничего человечного, ничего теологического я не подразумеваю в слове природа. Я апеллирую этим словом к чувствам. Юпитер есть все, что ты видишь, говорила древность; природа, говорю я, есть все, что ты видишь и что не происходит от человеческих рук и мыслей" и т. д., в этом же роде ( "Vorlesungen über das Wesen der Religion", стр. 116-117).
29 Wesen des Christ, 184-185.
30 Das Wesen des Christenthums in Beziehung auf den "Einzigen und sein Eigenthum", Band VII, 303.
31 Das Wesen des Christenthums, 324-325.
*3 Божественный Цезарь! (лат.)
32 Philosophische Kritiken und Grundsätze, статья "Nothwendigkeit einer Reform der Philosophie" (1841), ч. II, стр. 219-220.
33 Vorläusige Thesen zur Reform der Philosophie (1842), т. II, стр. 244.
34 В. II, 218-219.
35 Vorlesungen, 29. Сравните рассуждения Кириллова в "Бесах" Достоевского: "Бог есть боль страха смерти. Кто победит боль и страх, тот сам станет богом. Тогда новая жизнь, тогда новый человек, все новое... Тогда историю будут делить на две части: от гориллы до уничтожения Бога и от уничтожения Бога до... до перемены земли и человека физически. Будет богом человек и переменится физически".
36 Wesen des Christenthums, 20.
37 Grundsätze der Philosophie der Zukunft, собр. соч., т. II, 304, §41.
38 Ibid., § 58.
39 Wesen des Christenthums, 191.
40 Ibid.
41 "Человек мыслит, т. е. общается (conversirt), говорит сам с собою. Животное не может выполнять функции рода без другого индивида вне себя; человек же может выполнять родовую функцию мышления, речи, ибо мышление и речь суть настоящие функции рода, без другого. Человек есть сам для себя вместе я и ты, он может себя самого поставить на место другого именно потому, что предметом ему является его род, его существо, не только его индивидуальность" (Wesen des Christenthums, 3).
42 Ibid., 190.
43 Ibid., 189-190.
44 Vorlesungen, 364.
45 Мы читаем здесь, напр., такой дифирамб смерти: "О, смерть! Я не могу оторваться от сладостного созерцания твоего кроткого, столь интимно слившегося с моим существом существа! Зеркало моего духа, отблеск моей собственной природы! Из распадения единства природы с самой собой восстал сознательный дух, вспыхнул этот всеобщий, сам себя созерцающий свет и, как месяц светит светом солнца, так отражаешь и ты в своем кротком сиянии лишь горящий солнечный огонь сознания. Ты - вечерняя звезда природы и утренняя звезда духа; чувственные глупцы принимают одну звезду за две разных звезды. Ты светишь мудрому из страны грез к месту рождения истинного спасителя духа. Глупцы воображают, что лишь после смерти и при ее посредстве они входят в дух, что духовная жизнь возникает лишь после смерти, как будто бы чувственное отрицание может быть основанием или условием духа. Они не видят, что смерть уже предполагает действительное существование духа, следует лишь за духом и как чувственный конец есть лишь проявление духовного и существенного конца. Утренняя звезда не приносит с собой утра, она сама есть лишь проявление утра" (Gedanken über Tod und Unsterblichkeit, собр. соч., т. I, стр. 71. Отрывок этот характерен для стиля и тона всего этого сочинения).
46 Для характеристики этой его аргументации приведем следующий отрывок: "Так же, как желание вечной жизни, желание всеведения и безграничного совершенства есть лишь воображаемое желание, и представляемой в качестве основания этого желания неограниченное стремление к знанию и совершенству, как показывает ежедневная история и опыт, лишь присочинены человеку. Человек хочет не всего, он только хочет знать то, к чему он имеет особую наклонность и предпочтение. Даже человек с универсальным стремлением к знанию, что редко встречается, никоим образом не хочет знать все без различия; он не хочет знать все камни, как минералог по специальности, или все растения, как ботаник; он довольствуется необходимым, потому что это соответствует его общему духу. Также человек хочет не все мочь, но лишь то, к чему он имеет особое стремление, он не стремится к безграничному, неопределенному совершенству, которое осуществляется только в боге и бесконечном Jenseits, но к определенному, ограниченному совершенству, к совершенству в определенной сфере" (Vorlesungen über das Wesen der Religion, 361).
47 Vorlesungen, 360-361.
48 Der Einzige und sein Eigenthum, изд. 1882 г., стр. 220. "Все святое есть узы, оковы".
49 Ibid., 8.
50 Ibid., 60-61.
51 Ibid., 188-189.
*4 Высшее существо (фр.).
52 Ibid., 41.
53 Приведено у Botin. Ludwig Feuerbach", eine Werken und seine Zeitgenossen. Stuttgart, 1881.
54 Вот для примера два суждения Фейербаха по вопросу о божественности индивида, которые разделены между собой расстоянием в две страницы:
""Теологический взгляд" Фейербаха состоит в том, что он "раскалывает нас на существенное и несущественное я" и "вид, человека вообще (den Menschen), абстракцию, идею как наше истинное существо представляет в отличие от действительного индивидуального я как несущественного". "Единственный"! Целиком ли читал ты "Wesen des Christenthums"? Не может быть, ибо что именно является главной темой, зерном этого сочинения? Единственно и исключительно устранение разделения на существенное и несущественное я - обожествление, т. е. утверждение (Position), признание всего человека с головы до пят. Разве в конце не провозглашается открыто божественность индивида как раскрытая тайна религии?.. В этом сочинении Фейербах открывает правду чувственности, лишь в нем он понял абсолютное существо как чувственное существо, а чувственное существо как абсолютное существо". Таким образом, божествен индивид весь с головы до пяток. Немного ниже читаем: "Индивид для Фейербаха есть абсолютное, т. е. истинное, действительное существо. Почему же он не говорит: этот исключительный индивид? Потому что тогда он не знал бы, чего хочет, тогда он возвратился бы к точке зрения религии, которую он отрицает. В том именно и состоит, но крайней мере в данном отношении, существо религии, что она избирает из класса или рода единственный индивид и противопоставляет его в качестве святого и неприкосновенного другим индивидам... Упразднить религию значит поэтому не что иное, как показать тождественность ее освященного предмета или индивида с прочими мирскими индивидами того же рода". Здесь уже отрицается божественность индивида "с головы до пяток", которая установлялась двумя страницами выше.
Еще пример. Мы знаем, что понятие "рода" обычно включает у Фейербаха совокупно? человечество, и в таковом лишь качестве оно является у него объектом религии. Однако в споре со Штирнером он уступает сильному противнику даже и эту основную позицию и дает уже такое определение: "Род обозначает у Фейербаха не абстракцию, но только ты, другого, вообще вне меня существующего человеческого индивида, взятого в противопоставление отдельному, фиксированному для себя самого я. Поэтому если у Фейербаха говорится: индивид ограничен, род безграничен, - то это значит не что иное, как: границы этого индивида не суть также и границы других, границы для современного человека поэтому не суть границы будущих людей". Но, несомненно, не это бессодержательное суждение содержится в основном учении Фейербаха о роде.
55 Der Einzige und sein Eigenthum, 35.
56 Ibid., 143.
57 Ibid., 194.
58 Vorlesungen, 64.
59 За последние годы пришла на него мода в России, где появилось несколько переводов "Единственного и его собственности".
60 Ср. обстоятельный очерк г. В. Саводника "Ницшеанец 40-х годов. Макс Штирнер и его философия эгоизма". Москва, 1902 г.
61 "Идея сверхчеловека", собр. соч., т. VIII, 312.
62 Engels. L. Feuerbach etc., 26-35. В сороковых годах Энгельс был непритязательным и наивным фейербахианцем, и никакой существенной перемены в его философском мировоззрении с ним не произошло. В статье "Die Lage Englands" (Aus dem litterarischem Nachlass von K. Marx, F. Engels und Ferdinand Lassalle, erster Band, 486-487) он говорит: "Безбожие нашего века, на которое так жалуется Карлейль, есть именно его религиозная полнота (в подлиннике игра слов: Gottlosigkeit и Gotterfülltheft). До сих пор существовал вопрос: что такое бог? и немецкая философия решила вопрос так: бог есть человек. Человеку нужно лично познать самого себя; мерить все жизненные условия сообразно себе самому, оценивая их, преобразовывать мир действительно по-человечески, сообразно требованиям своей натуры. Не в потусторонних, несуществующих областях, не вне пространства и времени, не у "бога", живущего в мире или потустороннего, нужно искать истины, но много ближе, в собственной груди человека. Собственное существо человека много возвышеннее и величественнее, чем воображаемое существо всех возможных богов, которые суть только более или менее смутные и искаженные отражения самих людей".
63 Wesen des Christenthums, 238.
*5 Я (а не "человек") есмь бог (лат.).
64 Ср. очерк: "К. Маркс как религиозный тип".
*6 От противного (лат.).
*7 Номинальная причина (нем.).
65 Не всем известно, что эти стихи Гете представляют перифраз изречения Плотина (Эннеады, I, 6, 9). Известный спор на тему об антропоморфизме представлений, о Боге вел с Эшенмейером Шеллинг. (См. об этом у К. Фишер. Ист. нов. фил., т. VII, стр. 718, 720.)
*8 Не будь глаз солнцезрачным, не мог бы он видеть солнца. Не живи в нас Божья сила, как могло бы нас восхищать божественное? (нем.)
66 Кроме этой альтернативы, что или бог существует, или есть лишь продукт фантазии, оказывается, возможна еще и третья, согласно которой бога еще нет, но он будет создан человечеством. Это философское изобретение, представляющее собой, на наш взгляд, самую безбожную и нечестивую выдумку всего XIX века, принадлежит эстетическому скептику и умственному гастроному Эрнесту Ренану. Читайте в его "Философских диалогах" следующий обмен мнений:
"Евтифрон. Вы думаете, значит, как Гегель (??!!), что бога нет, но он будет?
Теофраст. Не вполне. Идеал существует: он вечен; но он еще не вполне осуществлен материально, но когда-нибудь будет осуществлен сознанием, аналогичным сознанию человечества, но бесконечно высшим, которое по сравнению с нашим теперешним сознанием, столь ужасным, столь темным, покажется совершенной паровой машиной рядом со старой машиной de Marly. Универсальная задача всего живущего - создать совершенного бога (de faire Dieu parfait), содействовать великому окончательному результату, который заключит круг вещей в единстве. Разум, который до сих пор не принимал никакого участия в этой работе, совершавшейся слепо, при посредстве темного стремления всего существующего, разум, говорю я, заберет когда-нибудь в руки руководство этим великим трудом и, организовав человечество, организует бога (organisèra le Dieu, даже с большой буквы!)" (Renan. Dialogues et fragments philosophiques, 4-me éd. Paris, 1895. Диалог "Probabilités", стр. 78-79. Курсив мой). К удивлению, эти идеи последние годы нашли себе отголосок и на русской почве среди разочарованных марксистов.
*9 Познай самого себя (греч.).
*10 Я человек и ничто человеческое мне не чуждо (лат.).
*11 Все горе человечества охватывает меня (нем.).
*12 Руководительные духи (нем.).
«Сознание, в строгом или собственном смысле слова, и сознание бесконечного неразделимы; ограниченное сознание не есть сознание»
«Абсолютное существо, бог человека, есть его собственное существо»
«Вопрос о том, существует бог или нет, противоположность атеизма и теизма принадлежит XVIII и XVII, но не XIX столетию. Я отрицаю бога, это значит у меня: я отрицаю отрицание человека. Я ставлю на место иллюзорного, фантастического, небесного утверждения (Position) человека, которое в действительной жизни необходимо приводит к отрицанию человека, чувственное, действительное, а следовательно, необходимо также и политическое и социальное утверждение человека. Вопрос о бытии и небытии бога у меня есть именно вопрос о бытии или небытии человека».
«То, что есть для человека бог, это его дух, его душа, и то, что составляет его дух, его душу, его сердце, это и есть его бог: бог есть открытая внутренность, высказанная самость (Selbst) человека, религия есть торжественное раскрытие скрытых сокровищ человека, признание в сокровеннейших мыслях, открытое исповедание таинства любви»2. «Религия, по крайней мере христианская, есть отношение человека к самому себе или, точнее, к своему существу, но отношение к своему существу как к другому существу. Божественное существо есть не что иное, как человеческое существо или, лучше, Существо человека, освобожденное от границ индивидуального, т. е. действительного, телесного человека, опредмеченное (vergegenständlicht), т. е. считаемое и почитаемое как другое, от него отличное, особое существо, — все определения божественного существа суть поэтому определения человеческого существа».
«Религия есть разделение человека с самим собой; он противопоставляет себе бога как противоположное себе существо. Бог не есть то, что есть человек, человек не есть то, что есть бог. Бог есть бесконечное, человек — конечное существо; бог совершенен, человек несовершенен; бог вечен, человек временен; бог всемогущ, человек бессилен; бог свят, человек грешен. Бог и человек суть противоположности (Exstreme): бог исключительно положительное начало, совокупность всех реальностей, человек — исключительно отрицательное, совокупность всяких ничтожностей (Nichtigkeiten). Но человек опредмечивает в религии свое собственное существо. Таким образом, должно быть доказано, что эта противоположность, это раздвоение бога и человека, которым начинается религия, есть раздвоение человека с своим собственным существом».
«Ты веришь в любовь как божественное свойство, ибо ты сам любишь, ты веришь, что бог есть мудрое, благое существо, ибо ты ничего не знаешь над собой высшего, чем доброта и разум, и ты веришь, что бог существует, что он есть, следовательно, субъект или существо, ибо ты сам существуешь, сам представляешь собой существо... Бог есть для тебя нечто существующее (ein Existerendes), существо на том же самом основании, на котором он является для тебя мудрым, блаженным, благим».
«Вера в бога, по крайней мере, бога религии, теряется только там, где, подобно как в скептицизме, пантеизме, материализме, теряется вера в человека, по крайней мере, как он существует для религии».
Людвиг Фейербах
Homo hominl deus est — вот лапидарная формула, выражающая сущность религиозных воззрений Фейербаха. Это не отрицание религии и даже не атеизм, это, в противоположность теизму, антропо-теизм, причем антропология силою вещей оказывается в роли богословия.
Прот. Сергий Булгаков
Религия человекобожества у Л.Фейербаха
«До появления христиан человека как такового не существовало. Человек мыслился как понятие сугубо национальное: грек был греком, египтянин - египтянином. И только с появлением христианства появилось представление о человеке как о Сыне Человеческом с большой буквы.»
Людвиг Фейербах. История философии
Женщины обманывают, чтобы скрыть свои чувства, мужчины - чтобы показать чувства, которых нет...
Анри де Монтерлан
В возрасте 17 лет, будучи ученицей 7-го класса московской частной гимназии М.Г. Брюхоненко, Цветаева начала экспериментировать со своей прической.
"Марине подруга посоветовала для ращения волос какую-то жидкость, назвав ее Перуин Пето... Марина стала втирать ее в волосы, и те стали катастрофически быстро желтеть. Жидкость оказалась перекисью водорода, и голова стала ярко-желтая! Снизу росли русые, приходилось подмазывать..." (Из "Воспоминаний" Анастасии Цветаевой).
"Однажды Цветаева, появившись утром в классе, вызвала всеобщее удивление: волосы у нее за один день стали необычного соломенного цвета, и к ним была прикреплена голубая бархатная лента. По-видимому, в ее воображении все это должно было выглядеть иначе. Быть может, тут сыграло какую-то роль название сборника стихов Андрея Белого «Золото в лазури». Ее волосы привлекли внимание, ей задавали вопросы. Вероятно, Цветаевой это надоело, а возможно, эта причуда разонравилась и самой, но только вскоре она остриглась наголо и некоторое время носила черный чепец." (Из воспоминаний одноклассницы Цветаевой Татьяны Астаповой.)
В этом чепце ее впервые увидел Максимилиан Волошин во время знакомства в декабре 1910 года.
"Почему скрывает чепчик черный
Чистый лоб, а на глазах очки?
Я запомнил только взгляд покорный
И младенческий овал щеки".
– А вы всегда носите это?..
– Чепец? Всегда, я бритая.
– Всегда бритая?
– Всегда.
– А нельзя ли было бы... это... снять, чтобы я мог увидеть форму вашей головы. Ничто так не дает человека, как форма его головы.
– Пожалуйста.
Но я еще руки поднять не успела, как он уже – осторожно – по-мужски и по-медвежьи, обеими руками – снял.
– У вас отличная голова, самой правильной формы, я совершенно не понимаю...
Смотрит взглядом ваятеля или даже резчика по дереву – на чурбан – кстати, глаза точь-в-точь как у Врубелевского Пана: две светящиеся точки – и, просительно:
– А нельзя ли было бы уж зараз снять и...
Я:
– Очки?
Он, радостно:
– Да, да, очки, потому что, знаете, ничто так не скрывает человека, как очки.
Я, на этот раз опережая жест:
– Но предупреждаю вас, что я без очков ничего не вижу.
Он спокойно:
– Вам видеть не надо, это мне нужно видеть.
Отступает на шаг и, созерцательно:
– Вы удивительно похожи на римского семинариста. Вам, наверно, это часто говорят?
– Никогда, потому что никто не видел меня бритой.
– Но зачем же вы тогда бреетесь?
– Чтобы носить чепец.
– И вы... вы всегда будете бриться?
– Всегда.
М. Цветаева. Живое о живом (Волошин)
Анастасия Цветаева:
"Уже давно Маринины нечаянно покрашенные волосы стали менять оттенки от желтого и морковного к зеленоватому, и, наконец, Марина обрила голову. По чьему-то совету полагалось ее брить десять раз – тогда могли они завиться. И Марина надела черный шелковый чепец с маленькой оборкой, очень ей не шедший".
К весне 1911 года у Марины действительно отросли кудрявые волосы. С этими новыми волосами ее можно видеть на коктебельских фотографиях, сделанных Волошиным.
Не позволяйте никому думать, что любовь - это естественный дар. Любви можно научиться, и для этого нужно много работать. Господь не любит преувеличенных слов, Господь любит что-то делать. Добрые дела - это любовь. Делать добро - значит подниматься на один уровень, а делать зло - опускаться. В нашей жизни были такие взлеты и падения.
Прп. Гавриил Преподобный (Ургебадзе)
Наталья Шаинян:
Маринкина башня - вот она, полтысячи лет стоит в Коломенском Кремле. В XVII веке здесь была заточена Марина Мнишек, после свержения Лжедмитрия и до своей загадочной смерти. Воспетая Цветаевой, «Трём Самозванцам жена», по легенде, обратилась птицей и выпорхнула на волю. Цветаева любила совпадение их имён, соотносила себя с царственной тёзкой, поэтически исправляла ее судьбу, заменяя ее собой.
Эту башню она вряд ли видела.
Цветаева гостила неподалёку от Коломны, на даче в Песках, пару июльских недель в последнее лето своей жизни - короткая, нищая, тревожная передышка перед поспешным бегством в Татарию, откуда уже не вернулась.
Но связь двух Марин, узниц - каждой своего времени - прозвучала в стихе Ахматовой 1940 года - которое она не решилась прочесть адресатке при их встрече в 1941.
Невидимка, двойник, пересмешник,
Что ты прячешься в черных кустах,
То забьешься в дырявый скворечник,
То мелькнешь на погибших крестах,
То кричишь из Маринкиной башни:
"Я сегодня вернулась домой.
Полюбуйтесь, родимые пашни,
Что за это случилось со мной.
Поглотила любимых пучина,
И разрушен родительский дом".
Мы с тобою сегодня, Марина,
По столице полночной идем,
А за нами таких миллионы,
И безмолвнее шествия нет,
А вокруг погребальные звоны,
Да московские дикие стоны
Вьюги, наш заметающей след.
Однажды к Сократу прибежал взволнованный человек и попытался что-то ему рассказать:
– Сократ, я хочу рассказать тебе, как один наш друг...
– Подожди, подожди! – прервал его мудрец. – Ответь мне сначала на вопрос, просеял ли ты то, что хочешь рассказать мне, через три сита?
– Какие еще три сита? – удивился мужчина.
– Позволь мне объяснить тебе: попытайся сначала пропустить свой рассказ через три сита. Если он просеется, тогда расскажешь мне.
Первое сито – это сито правды. Правда ли то, что ты хочешь мне рассказать?
– Не знаю... – с сомнением в голосе сказал посетитель. – Я слышал это от других...
– Но тогда ты, должно быть, просеял твой рассказ через второе сито! – продолжал Сократ. – Это сито доброты. Действительно ли то, что ты хочешь мне сказать, – это нечто доброе, созидающее?
– Нет, не думаю, – честно признался собеседник. – Но…
Мудрец снова остановил его:
– Тогда возьмем еще третье сито и поставим вопрос: так ли необходимо, чтобы ты рассказал мне то, с чем пришел?
– В этом нет необходимости…
– Значит, – улыбнулся Сократ, если в этом нет ни правды, ни доброты, ни необходимости, то оставим это! Не говори и не обременяй этим ни меня, ни себя.
После двух-трёх легко вылившихся строф и нескольких, его самого поразивших сравнений работа завладела им, и он испытал приближение того, что называется вдохновением. Соотношение сил, управляющих творчеством, как бы становится на голову. Первенство получает не человек и состояние его души, которому он ищет выражения, а язык, которым он хочет его выразить. Язык, родина и вместилище красоты и смысла, сам начинает думать и говорить за человека и весь становится музыкой, не в отношении внешнего слухового звучания, но в отношении стремительности и могущества своего внутреннего течения. Тогда подобно катящейся громаде речного потока, самым движением своим обтачивающий камни дна и ворочающей колеса мельниц, льющаяся речь сама, силой своих законов создаёт по пути, мимоходом, размер и рифму, и тысячи других форм и образований ещё более важных, но до сих пор неузнанных, неучтенных, неназванных.
В такие минуты Юрий Андреевич чувствовал, что главную работу совершает не он сам, но то, что выше его, что находится над ним и управляет им, а именно: состояние мировой мысли и поэзии, и то, что ей предназначено в будущем, следующий по порядку шаг, который предстоит ей сделать в его историческом развитии. И он чувствовал себя только поводом и опорной точкой, чтобы она пришла в это движение.
Он избавлялся от упреков самому себе, чувство собственного ничтожества на время оставляло его.(...)
"Господи! Господи! - готов был шептать он. - И все это мне! За что мне так много? Как подпустил Ты меня к себе, как дал забрести на эту бесценную Твою землю, под эти твои звёзды..
Пастернак «Доктор Живаго»
Я знал двух влюблённых, живших в Петрограде в дни революции и не заметивших её.
Борис Пастернак
Где-то часа в 4 утра за домами начала лаять собака. Часам к 5 её лай усилился. Люди стали вставать на работу, с раздражением слушая этот истеричный лай. Около 5-30 утра потянулись из домов на работу жильцы.
Первыми, вышедшими за пределы домов людьми, были мужчина и женщина, видимо, муж и жена. Они решили всё же посмотреть, что за собака так орёт всё утро.
Пройдя совсем немного в сторону гаражей, они увидели её. Она всё так же лаяла, причем мордой повернувшись к домам. За ней, на земле лежал человек. Мужчина с женщиной побежали в сторону собаки. Было понятно, что она зовет людей.
Но чем ближе они подходили, тем больше собака лаяла на них. И лай становился агрессивным. Это была овчарка, собака серьезная. Близко не подойдешь. Женщина предложила вызвать скорую.
Скорая приехала быстро. Они подъехали близко, двое медработников вышли из машины. Женщина предупредила, когда звонила, что там собака не подпускает.
И когда они двинулись в сторону человека, то тоже крикнула им про это. Но собака перестала лаять, как только увидела скорую.
Она подошла к хозяину и села рядом.
Два медика подошли к человеку достаточно близко. Собака сидела не шевелясь.
-Что будем делать?
-Вроде умная, подпустила. Я подойду. Если что - баллончиком брызни.
Врач аккуратно поставил ящик с лекарствами, присел на корточки около человека, поглядывая на собаку. Собака молча смотрела.
Пульс был, но слабый. Мужчина, довольно молодой, лет 35, большая кровопотеря. Ранение в область живота.
Один из медиков открыл чемоданчик с лекарствами, быстро сделал перевязку, другой набрал два шприца, быстро сделал уколы. Собака внимательно наблюдала.
К этому времени собралось уже немало зевак. Но стояли они на расстоянии метров в 10. Никто не решился подойти ближе.
Один из медиков сходил за каталкой.
Они аккуратно положили мужчину, загрузили в машину. Собаку взять было нельзя. Она смотрела на них, они на неё. Но инструкция... Да и что дальше?
Скорая аккуратно поехала по неровной дороге. Собака бежала рядом...
До больницы было недалеко. Всю дорогу овчарка то отставая, то догоняя, бежала за машиной. Перед шлагбаумом больницы скорая остановилась. Охранники подняли шлагбаум, скорая заехала на территорию. Водитель сказал одному охраннику:
-У нас мужчина с ранением.Это его собака.
-Я понял, а что я сделаю? - и глянув на собаку, шикнул - А ну стой! Фу! Нельзя! Сидеть!
Этот набор команд немного сбил овчарку с толку. Но она остановилась, села перед шлагбаумом и только взглядом провожала эту машину.
Просидев около часа в ожидании, она легла поближе к краю забора, чтобы не мешать проезжающим машинам.
Охранники сначала смотрели за ней, чтобы она не шмыгнула на территорию. Но потом, поняв, что она будет ждать тут, уже просто иногда поглядывали в её сторону.
-Что делать-то будем?
-Ничего, а что ты предлагаешь?
-Так она тут сколько лежать-то будет?
-Да кто её знает? Может полежит да уйдет.
-Не.. Она умная, вроде. Неужели ждать будет?
-Да сколько ждать? Если там всё плохо, так и не дождаться может.
-Вот ведь... Беда.. Может, ей поесть дать чего?
-Ага! Ты прикорми её тут, а тебя потом уволят.
-Да, что делать-то?
-Ничего. Посмотрим, может сама уйдет. А не уйдет-тогда и будем решать.
_______________________________
Наступило утро. Овчарка так и лежала у въезда. Охрана должна была поменяться. Пришедшим объяснили ситуацию. Один из тех, кто сменился, сказал:
-Я пойду, узнаю, что там с мужчиной. Да ситуацию объясню. Чтоб отлов не вызвали случайно. А то...
Пусть по камерам посмотрят..Да может принесу ей что поесть...
-Не прикармливай тут!
-Не, пусть сдохнет тут под забором!
Собака внимательно смотрела на говорящих и смотрящих на неё людей.
Прошло минут 40. Ушедший за новостями охранник вернулся.
-Ну что? Что там с мужчиной?
-Прооперировали. В реанимации. Говорят, что более-менее. Вот, в столовой стребовал остатки..- мужчина принёс в пластиковой тарелке котлету, сосиску, а в другой глубокой миске воды.
- Но тут кормить нельзя... Иди сюда, - позвал он собаку, ставя миски под дерево у края дороги.
Овчарка внимательно смотрела на него, не двигаясь с места.
-Иди, ешь. Хоть воды попей. Возьми! Можно! -мужчина пытался вспомнить команды.
Овчарка встала, но с места не двигалась. Было явно видно, что она думает. Она смотрела на человека, на миски, на шлагбаум. Села.
-Ну, как хочешь, -мужчина отошел от дерева и подошел снова к будке.
Собака медленно встала и подошла к миске. Понюхала, жадно начала лакать воду.
____________________________
Прошла неделя. Хозяина этой умной собаки уже как два дня перевели в палату. Он потихоньку поправлялся. Спросить про собаку было не у кого. И от этого было очень тоскливо.
Они жили вдвоём после того, как он ушёл в запас по ранению. Вместе служили, вместе ушли на гражданку. Он очень надеялся, что такая умная собака не пропадёт.
Овчарка тем временем переместилась от забора к деревьям. Оттуда было так же удобно наблюдать за въездом. Охранник её подкармливал понемногу. Ему пришла мысль, что можно сходить к хозяину и сказать, что собака тут, у больницы сидит. После смены он пошёл в отделение, где лежал мужчина.
Охранник вошёл в палату. Там было четыре кровати, на двух лежали пациенты. Один был лежачий, другой ходил, видимо, потому что был в тренировочном костюме.
-Здравствуйте, -охранник обратился к лежачему - Вы Фомичёв Алексей?
-Здравствуйте, да, я. Что случилось?
-Я охранник этой больницы, не волнуйтесь! Ничего плохого, наоборот, хорошее! Это Ваша овчарка была?
-Почему была? -с тревогой в голосе спросил Алексей.
-Ну я не правильно выразился, простите. Она и есть! Она всё это время на въезде лежит. Сейчас, правда, отошла чуть дальше, но не уходит. Мы её подкармливаем немного.
Алексей закрыв глаза, улыбался и покачивал головой из стороны в сторону.
-Что? Не Ваша?
-Моя, моя! Альма моя... Мы служили вместе. Она дрессированная. Умная очень.
-Да мы уж поняли, - охранник улыбался. Ему было так радостно, что так решилась ситуация.
-Могу я Вас попросить? Дайте мне салфетку с тумбочки.
Охранник дал салфетку. Алексей потер об неё руки, вытер лицо.
-А теперь возьмите пакетик целлофановый, я туда салфетку положу. Отнесите её Альме, пожалуйста, она поймет!
_________________________
Охранник вышел с территории больницы, подошел к деревьям где дежурила Альма. Она увидела в его руках пакет. Встала. К рукам она так и не подходила. Он положил пакет на землю, раскрыв его.
Отошел в сторону. Альма подошла к пакету. Долго, очень долго она нюхала эту салфетку. Потом, аккуратно вытащив её, отошла под дерево, легла, положила салфетку на лапы и голову сверху.
Послесловие. Альма дождалась хозяина. Было столько радости, что и описать нельзя! Они не раз выручали друг друга и знали, что нужно ждать. Она дождалась!
Искусство не сделало ничего иного, как показало нам всю запутанность, в которой мы большей частью и пребываем. Оно нас напугало — вместо того чтобы успокоить и утешить. Оно показало, что каждый из нас живет на своем отдельном острове; только эти острова недостаточно далеки друг от друга, чтобы стать одинокими и безмятежными. Один в состоянии мешать другому, пугать его или язвить — только помочь никто никому не может.
Есть лишь одна возможность добраться с одного островка на другой — опасные прыжки, при которых рискуешь не одними только ногами. Вот и начинается вечное скаканье туда-сюда — с его непопаданиями и смешными промахами; ведь, случается, двое прыгают одновременно, а встречаются только в воздухе, и оба после столь тягостной перипетии остаются на том же расстоянии друг от друга, что и прежде.
Если вдуматься, в этом нет ничего странного — ибо на деле мосты, по которым можно ходить друг к другу, приодевшись и приукрасившись, не в нас, а за нами, точь-в-точь как на ландшафтах Фра Бартоломео или Леонардо, Ведь на деле жизнь достигает вершин в отдельных личностях. А тропинка от одной вершины к другой идет через широкие долы.
Рильке. О мелодии вещей
ПРИМЕР ПРАВОСЛАВНОГО ПОНИМАНИЯ РОЛИ ЖЕНЩИНЫ В ХРИСТИАНСКОМ БРАКЕ
Из письма Понтия Миропия Аниция Паулина (Павлина Милостивого, епископа Ноланского) и его супруги Тересии (Pontius Meropius Anicius Paulinus et Theresia) к Апро и Аманде (Письмо XLIV, 3-4).
-
В твоем письме вырисовывается облик твоей жены, не той, что ведет своего мужа к вялости и жадности, но той, которая благодаря своей умеренности и силе вновь становится «кость от кости» своего мужа. Удивительна эта женщина в ее подражании браку Бога с Церковью...
Благословенны вы в Господе, соделавшем из обоих одно (см. Еф. 2, 14), Который из двух создал в Себе Самом одного нового человека, (см. Еф. 2, 15), Который един творящий чудеса (Пс. 71, 18), который обращает не только души, но также и чувства, временное - в вечное. Вот вы те же супруги, что были прежде, вы те же и в то же время - не те...
Благословенна твоя супруга между женами... Поистине ее фундамент основан на камне, на котором дом, построенный однажды, не упадет, и стала она для тебя крепкой защитой от врага (Пс. 60, 4), с благочестивым усердием разбивающая неистовые волны мира сего, дабы ты, огражденный от моря, мог спокойно вести в порт Церкви корабль разума своего, постоянно размышляя о замыслах и действиях Божиих... Твоя подруга, в силу духовной любви взяв на себя все физические заботы, так что ее рабство стало ценой твоей свободы, однако служит не миру, но Христу и из любви к Нему выносит тяготы мира, дабы освободить от них тебя.
Поистине, согласно делу и слову Божию, она дана тебе в помощницы и, повинуясь инстинкту, влечется к тебе, склоняясь по твоему кивку, останавливается там, где ты пребываешь, следует по твоим стопам, оживает в твоей душе, тратит свою жизнь ради твоей, дабы затем найти в ней отдохновение. Ибо она обременяет себя заботами мира сего, дабы ты был свободен от них, трудится в поте лица своего, дабы ты мог думать о делах небесных. Кажется, что она с головой ушла в мирские дела, но это для того, чтобы не они обладали тобою, но Христос. Ее воля не противоречит твоим намерениям, но, что еще более удивительно, общая вера отделяет ее от тебя в ее действиях, чтобы соединиться с тобой в воле...
О такой супруге написано, что уверено в ней сердце мужа ее, (Прит. 31, 11) поскольку она воздает ему добром, а не злом, во все дни жизни своей (Прит. 31, 12); и потому ты можешь не беспокоиться о том, что происходит в твоем земном доме, но свободно и ревностно заботиться о том, что совершается в доме небесном... Ты глава ее во Христе, а она для тебя опора, благодаря которой ты можешь идти по пути Господа... И потому будет ей дано от плода рук ее, и муж ее будет прославлен у ворот дел ее в Господе, Который готовит вам общую жатву, посеянную теми делами, которые вы совершили с различными усилиями, но с равной любовью...
*
…Приняв духовный сан, Павлин, по обычаю того времени, не развелся с женою, но сохранил с нею братские отношения, что и объясняет сам, говоря, «что они и теперь соединены, но другим образом; что они остались те же, но изменились». Тереза до самой смерти находилась около того, кто прежде был ее мужем, и письма, которые св. Павлин посылал своим современникам, величайшим епископам и известнейшим богословам, чтобы обменяться с ними мнениями или сообщить о своих сомнениях, всегда подписаны именем Терезы, наравне с его собственным именем: Paulinus et Theresia peccatores; и в ответ к нему всегда заботливо упоминается, что письмо написано для обоих.
Св. Иероним удачно объяснил роль женщины, оказавшейся в подобном положении. Он написал одному испанцу, последовавшему примеру св. Павлина: «с вами та, которая была прежде вашей женой, вы обратили ее в сестру; она была женщиной, и стала мужчиной; она была вашей подчиненной, теперь она вам равная» (Epist., 71).
-
Из книги: Артуро Каттанео с участием Влаимира Зелинского и Наталии Костомаровой «Брак: дар и служение. Заметки о том, как подготовиться к браку и о том, как сохранить его молодость». Международный Благотворительный Фонд имени Александра Меня. Рига. 2001. с. 104-105.
+
ПОНТИЙ МИРОПИЙ АНИЦИЙ ПАУЛИН (Павлин Ноланский) и ТЕРЕСИЯ (Pontius Meropius Anicius Paulinus et Theresia)
Иллюстрация из книги: Histoire de saint Paulin de Nola par M. L’abbe F. Lagrange. Diuxieme edition. I. Paris. Librairie poussielgue freres rue Cassette, 15. 1881.