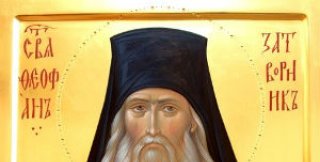Дневник
«...В Каталонии, в росписи церкви Санта Мария Эстерри в Ане присутствует Теофания с пророками Исайей и Иезекиилем, что говорит о привнесении этой иконографии в романское искусство Каталонии православными, бежавшими от иконоборчества».
-
Источник:
«ОЧИЩЕНИЕ УСТ ПРОРОКА ИСАЙИ»
Как ветхозаветный прообраз евхаристии в храмовых росписях христианского востока
*
Юлия Садовская. Альманах «Альфа и Омега», № 24, 2000.
-
Очищение уст Исайи — часть видения Пророка, ветхозаветный прообраз Евхаристии. Кроме того, оно символизирует Воплощение Господне, возвещает Рождество Христово. Исайя — один из четырех великих пророков, называемый также ветхозаветным евангелистом по ясности своих пророчеств. Согласно тексту книги, в видении Исайе предстает Господь на престоле в окружении Сил Небесных. И к Пророку как к человеку с нечистыми устами посылается Серафим: “Тогда прилетел ко мне один из Серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника, и коснулся уст моих и сказал: вот, это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен” (Ис 6:6–7).
Глубоко и значительно это место книги Пророка; его многократно толковали Отцы Церкви. Его евхаристическое значение раскрывается в том, что причащальная лжица была названа тем же словом, что и клещи (labj), которыми Серафим берет уголь с жертвенника (по тексту Септуагинты).
Тексты евхаристических молитв святителя Иоанна Златоуста и преподобного Симеона Метафраста говорят о символической тождественности угля жертвенника и Святых Даров:
Но да будет ми угль Пресвятого Твоего Тела;
Давый пищу мне плоть Твоею волею, огнь сый и опаляяй недостойныя;
Слове Божий и Боже, угль Тела Твоего;
Трепещу, приемля огнь, да не опалюся яко воск и яко трава;
Страхом приступи, да не опалишися: огнь бо есть.
О значении этой сцены как знака Пришествия Господня во плоти и Рождества говорит большая часть текстов, отмечая при этом ясность и очевидность евхаристического смысла. В толковании на Исайю святителя Василия Великого сказано: то, что Серафим взял угль клещами, символизирует неприступную святость алтаря, а угль означает Воплощение как соединение огня и вещества землистого, грубого; природа этого огня та же, что и крещение Духом и огнем (Мф 3:11) [1]. Священномученик Мефодий Патарский называет руки Богоматери клещами, несущими Христа Симеону [2]; гимнограф Иоанн Монах говорит, что Богоматерь есть умственные, мысленные клещи, несущие угль пламенеющий, то есть истинного Христа [3]; святитель Софроний Иерусалимский заключает, что клещи, как сказано пророком Исайей, означают Деву, возносящую Хлеб Небесный [4].
Углем называют Господа Иисуса Христа и церковные песнопения, клещами же — руки Богоматери. 2-й тропарь 5-й песни канона преподобного Косьмы Маюмского на Сретенье: “Огнь, — рече, носиши, Чистая / Младенца боюся объяти Бога / Света Невечернего и миром владычествующа”; 3-й тропарь: “Ты, якоже клещами, руками просвещаешь мя, подавши, Егоже носиши”. Отрывок минейного чтения на Сретенье: “Угль, проявлейся / Божественному Исайи, — Христос, яко клещами, / руками Богородицы / ныне старцу дается” [5]. В песни на память Исайи говорится о Рождестве и Воплощении: “Угля Мысленного, Чистая Богоневесто, Исайя Егоже виде носиши на руку, Богомати, зраку нашему соединяема и миру спасение светло подающа, тем Тя вси величаем” [6].
В памятниках византийского искусства сюжет “Очищение уст пророка Исайи” не является редким. Можно привести несколько примеров в миниатюрах рукописей (Ватиканская рукопись Косьмы Индикоплова, гомилия Иакова Коккиновафского (Par. gr. 1208), Псалтирь Ватопедского монастыря на Афоне (cod. 760), Псалтирь Афинской национальной библиотеки (cod. 7)).
В некоторых вариантах, как в миниатюре Косьмы Индикоплова, вместо Серафима изображен ангел. Вероятно, это может быть объяснено влиянием Дионисия Ареопагита, который в “Небесной иерархии” утверждает, что к пророку не мог быть послан серафим, так как это нарушило бы порядок ангельских чинов, а был послан ангел, по сути своего служения названный Серафимом, то есть “пламенеющим” [7].
Очевидно, что в византийском сознании символическое значение этой сцены как знака Евхаристии, в той же мере как и знака Воплощения, было общепонятно. Но в монументальной живописи известно лишь немного примеров этого сюжета в алтарной росписи именно в значении прообраза. Французская исследовательница К. Жоливе-Леви, перечисляя эти примеры, считает этот сюжет сугубо каппадокийской особенностью, основанной на тексте Арефы Кесарийского IX в., — его толковании на Апокалипсис [8].
Действительно, в алтарную роспись нескольких каппадокийских храмов включена сцена “Очищения уст Исайи”; таких храмов, по последним данным Жоливе-Леви, восемь. Один из наиболее интересных — церковь Трех Крестов. Сцена “Очищение уст Исайи” включена также в изображение Теофании (Богоявления) в алтарной росписи церкви Айвали.
Особенности местного каппадокийского ландшафта обусловили возникновение множества пещерных храмов и косвенно повлияли на сохранение сотен квадратных метров монументальной живописи, дошедшей до наших дней.
Каппадокия лежит в горной местности в самом центре малоазийского полуострова. На ее южной границе находится город Ниссы (совр. Невшехир), на восточной границе — Кесария (совр. Кайсери), места, связанные с именами двух великих Каппадокийцев — святителя Василия Великого и святителя Григория, епископа Нисского.
С именем святителя Василия Кесарийского связано появление в горах Каппадокии киновий — общежительных монастырей. Святитель Василий, получивший классическое образование в Константинополе и Афинах, по возвращении на родину крестился и отправился в путешествие по Сирии и Египту, чтобы увидеть тамошних подвижников [9]. С 370 года Василий становится архиепископом Кесарии Каппадокийской и одновременно организатором монашеской жизни, родоначальником малоазийского монашества. К тому времени в Каппадокии уже существовало иночество, но оно состояло из анахоретов, живших поодиночке и не подчинявшихся единому уставу. Святитель же начал собирать подобных отшельников в небольшие братства, чтобы монахи жили сообща, имея все общее и во всем подчиняясь одному настоятелю.
Итогом деятельности святителя Василия явилось множество монастырей и обителей, возникших повсюду в Малой Азии и особенно в Каппадокии. Гористая местность, еще в эллинистические времена лишенная хороших дорог, мягкость известняковых и песчаниковых пород, легких в обработке — все это способствовало построению там большого числа монашеских обителей, вырубленных в скалах.
По данным западноевропейских ученых, в Каппадокии сохранилось около 150 храмов VIII–XIV вв. с росписями. Дошедшие до наших дней росписи представляют огромную ценность для истории церковной жизни — во-первых, из-за самого количества стенной живописи; во-вторых, из-за сохранения там вследствие иконоборчества и удаленности от центров Византийской империи древних и редких образцов иконографии; в-третьих, из-за сохранности живописи без позднейших записей и поновлений.
Церковь Трех Крестов, расположенная в долине Гюллю Дере района Гереме в центре Каппадокии, представляет собой небольшой храм, вырубленный в массиве песчаниковой скалы параллельно ее поверхности: центральная ось (восток-запад) совпадает с направлением продольного сечения горы. Единого мнения о времени создания храма нет; Н. Тьерри относит его к IX в., М. Рестле датирует 1-й половиной X в., Н. Тетерятникова высказывает предположение о принадлежности самого храма к VI в. на основании архитектурных элементов (не упоминая о времени росписи).
Алтарная апсида представляет собой шаровидный объем и соединена с основным пространством храма арочным проемом. Потолок апсиды уплощен, по форме это почти правильный круг, в самом его центре высечен рельефный медальон с крестом. Роспись потолка алтарной апсиды — Теофания: в восточной части расположен образ Спасителя на престоле во славе, окруженный тетраморфом — символами Евангелистов в радужной мандорле (“В каком виде бывает радуга на облаках во время дождя, такой вид имело это сияние кругом”, Иез 1:28; “…и радуга вокруг престола, видом подобная смарагду”, Откр 4:3).
Далее следуют образы трех высших ангельских чинов: Престолы, в виде голубых многоочитых колес; четырехкрылые Херувимы с четырьмя ликами; шестикрылые Серафимы. В центр потолка около рельефного медальона вписаны изображения светил и благословляющей Десницы Божией.
Серафимы склоняются к двум пророкам, Исайе и Иезекиилю, которые изображены коленопреклоненными и с прикровенными скрещенными руками. Исайе Серафим протягивает клещами уголь, Иезекиилю же Серафим подает свиток («И сказал мне: “сын человеческий! Съешь <…> этот свиток, и иди, говори дому Израилеву”», Иез 3:1). Замыкают композицию два архангела-диакона с рипидами.
Итак, в апсиде изображены три высших ангельских чина — Престолы, Херувимы, Серафимы. Иерархия небесных сил сформулирована и изложена в сочинениях Дионисия Ареопагита, который первым привел в законченный вид воззрение на христианское богослужение как на обширную систему символов и священнодействий, служащих таинственным выражением скрытых и возвышенных идей. Его трактаты служили опорой для иконопочитателей. Первоисточниками же являются тексты ветхозаветных пророков-боговидцев Иезекииля, Даниила, Исайи и Апокалипсис Иоанна Богослова. Небесные силы — один из самых мистических образов, знаменующий славу Божию непознаваемым для человеческого ума путем. Ареопагит говорит в одной из глав трактата “О небесной иерархии”, что священные изображения представляют подобия небесных порядков, и что “до какой простоты через эти образы надлежит возвыситься, чтобы и мы, подобно большинству, святотатственно не полагали, что небесные богоподобные умы суть некие многоногие и многоликие…” [10].
На потолке между медальоном, солнцем и луной расположено желто-зеленое полотнище многоугольной формы, расчерченное на клетки. Это могут быть ризы Христа, написанные под крестом на медальоне. Предположение могут подтвердить изображения риз Христа на крестах в алтарных апсидах Красного монастыря и монастыря святого Антония в Египте [11].
Изображение Теофании следует текстам видений пророков-боговидцев Исайи и Иезекииля, Апокалипсиса Иоанна Богослова и основано на древних восточных литургиях. Эта иконография была распространена на христианском Востоке в монашеской среде византийских провинций и была воспринята также в романском искусстве. Роспись апсиды — это и образ Небесной литургии. Этому смыслу подчинены все изображения, ее составляющие. Пророки присутствуют здесь не только как боговидцы, но и как участники Небесной литургии, занимая традиционное место Апостолов.
Существует также ряд примеров данного сюжета в росписях египетских монастырей (для коптов было характерно мыслить четырьмя ветхозаветными прообразами Евхаристии; это жертвоприношение Авраама (Быт 22:1–19) и жертвоприношение Иеффая (Суд 11:30–40) — судьи, принесшего по обету в жертву свою дочь [12], и “Очищение уст Исайи” и “Встреча Авраама и Мелхиседека” (Быт 14:17–20)). Это росписи церквей коптских монастырей преподобного Антония Великого на Красном море (XIII в.) и Макария Великого в Нитрийской пустыне (XI–XIII вв.)
Есть сведения о подобных росписях в грузинских храмах [13]. В Каталонии, в росписи церкви Санта Мария Эстерри в Ане присутствует Теофания с пророками Исайей и Иезекиилем, что говорит о привнесении этой иконографии в романское искусство Каталонии православными, бежавшими от иконоборчества.
Само перечисление этих храмовых росписей говорит об общевосточнохристианской традиции, распространившейся по окраинам христианского мира. И в заключение можно привести слова преподобного Иоанна Дамаскина:
“Исайя увидел угль; но угль не простое дерево, а соединенное с огнем; так и хлеб общения не простой хлеб, но соединенный с Божеством <…>
Мелхиседек, священник Бога Вышнего, хлебом и вином приветствовал Авраама, возвращавшегося после поражения иноплеменников. Та трапеза прообразовала эту таинственную трапезу, как и тот священник был образом и подобием истинного первосвященника — Христа. Ибо ты, говорит Писание, иерей во век, по чину Мелхиседекову” [14].
-
1. Святитель Василий Великий. Творения. Ч. II. Толкование на пророка Исайю. М., 1993. С. 203–204.
2. Methodii Sermo de Symeone et Anna // PG 18, 364B.
3. Joannis Monachi Hymnus in Sanctum Blasium // PG 96, 1402C.
4. Sophronii Patriarchae Hierosolumitani Commentarius Liturgicus // PG 87, 3985B.
5. Минея. Т. 6. Февраль. М., 1981. C. 23, 32.
6. Минея. Т. 9. Май. М., 1987. C. 361.
7. Дионисий Ареопагит. О небесной иерархии. СПб., 1997. С. 11.
8. Jolivet-L—vi C. Les glises byzantines de Cappadoce. Le programme iconographique de l’abside et de ses abords. Paris, 1991. P. 33.
9. Флоровский Г. Восточные отцы IV века. М., 1992. С. 57–90.
10. Дионисий Ареопагит. О небесной иерархии. С. 11.
11. Бок В. Г. Материалы по археологии христианского Египта. СПб., 1901; Coptic art. Wall-paintings. Vol. I. Cairo, 1989.
12. Редкийсюжет. См. van Loon G. The Sacrifice by Abraham and the Sacrifice by Jephtah in Coptic Art // Coptic Art and Culture. Cairo, 1990. P. 43–54. Единственная аналогия находится на виме церкви святой Екатерины на Синае справа от алтаря, слева же расположено “Жертвоприношение Авраама”. Эта энкаустическая живопись была атрибутирована и датирована VII в. К. Вейцманом; см. Weitzmann K. The Jephtah Panel in the Bema of the Church of St.Catherine’s Monastery on Mount Sinai. DOP, 18, 1964.
13. Velmans T., Alpago Novello A. Miroir de l’invisible. Peinture murale et architecture de la G¹orgie (VIe–XVe s.). Paris, 1996.
14. Святой Иоанн Дамаскин. Точное изложение православной веры. О святых и пречистых таинствах Господних. М., 1998. С. 223–224.
Православная Каталония
«Стихи пишутся для того, чтобы их написать, а не для того, чтобы их читать или печатать, это все уже пришло потом, самое важное, что стихи написаны и написаны они для того, чтобы их написать. Для этого и существует поэзия, а будут их читать или нет, я бы сказал, что это вторичное дело».
Арсений Тарковский, на вечере памяти Марии Петровых 22 октября 1979
Георгий Иванов воспоминал слова Ахматовой: «„Это все равно что Лозинский сделал бы гадость”, — говорила Ахматова, когда хотела подчеркнуть совершенную невозможность чего-нибудь», и Николая Гумилева, шутившего, что, «если бы пришлось показывать жителям Марса образец человека, выбрали бы Лозинского — лучшего не найти»
* * *
«Гумилев считает его переводчиком выше Жуковского» -Александр Блок.
«Никогда Брюсов — крупнейший мастер перевода — не достигал подобного совершенства» - Георгий Адамович.
«Переводы Брюсова и Вячеслава Иванова <...> детский лепет и жалкая отсебятина рядом с переводами Лозинского» - Георгий Иванов.
Канадские экологи воспользовались лазейкой в законе и добились официального признания реки Мэгпай в провинции Квебек личностью. Этот статус подтвержден решениями местного совета Инну и местного муниципалитета Мингани.
Теперь река законно имеет свои права и свободы. Никто не может ее уничтожить или «взять в рабство». Кроме того, у нее могут быть и официальные опекуны — люди, которые проживают ближе всего к ее берегам.
Признание реки личностью было важным шагом по ее спасению. Экологи пошли на это, чтобы защитить реку от посягательств гидроэнергетической компании Hydro Quebec. По словам активистов, их вдохновил опыт новозеландских коллег, которые в 2017 году через суд добились признания личностью реку Вангануи.
Различение добра и зла
Подобно тому, как для проверки истинности нашего пути к Богу старец считал, что вторая заповедь - о любви к ближнему является верным руководящим началом, так и для распознавания добра от зла верным показателем является не столько святая и высокая по своей внешней формулировке цель, сколько средства, избираемые для достижения этой цели.
Абсолютен только Бог. Зло, не будучи самосущным бытием, а лишь противлением свободной твари начальному Бытию - Богу, не может быть абсолютным, и потому зло в чистом виде - не существует, и не может существовать. Всякое зло, совершаемое свободными тварями, по необходимости паразитарно живет на теле добра, ему необходимо найти себе оправдание, предстать облеченным в одежду добра, и нередко высшего добра. Зло всегда неизбежно смешивается с некоторой долей положительного по форме искания, и этой своей стороной «прельщает» человека. Свой положительный аспект зло стремится представить человеку, как ценность настолько важную, что ради достижения ее - дозволены все средства.
В эмпирическом бытии человека абсолютное добро не достигается; во всяком человеческом начинании начальствует некоторая доля несовершенства. Наличие несовершенств в человеческом добре, с одной стороны, и неизбежное наличие доброго предлога во зле - с другой, делает различение добра от зла очень трудным.
Старец считал, что зло всегда действует «обманом», прикрываясь добром, но добро для своего осуществления не нуждается в содействии зла, и потому там, где появляются недобрые средства (лукавство, ложь, насилия и подобное), там начинается область, чуждая духу Христову. Добро злыми средствами не достигается, и цель не оправдывает средств. «Добро, недобро сделанное, - не есть добро». Это завет нам от апостолов и от святых отцов. Если нередко побеждает добро и своим явлением исправляет зло, то неправильно думать, что к этому добру привело зло, что добро явилось результатом зла. Это невозможно. Но сила Божия такова, что там, где она является, она исцеляет все без ущерба, ибо Бог - полнота жизни и творит жизнь из ничего.
Архимандрит Софроний (Сахаров)
Старец Силуан Афонский
Детские воспоминания о преподобном Серафиме Саровском его современницы Н. Аксаковой
Много с тех пор в продолжении следующих семидесяти лет моей жизни видала я и умных, и добрых, и мудрых глаз, много видала и очей, полных горячей искренней привязанности, но никогда с тех пор не видала я таких детски-ясных, старчески прекрасных глаз, как те, которые в это утро так умильно смотрели на нас из-за высоких стеблей лесной травы. В них было целое откровение любви…
Улыбку же, покрывшую это морщинистое изнуренное лицо, могу сравнить разве только с улыбкой спящего новорожденного, когда, по словам нянек, его еще тешат во сне недавние товарищи – ангелы…»
Отшельник 1-й четверти XIX столетия и паломники его времени
На этих днях Церковь и народ православной России, с Царской семьей во главе, благоговейно отпраздновали давно ожидаемое великое духовное торжество – открытие мощей преподобного Серафима, Саровского Чудотворца. Тысячами со всех концов России тянутся уже проторенной народом тропой богомольцы поклониться честным мощам угодника Божия с теплой верой в могучее предстательство на Небесах прославленного ныне Церковью молитвенника о душах наших. Толки о радостном событии невольно вызывают в памяти картины давно, давно минувших дней моего детства: прошедшее словно оживает передо мной и в воображении рисуется ярко образ подвижника муромских лесов, каким мне досталось великое счастье видеть его около трех четвертей века тому назад. Вероятно, очень немного нового прибавят мои воспоминания к тому, что уже известно о житии и подвигах преподобного Серафима, но, мне кажется, личные показания очевидца должны иметь в настоящее время некоторое значение, а потому мне хочется рассказать, насколько я могу припомнить, о том, чему я была свидетельницей при посещении Саровской пустыни в 1831 или 1832 году.
Не могу теперь вспомнить, за дальностью времени, ближайших причин, побудивших отца моего и мать сняться с гнезда своего в Нижнем Новгороде и отправиться в муромские леса, забрав с собой всю громадную семью, от старших подростков до младенца у груди матери, и чуть ли не всю дворню, – одним словом, по тогдашнему выражению, – чадцев и домочадцев, весь дом свой…
Шло и ехало большинство паломников ради выполнения обета, данного в ту или другую трудную минуту жизни.
А благодарить было за что в те далекие времена. Еще свежи были в памяти каждого ужасы двенадцатого года. Немало было дано обетов в эту страшную годину и бедными и богатыми людьми. Затем пошли радости освобождения, ликования и торжества неслыханных побед. Подъема общественного духа достало более чем на десятки лет. А где подъем духа – там и влечение к подвигу.
И вот… незадолго до описываемых событий над страной стряслась новая общественная беда: случился первый грозный натиск неведомой до тех пор азиатской гостьи – холеры. И что же? – Те же люди того же самого поколения, которые при нашествии иноплеменника сплотились дружным отпором как один человек, глубоко прочувствовав общую солидарность перед общей всем бедой, теперь поспешили стушеваться, укрыться каждый в свою нору. Страх за себя, за себя лично охватил каждого. Люди смотрели зверем на прохожего, ограждая жилье свое кострами и куревом. Человек опрометью перебегал через улицу, завидев человека вдалеке. Проезжий в страхе заезжал с возом своим в сугроб только бы не дохнуть ему зараженным, может быть, дыханием встречного.
Но, к счастью, сократились и эти дни.
Снялись карантинные заставы, снова стала скатертью дорога по всей шири и глади нашей земли. Народ снова хлынул по всем местам привольного богомолья.
Вот в это-то самое время мне с сестрами и братьями (теперь уже давно покойными) привелось застать отшельника муромских лесов в самый разгар его подвижнических работ.
Ехали мы на долгих… Живо помню прелесть привалов у лесной опушки с кострами около ручья или над колдобиной в лесу, с самоварами под тенью дерев, – со всем раздольем полуцыганского кочевья…
Помню ночевки в громадных селах богатого, зажиточного края: в просторной, недавно срубленной избе сладко засыпалось под жужжанье бабьих веретен… Смотришь спросонья – а бабы все прядут, молча прядут, а не далеко за полночь. Седая свекровь то присаживается, то снова встает, мерными, как маятник, движениями вставляя лучину за лучиной в высокий светец… А с высоты светца сыплются искры брызгами, огненным дождем придавая молчаливому труду крестьянок в ночной тиши что-то фантастическое, сказочное…
После каждого ночлега, после каждого привала все длиннее и длиннее становился поезд саровских богомольцев. Люди любили в те времена держаться вместе, подъезжая к небезопасной тогда местности муромского бора.
Помню, как по сыпучим пескам большой дороги медленно и грузно тянулась вереница наших экипажей, огибая опушку грозного хвойного леса. К хвосту поезда одна за другой примыкали крестьянские телеги; пешие богомольцы усердно месили ногами сыпучий песок, только бы не отстать им и не лишиться охраны поезда. Изредка раздавался ружейный выстрел: это тешился старый пленный турок, когда-то вывезенный дедом. Теперь он в качестве не то буфетчика, не то домоправителя важно восседал на широких козлах бабушкиного дормеза, приговаривая после каждого выстрела что-нибудь вроде: «А пущай их пужаются там в лесу».
Общего вида Саровской обители при въезде что-то не могу припомнить. Дело было, вероятно, к вечеру, и мы, дети, вздремнули, прикорнув на коленях старших.
При входе в длинную, низкую со сводами монастырскую трапезу нас, детей, охватила легкая дрожь, не то от сырости каменного здания, не то просто от страха. В самой середине трапезы монах, стоя за аналоем, читал Жития святых. Почетные гости сидели в глубоком молчании за длинным столом направо. Лениво кушали «почетные», брезгливо черпая деревянными ложками из непривычной для них общей чаши. Крестьяне за другим столом налево усердно хлебали вкусную монастырскую пищу. Те и другие молчали. Под тускло освещенными сводами раздавался только монотонный голос чтеца да сдержанное шарканье по каменному полу туфель служек, разносивших кушанье в деревянных чашках и на деревянных же лотках.
В эту ночь нас, детей, не будили к заутрени, и попали мы лишь к обедне. Отца Серафима у службы не было, и народ прямо из церкви повалил к тому корпусу, в котором находился монастырский приют отшельника. К богомольцам примкнула и наша семья. Долго шли мы под сводами нескончаемых, как мне тогда казалось, темных переходов. Монах со свечой шел впереди. «Здесь», – сказал он и, отвязав ключ от пояса, отпер им замок, висевший у низенькой узкой двери, вделанной в глубь толстой каменной стены.
Нагнувшись к двери, старик проговорил обычное в монастырях приветствие: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас». Но ответного «Аминь», как приглашения войти, не последовало. «Попробуйте сами, не откликнется ли кому из вас», – сказал старик вожатый, обращаясь к богомольцам. Обычный возглас у закрытой двери повторил и отец мой и другие, – пробовали и женщины и дети… «Чтобы вам, Алексей Нефедович», – робко пригласила мать высокого господина в отставном гусарском мундире, человека еще молодого по гибкости стана и блеску черных глубоких глаз, – старца же по седине в усах и по морщинам, бороздившим высокий лоб. Алексей Нефедович Прокудин быстро прошел к двери, нагнулся к ней и с уверенностью друга дома, с улыбкой уже готового привета на лице мягко проговорил знакомым нам грудным тенором: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас». На его симпатичный голос не послышалось однако ответа из-за закрытой двери. «Коли вам, Алексей Нефедович, не ответил, стало быть, старца-то и в келлии нет. Идти разве, понаведаться под окном, не выскочил ли он, как послышался грохот вашего поезда на дворе». Мы вышли за седеньким вожатым из коридора другим, уже более коротким путем. Обогнув за ним угол корпуса, мы очутились на небольшой площадке, под самым окном отца Серафима. На площадке этой между двумя древними могилами действительно оказались следы от двух, обутых в рабочие лапти, ног. «Убег», – озабоченно проговорил седенький монашек, смущенно поворачивая в руках ненужный теперь ключ от опустевшей келлии. «Эхма», – глубоко вздохнул он, смиренно возвращаясь к делу своего послушания как вожатого богомольцев по монастырской святыне. Толпа их между тем уже теснилась около стоявшей поодаль древней могилы с чугунным гробиком поверх земли вместо памятника. Кто, крестясь, прикладывался к холодному чугуну, кто сгребал из-под гробницы сыпучий песок в угол шейного платка… Три раза перекрестившись, монах поклонился перед древней могилой до самой земли. До земли же за ним поклонился и весь народ. «Отец наш Марк», – начал инок свой обычный монастырский сказ: «Отец наш Марк спасался в этих самых л есах, когда еще только обстраивалась впервой эта обитель наша. Супостаты лесные грабители окаянные не раз калечили его в бору, выпытывая от него место, где зарыты, будто бы, монастырские сокровища, и, наконец, с досады вырвали у него язык. Десятками лет жил затем мученик в бору нашем уже невольным молчальником.
И вот за все терпение его при жизни дает теперь Господь гробнице его чудодейственную силу. Как вы знаете, много уже чудес творилось над этой могилой, – а мы, недостойные его братья, поем здесь панихиды, выжидая, когда Богу угодно будет явить из-под спуда его святые мощи».
Толпа богомольцев почтительно расступилась, прервав речь монаха: шел сам игумен с певчими служить обычную воскресную панихиду над могилой давно усопшего брата.
После панихиды отец игумен благословил нас, богомольцев, отыскивать отца Серафима в бору: «Далеко ему не уйти, – утешил игумен, – ведь он, как и отец наш Марк, сильно калечен на своем веку. Сами увидите: где рука, где нога, а на плечике горб. Медведь ли его ломал… люди ли били… ведь он, что младенец, – не скажет. А все вряд ли вам отыскать его в бору. В кусты спрячется, в траву заляжет. Разве сам откликнется на детские голоса. Забирайте детей-то побольше, да чтоб наперед вас шли. Непременно бы впереди бегли», – кричал еще игумен вослед уже двинувшейся к лесу толпе.
Весело было сначала бежать нам одним, совсем одним; без присмотра и без надзора бежать по мягкому, бархатному слою сыпучего песка. Нам, городским детям, то и дело приходилось останавливаться, чтобы вытрясти мелкий белый песок из той или другой прорезной (модной в то время) туфельки. Деревенские же босоножки, подсмеиваясь, кричали нам на ходу: «чего не разуетесь… легче будет». Лес же становился все гуще и рослее. Нас все более и более охватывало лесной сыростью, лесным затишьем, и терпким непривычным запахом смолы. Под высокими сводами громадных елей стало совсем темно… И деревенским и городским сделалось жутко в мрачном бору. Хотелось плакать…
По счастью, где-то вдалеке блеснул, засветился солнечный луч между иглистыми ветвями… Мы ободрились, побежали на мелькнувший вдалеке просвет, и скоро все врассыпную выбежали на зеленую, облитую солнцем поляну.
Смотрим: около корней отдельно стоящей на полянке ели работает, пригнувшись чуть ли не к самой земле, низенький, худенький старец, проворно подрезая серпом высокую лесную траву. Серп же так и сверкает на солнечном припеке.
Заслышав шорох в лесу, старичок быстро поднялся, насторожив ухо к стороне монастыря, и затем, точно спугнутый заяц, проворно шарахнулся к чаще леса. Но он не успел добежать, запыхался, робко оглянувшись, юркнул в густую траву недорезанной им куртины и скрылся у нас из вида. Тут только вспомнился нам родительский наказ при входе в бор, и мы чуть ли не в двадцать голосов дружно крикнули: «Отец Серафим! Отец Серафим!»
Случилось как раз то, на что надеялись монастырские богомольцы: заслышав неподалеку от себя звук детских голосов, отец Серафим не выдержал в своей засаде и старческая голова его показалась из-за высоких стеблей лесной травы. Приложив палец к губам, он умильно поглядывал на нас, как бы упрашивая ребяток не выдавать его старшим, шаги которых уже слышались в лесу.
Смоченные трудовым потом желтоватые волосы пустынника мягкими прядями лежали на высоком лбу: искусанное лесной мошкарой лицо его пестрело запекшимися в морщинах каплями крови. Непригляден был вид лесного отшельника. А между тем когда, протоптав к нам дорожку через всю траву, он, опустившись на траву, поманил нас к себе, крошка наша Лиза первая бросилась старичку на шею, прильнув нежным лицом к его плечу, покрытому рубищем. «Сокровища, сокровища», – приговаривал он едва слышным шепотом, прижимая каждого из нас к своей худенькой груди.
Мы обнимали старца, а между тем замешавшийся в толпу детей подросток, пастушок Сема, бежал со всех ног обратно к стороне монастыря, зычно выкрикивая: «Здесь, сюда. Вот он… Вот отец Серафим. Сю-ю-да-а». Нам стало стыдно. Чем-то вроде предательства показались нам и выкрикивания наши, и наши объятия. Еще стыднее стало нам, когда две мощные запыхавшиеся фигуры, не помню, мужчин или женщин, подхватили Cтарца под локотки и повели к высыпавшей уже из леса куче народа. Опомнившись, мы бросились вдогонку за отцом Серафимом… Опередив своих непрошеных вожатых, он шел теперь один, слегка прихрамывая, к своей хибарке над ручьем. Подойдя к ней, он оборотился лицом к поджидавшим его богомольцам. Их было очень много. «Нечем мне угостить вас здесь, милые», – проговорил он мягким, сконфуженным тоном домохозяина, застигнутого врасплох среди разгара рабочего дня. «А вот деток, пожалуй, полакомить можно», – вспомнил он, как бы обрадовавшись собственной догадке. И затем, обратившись к подростку, брату нашему, сказал: «Вот у меня там грядки с луком. Видишь? Собери всех деток, нарежь им лучку; накорми их лучком и напой хорошенько водой из ручья». Мы побежали вприпрыжку исполнять приказание отца Серафима и засели между грядками на корточках. Лука, разумеется, никто не тронул. Все мы, залегши в траве, смотрели из-за нее на старичка, так крепко прижавшего нас к груди своей.
Получив его благословение, все стали поодаль почтительным полукругом и так же, как и мы, смотрели издали на того, кого пришли посмотреть и послушать.
Много было тут лиц, опечаленных недавним горем: большинство крестьянок повязано было в знак траура белыми платками. Дочь старой нашей няни, недавно умершей от холеры, тихо плакала, закрыв лицо передником.
«Чума тогда, теперь холера», – медленно проговорил пустынник, как будто припоминая про себя что-то давно, давно минувшее.
«Смотрите, – громко сказал он, – вот там ребятишки срежут лук, не останется от него поверх земли ничего… Но он подымется, вырастет сильнее и крепче прежнего… Так и наши покойнички, – и чумные, и холерные… и все восстанут лучше, краше прежнего. Они воскреснут. Воскреснут. Воскреснут, все до единого…»
Не к язычникам обращался пустынник с вестью о воскресении. Все тут стоявшие знали смолоду «о жизни будущего века». Все менялись радостным приветствием в «Светлый день». А между тем это громкое: «Воскреснут. Воскреснут», провозглашенное в глухом бору устами, так мало говорившими в течение жизни, пронеслось над поляной как заверение в чем-то несомненном, близком.
Стоя перед дверью лесной своей хижинки, в которой нельзя было ни стать, ни лечь, старик тихо крестился, продолжая свою молитву, свое немолчное молитвословие… Люди не мешали ему, как не мешали непрестанной его беседе с Богом ни работа топором, ни сенокос, ни жар, ни холод, ни ночь, ни день.
Молился и народ.
Над смолкнувшей поляной как будто тихий ангел пролетел.
Отделясь от богомольцев и впереди всех стояло хорошо знакомое нам грозное, гордое существо, – госпожа Зорина, далекая родственница моего отца. За ней толпился целый штат женской прислуги, одетой, так же как и она сама, в черное с белыми платками на голове. Старуху поддерживали под оба локотка две не то белицы, не то крылошанки в бархатных остроконечных шапочках. Наскучив торжественным затишьем лесной поляны с ее тихо молящимся народом, старая барыня проворчала, обращаясь ко двору своему: «Молиться успеем и дома. Приехала высказаться и выскажусь». И, подтолкнув в обе стороны своих приближенных, она выплыла с ними обеими на самую середину полукруга.
«Отец Серафим, отец Серафим, – громко позвала она отшельника. – Как вы мне посоветуете? Вот я, генеральша Зорина, вдовею тридцатый год. Пятнадцать лет проживаю, может, слыхали, – при монастыре со всеми этими своими. За все это время соблюдаю середы и пятницы; теперь задумала понедельничать, – так что вы на это скажете. Как посоветуете, отец Серафим?»
Ежели бы, появись, стая грачей пролетела, каркая, над толпой богомольцев, то не больше огорошили бы нас крикливые птицы, чем этот назойливый запрос госпожи Зориной, внезапно прервавший общее настроение.
И отец Серафим, как бы озадаченный, заморгал на нее своими добренькими глазками: «Я что-то не совсем понял тебя, – проговорил он и затем, подумав немного, прибавил, – ежели ты это насчет еды, то вот что я тебе скажу: как случится замолишься, забудешь о еде – ну и не ешь, не ешь день, не ешь два – а там, как проголодаешься, ослабеешь, так возьми да и поешь немного».
Улыбку умиления вызвало на всех лицах это мудрое решение вопроса, сделанное свековавшим в лишениях отшельником. Старая же чванливая ревнительница поста как-то неловко попятилась вместе со своими придворными, проворно укрывшись с ними в толпе своих. А между тем богомольцы ослабели, стоя на солнечной припеке. Тело каждого входило в свои права, требовало пищи, отдыха.
Отец Серафим поманил к себе Прокудина рукой: «Скажи им, – сказал он, – сделай милость, скажи всем, чтоб напились скорей из этого там родника. В нем вода хорошая. А завтра я буду в монастыре. Непременно буду».
Когда же все, утолив жажду, оглянулись, отца Серафима уже не было на пригорке перед хибаркой его, в которой ни встать, ни лечь. Только вдали за кустами шуршал серп, срезая сухую лесную траву.
В обратный к монастырю путь мы шли уже одни, семьей своей, соображаясь с усталой походкой бабушки, – матери моего отца. С нами был только Алексей Нефедович, да длинный ряд домочадцев тянулся на некотором расстоянии позади. Толпы богомольцев уже вступали в монастырские ворота, а мы все еще не выходили из широкого прохладного просека, в конце которого виднелись вдалеке главы монастырского собора.
Отец тихо запел, – что он всегда делывал, когда был между своими, и ему было хорошо на душе, – запели, как всегда, и обе старшие сестры и брат-подросток своим ангельским, еще полудетским голосом; подтягивал им глубокий тенор Прокудина. Отделившись от прочей прислуги, двинулись стороной Семен и Василий, обычные басы наших семейных песен, и скромный, но стройный хор огласил высокие своды просека: «Тебе поем, Тебе благословим, Тебе благодарим и молимся, Боже наш, Боже наш, Боже наш…» Звуки последнего «Боже наш» еще замирали в вышине, когда мы тихо выступали на монастырскую поляну. А между тем кроткий облик лесного старца невольно носился перед глазами поющих. Сестренка моя Лиза, та самая, которую так обнимал отец Серафим, называя ее сокровищем, сестренка моя крепко держалась за меня обеими руками. При выходе из лесной темноты она сжала мою руку и, взглянув мне вопросительно в лицо, проговорила: «Ведь отец Серафим только кажется старичком, а на самом деле он такое же дитя, как ты, да я. Не правда ли, Надя?»
Много с тех пор в продолжении следующих семидесяти лет моей жизни видала я и умных, и добрых, и мудрых глаз, много видала и очей, полных горячей искренней привязанности, но никогда с тех пор не видала я таких детски-ясных, старчески прекрасных глаз, как те, которые в это утро так умильно смотрели на нас из-за высоких стеблей лесной травы. В них было целое откровение любви…
Улыбку же, покрывшую это морщинистое изнуренное лицо, могу сравнить разве только с улыбкой спящего новорожденного, когда, по словам нянек, его еще тешат во сне недавние товарищи – ангелы.
На всю жизнь памятны остались мне саженки мелких дров вперемежку с копнами сена, виденные мной в раннем детстве на лесной прогалине, среди дремучего леса, посреди гигантских сосен, как будто стороживших этот бедный, непосильный труд хилого телом, но сильного Божией помощью отшельника.
С раннего утра следующего дня отец Серафим, согласно своему обещанию, оказался уже в монастыре.
Нас, паломников, он встретил, как радушный домохозяин встречает приглашенных им гостей, в открытых дверях внутренней своей келлии. Пребывания в пустыни не видно было на нем и следа: желтовато-седые волосы были гладко причесаны, в глубоких морщинах незаметно было крови от укушения лесных комаров; белоснежная полотняная рубаха заменяла заношенную сермягу; вся его особа была как бы выражением слов Спасителя: «Когда постишься, помажь главу твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не перед людьми, но перед Отцом твоим, Который втайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Лицо отшельника было радостное, келлия была заставлена мешками, набитыми сухарями из просфор. Свободным оставалось только место перед иконами для коленопреклонения и молитвы. Рядом со старым монахом стоял такой же мешок с сухарями, но открытый. Отец Серафим раздавал из него по пригоршне каждому подходящему к нему паломнику, приговаривая: «Кушайте, кушайте, светики мои. Видите, какое у нас тут обилие». Покончив с этой раздачей и благословив последнего подходящего, старик отступил полшага назад и, поклонившись глубоко на обе стороны, промолвил: «Простите мне, отцы и братья, в чем согрешил против вас словом, делом или мышлением». (Отец Серафим шел этот вечер на исповедь у общего для всех монастырских духовника). Затем он выпрямился и, осенив всех присутствующих широким иерейским крестом, прибавил торжественно: «Господь да простит и помилует всех вас».
Так закончилось наше второе свидание с преподобным Старцем. Как мы провели остаток этого дня не помню, но зато тем более ярко сохранился в моей памяти третий, и последний, день нашего пребывания в Саровской пустыни.
Исповедавшись, как я говорила, накануне, отец Серафим в этот день служил как иерей обедню в небольшой церкви. Размер ее позволял только немногим из паломников присутствовать при богослужении.
Вспомнив о нас, не попавших в храм, Преподобный выслал послушника сказать, что он выйдет к нам с крестом после богослужения.
Все мы, богатые и бедные, ожидали его, толпясь около церковной паперти. Когда он показался в церковных дверях, глаза всех были устремлены на него. На этот раз был он в полном монашеском облачении и в служебной епитрахили. Высокий лоб его и все черты его подвижного лица сияли радостью человека, достойно вкусившего Тела и Крови Христовых; в глазах его, больших и голубых, горел блеск ума и мысли. Он медленно сходил со ступеней паперти и, несмотря на прихрамывание и горб на плече, казался и был величаво прекрасен.
Впереди всей нашей толпы оказался в это время знакомый немецкий студент, только что приехавший к нам из Дерпта. Его рослая, красивая фигура и любопытство, с которым он смотрел на то, что ему казалось русской странной церемонией, не могли не привлечь внимание отшельника, и он ему первому подал крест. Книрим – так звали молодого немца – не понимая, что от него требуется, схватился за крест рукой и притом рукой в черной перчатке.
«Перчатка», – укоризненно сказал старик.
Немец же только окончательно сконфузился. Отец Серафим отступил тогда шага на два назад и заговорил:
«А знаете ли вы, что такое крест? Понимаете ли вы значение креста Господня?» – и красноречивым потоком полилась звучная, стройная речь из уст вдохновенного монаха…
Ежели бы и доставало у меня памяти, чтобы сохранить за все эти годы слова отшельника, то и тогда не могла бы я занести эту импровизированную проповедь в свои воспоминания. Я в то время не была в состоянии уразуметь ее. В то время мне не могло быть более девяти лет.
Но что могло тогда понимать, видеть и слышать дитя, того не изгладили из памяти моей десятки годов прожитой с тех пор жизни. Не забыть мне этого ясного взора, вдохновенного в эту минуту мудростью свыше, не забыть внезапно преобразившегося лица дровосека муромских лесов. Живо помню звуки голоса, говорившего «как власть имеющий» малому стаду собравшихся в Сарове богомольцев. Помню сочувственный блеск в черных очах Прокудина, помню старую бабку свою, смиренно стоявшую перед отшельником, «аки губа напоемая». Помню юношеский восторг, разгоравшийся в глазах меньшого дяди. Его заметил проповедник и, слегка нагнувшись к дяде, сказал: «Есть у тебя деньги?» Дядя бросился было разыскивать в карманах бумажник. Но отшельник остановил его тихим движением руки: «Нет, не теперь», – сказал он. – «Раздавай всегда – везде». И с этими словами протянул к нему первому крест.
И покойный дядя мой не «отошел скорбяй», как это было с богатым юношей Писания…
Мы торопились выехать в обратный путь. Запоздали мы немного, и нам не пришлось выбраться засветло из окраины сыпучих песков, огибающих все еще страшный, по слухам, дремучий саровский бор. Пешие паломники, между которыми, как всегда, было много хилых, слабых от старости женщин и детей, уже ушли вперед. На монастырском дворе то и дело слышался грохот отъезжавших экипажей более состоятельных богомольцев.
И наши лошади стояли уже у крыльца гостиницы. Сытые кони наши били оземь копытами, поторапливая своим нетерпением прислугу, разносившую по экипажам дорожную нашу кладь. К Алексею Нефедовичу, ехавшему верхом и заносившему уже ногу в стремя, подошел старый монастырский служка. «Еще утресь, – сказал он, – отец Серафим, выходя из церкви, изволил шепнуть мне мимоходом свой наказ, чтобы вы, Алексей Нефедович, не отъезжали вечером, не повидавшись с ним еще раз».
«Проститься хочет старый друг, отец мой духовный», – заметил на это Прокудин и, оборотившись к нам, промолвил: «Идите за мной и вы все».
И вот вся семья наша с отставным гусаром во главе снова потянулась по длинным коридорам монастырского корпуса.
Дверь в прихожую отшельника была открыта настежь, как бы приглашая войти. Мы разместились молча вдоль стены длинной и узкой комнаты, насупротив дверей внутренней келлии.
Последний замиравший луч заходившего солнца падал на выдолбленный из дубового кряжа гроб, уже десятки лет стоявший в углу на двух поперечных скамьях. Прислоненная к стене, стояла наготове и гробовая крышка…
Дверь келлии беззвучно и медленно отворилась. Неслышными шагами подошел Cтарец к гробу. Бледно было его бескровное теперь лицо, глаза смотрели куда-то вдаль, как будто сосредоточенно вглядываясь во что-то невидимое, занявшее всю душу, весь внутренний строй человека. В руке его дрожало пламя поверх пучка зажженных восковых свечей. Налепив четыре свечи на окраинах гроба, он поманил к себе Прокудина и затем пристально и грустно глянул ему в глаза. Перекрестив дубовый гроб широким пастырским крестом, он глухо, но торжественно проговорил: «В Покров».
Слово святого Старца было понято как самим Прокудиным, так и окружающими как предсказание его, Прокудина, кончины. Под потрясающим впечатлением этого предсказания покинули мы Саровскую обитель.
Более не довелось мне в жизни видеть преподобного Серафима. Чуть ли не в следующем (1833) году иноки нашли его в своей келлии усопшим на коленях во время молитвы.
Но, конечно, в нашей семье долго не было конца разговорам об обаятельной личности великого подвижника и мирного апостола труда, а ныне прославляемого Церковью Чудотворца.
Мне остается рассказать, как сбылось слышанное мной прорицание батюшки отца Серафима, а сбылось оно в том же году.
Наступил праздник Покрова Богородицы. Что сделалось в этот день с нашим Нижним, всегда таким спокойным, когда с него сбывает ярмарочная суматоха и он засыпает на всю зиму как бы мертвым сном. Четверня за четверней несется мимо нашего дома на конце Малой Покровки. Кажется всякий, имеющий экипаж, дал себе слово проехаться по этой улице, поворотить направо и остановиться перед большим белым домом баронессы Моренгейм. Здесь в эту зиму квартировал А.Н. Прокудин. Он сегодня приобщался Святых Таин, и весь город ехал сюда, чтобы его поздравить. И наши все старшие отправились туда же. Лошадей, разумеется, не запрягали, так как из окон нашей гостиной видны были наискось окна дома Моренгейм. Нас меньших, меня и сестренку, оставили под охраной мадам Оливейра, старушки испанки, которую Прокудин отыскал где-то в трущобах Москвы, умирающую от голода и нужды, и привез в дом моей матери, чтобы она ее выходила и откормила, пока священник, отец Павел, будет ее обучать догматам и обрядам нашей веры.
Пламенным желанием испанки было уже теперь постричься в монахини в лежащий неподалеку Девичий монастырь. Сидя в этот памятный день с нами, девочками, и работая свое нескончаемое штучное одеяло, бедная иностранка посматривала на свои дряхлые, худые ручки и вздыхала, думая, вероятно, когда-то они пополнеют. Но вот, тщательно сложив свою работу, она сказала нам:
«Не пойти ли нам тоже с вами прогуляться до дома Моренгейма? В дом мы с вами, разумеется, не войдем, но мы можем уловить минуту, когда мой благодетель выйдет на балкон, чтобы поклониться ему и поздравить его». Мы собрались в одну минуту и, завернув за угол, стали медленно прохаживаться перед домом, где уже гуляли другие дети, кто с гувернанткой, а кто и с нянькой.
Когда на колокольне ближней церкви пробило два часа, стеклянная дверь на балконе Моренгейма зашевелилась, но когда она открылась, то из нее вышел не хозяин дома, а только общий всему Нижнему врач и друг Линдегрин. Робко подошла к решетке испанка, спрашивая: «Что наш Прокудин?» Ответил доктор: «Он здоровее всех нас и, вероятно, доживет до ста лет. Теперь прохаживается себе по комнатам своим бодрым шагом, угощая своих гостей рассказами о делах Спасителя на земле, и так рассказывает, что всякому кажется, будто бы он слышит это в первый раз. Желая совершенно убедиться в его здоровье, я выдумал какой-то глупый анекдот, где приходилось щупать пульс у каждого из гостей. Я пощупал пульс у толстого господина Смирнова и у старой мадам Погуляевой, и пульс того, который, по предсказанию, должен был скончаться в этот день, оказался ровнее и крепче всех. Извольте после этого верить предсказанию». И добрый немец, повернувшись на одной ножке, почтительно поклонился испанке, послал каждой из нас по воздушному поцелую и ушел обратно за стеклянную дверь.
На колокольне пробило половину третьего. Вдруг стеклянная дверь наверху распахнулась и сбежал опрометью по ступеням бледный как смерть лакей; он кричал: «Умирает, меня послали за духовником». Но как ни близка была церковь и как ни спешил отец Павел, все же ему пришлось дочитать отходную над усопшим, над холодеющим уже трупом того, кого бедные и богатые называли другом нищих и убогих. Умирая, он опустился на кресло, прильнув головой к его высокой спинке. Правильные, благородные черты лица отставного гусара были совершенно спокойны. Казалось, это младенец, тихо уснувший на коленях матери.
«Преставился», – громко сказал седовласый пономарь, стоявший с кадилом в руках.
«Да, – прибавил священник, утирая крупную слезу со щеки. – И теперь он там, откуда же отбеже и печаль и болезнь и воздыхание». Врачи не обнаружили в скончавшемся никакой болезни и не отыскали никаких признаков приближающейся смерти. Может статься, в Нижнем Новгороде или в окрестностях Сарова найдется кто-либо, еще помнящий смерть Прокудина, этого человека, горячо любившего Бога и ближних. Он, вероятно, подтвердит мои воспоминания. Помнят ли в Сарове или нет прорицательное слово, сказанное отшельником своему другу и ученику, в виду издавна приготовленного им для себя гроба? Не знаю. Во всяком случае, оно сбылось.
Вспоминая с любовью: Преподобный Серафим, Саров, Дивеево глазами паломников XIX-XXI вв. / Сост. Н.Ю. Бутина. – М.: Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, 2007. – 500 с. ISBN 97857429–0137–2
Какое умение самое редкое? – Умение отдавать.
Какое умение самое лучшее? – Умение прощать.
Какое умение самое трудное? – Умение молчать.
Какое умение самое важное? – Умение спрашивать.
Какое умение самое нужное? – Умение слушать.
Какая привычка самая неприятная? – Склочность.
Какая привычка самая вредная? – Болтливость.
Какой человек быстрее приходят к Богу? – Милосердный.
Какой человек самый сильный? – Который способен постичь Истину.
Какой человек самый слабый? – Который надеется на свою силу.
Какой человек самый разумный? – Который следит за своим сердцем.
Какая привязанность самая опасная? – Привязанность к своему телу.
Какой человек самый бедный? – Который больше всего любит деньги.
Чем противостоять беде? – Смирением.
Чем противостоять страданию? – Терпением.
Каков признак здоровой души? – Вера.
Каков признак больной души? – Безнадежность.
Каков признак неправильных действий? – Раздражение.
Каков признак добрых поступков? – Мир души.
Какой человек заживо умер? – Равнодушный.
Какой человек никогда не умрет? – Любящий Бога и ближних.
(Монах Симеон Афонский)
Доброе утро, - сказала женщина, проходя мимо мужчины, валявшегося на земле.
Тот оторпело поднял на неё глаза. Сразу было видно, что женщина хорошо зарабатывает - дорогое пальто и ухоженные руки говорили сами за себя. Сначала мужчина решил, что она издевается над ним, как и многие другие, каждый день проходящие мимо него.
- Оставьте меня в покое, - со злобой проговорил он. К его изумлению, женщина не сдвинулась с места. Она улыбнулась, обнажив ровный ряд белых красивых зубов.
- Вы голодны? - спросила она.
- Нет, - ответил он, улыбнувшись. - Я только что отобедал с президентом. Идите уже, куда шли!
Улыбка женщины стала ещё шире. Вдруг он почувствовал её руку на своей руке.
- Что вы делаете, леди? Я сказал, чтобы вы оставили меня в покое!
Рядом дежурил полицейский, который, услышав крики, подошёл ближе.
- Какие-то проблемы, мэм? - спросил он.
- Нет, что вы, офицер, - ответила она. - Я просто пытаюсь поднять этого человека на ноги. Не поможете мне?
Офицер озадаченно почесал затылок.
- Это де старина Джек. Он живёт на этой улице в течение нескольких лет. Что вы хотите от него?
- Видите тот кафетерий неподалёку? - спросила она. - Я хочу отвести этого мужчину туда и накормить.
- Вы с ума сошли, леди! - бездомный сопротивлялся изо всех сил. - Я не хочу идти туда!
Вдруг он почувствовал, как сильная рука офицера подхватила его с другой стороны и подняла с земли.
- Отпустите меня, офицер! Я ничего не сделал.
- Она хочет помочь, Джек, - офицер ответил. - Не спорь с ней.
Наконец, не без труда, женщина и офицер полиции отвели Джека в кафе и усадили за столик в углу. Было позднее утро, завтрак уже прошёл, а время обеда ещё не настало, поэтому людей было мало. Менеджер тут же подошёл к их столику.
- Что здесь происходит, офицер? - спросил он. - Что все это значит, этот человек в беде?
- Эта леди привела его сюда, чтобы угостить ланчем, - ответил полицейский.
- Не здесь! - раздраженно ответил менеджер, - присутствие такого рода людей вредит бизнесу.
Старина Джек улыбнулся беззубой улыбкой:
- Видите, леди, я же говорил вам. Теперь, отпустите меня, пожалуйста!
Женщина повернулась к работнику кафе:
- Сэр, вы знаете "Эдди и Ко", банковскую фирму дальше по улице?
- Конечно, - ответил тот, - они проводят свои еженедельные собрания в одном из наших банкетных залов.
- О, и вы, наверное, имеете неплохую выручку с этих встреч?
- А вам какое дело?
- Простите, сэр, я Пенелопа Эдди, президент и главный исполнительный директор компании.
- О, - только и смог вымолвить шокированный менеджер.
Женщина снова улыбнулась:
- Я думаю, это меняет ситуацию, правда? - Она взглянула на полицейского, который изо всех сил старался не рассмеяться - Хотите присоединиться к нам на чашку кофе и ланч, офицер?
- Нет, спасибо, мэм, - ответил он, - я на службе.
- Тогда, возможно, чашку кофе с собой?
- Да, мэм. Было бы очень великодушно с вашей стороны.
Менеджер пришёл в себя и быстро промолвил:
- Ваш кофе сейчас будет готов, офицер.
Офицер обернулся к женщине:
- Ловко вы его поставили на место.
- Я не ставила себе такую цель. Верьте или нет, но у меня другие причины.
Она присела за столик напротив обескураженного бродяги и пристально посмотрела ему в глаза:
- Джек, вы помните меня?
Старина Джек внимательно изучал взглядом несколько минут:
- Ну, вы выглядите знакомо.
- Я немного старше сейчас. И уж точно полнее, чем в дни моей юности, когда вы работали здесь. Однажды я зашла именно в это кафе, голодная, замерзшая, в дешевой одежде.
- Вы, мэм? - Стоявший рядом офицер не удержался от комментария, он не мог поверить, что такая шикарная женщина когда-то могла выглядеть иначе.
- Я тогда только закончила колледж, - продолжила рассказ женщина, - приехала в город в поисках работы, но так ничего и не смогла найти. В конце концов, закончились деньги, и меня выселили из съемной квартиры. Был февраль, стоял жуткий мороз, мне некуда было пойти, и я забрела в это кафе, чтобы погреться.
Лицо Джека вдруг озарила широкая улыбка.
- Теперь я вспомнил! - вскрикнул он, - я стоял за стойкой, вы подошли и спросили, можно ли поработать здесь в обмен на еду. Я тогда сказал, что это против правил заведения.
- Именно так, - ответила женщина, - затем вы сделали мне самый огромный сэндвич, который был в меню, угостили горячим кофе и не взяли с меня денег. Я боялась, что из-за меня у вас будут неприятности с начальством. Потом я увидела, как вы положили свои деньги в кассу за мой ланч.
- Так, вы начали свой бизнес? - в нетерпении спросил старина Джек.
- Я устроилась на работу на следующий день. Я сама прокладывала себе дорогу к успешной жизни. В конце концов, я начала свой собственный бизнес и, с Божьей помощью, он стал расти и процветать.
Она открыла сумочку и достала визитную карточку:
- Когда мы закончим здесь, я хочу, чтобы вы нанесли визит мистеру Лайонсу. Он директор по персоналу нашей компании. Я поговорю с ним, и уверена, он найдёт для вас подходящую работу в офисе.
Она улыбнулась:
- Думаю, что он сможет даже дать вам аванс, чтобы вы купили себе одежду и нашли жильё, пока вы сами не встанете на ноги. И запомните, если вам когда-нибудь что-нибудь понадобится, мои двери всегда открыты для вас.
- Спасибо вам! - по щекам бродяги текли слёзы, - Как я могу отблагодарить вас?
- Не благодарите меня - ответила женщина, - Господь помог мне через вас, теперь Он помогает вам через меня!
Выйдя из кафе, офицер и женщина остановились у входа на минуту, прежде чем их пути разошлись.
- Спасибо за вашу помощь, офицер.
- Напротив, мэм, - ответил он, - благодаря вам я увидел сегодня чудо, я никогда не забуду этого. И...спасибо за кофе! Что посеешь, то и пожнешь...
В теплой комнате, как помнится, без книг,
без поклонников, но также не для них,
опирая на ладонь свою висок,
Вы напишите о нас наискосок...
(И.А.Бродский)
* * *
Я решил, что с этого времени, с 1961 года, когда мне исполнился 21 год, я не буду больше странствовать. Я уже писал стихи, и я знал, что это единственное дело, которым я хочу заниматься.
Примерно в это же время, когда я жил уже снова в Ленинграде, работая фотографом в той же газете,
в которой работал мой отец, я впервые встретился с Ахматовой. Один мой друг спросил, не хочу ли я познакомиться с ней, и вот, в день второго советского космического полета, мы сели в электричку и через час оказались в местечке Келломяки, теперь носящем имя Комарово,
где у Ахматовой был небольшой летний домик, который она всегда называла "будкой".
Она пригласила нас бывать у нее, и я приезжал туда два или три раза, толком не понимая еще,
что происходит. Для меня это был скорее выезд за город, чем встреча с великим поэтом.
Но однажды, когда я вечером возвращался от нее в поезде один, мне припомнились какие-то
строчки ее стихов, и внезапно завеса спала. Я осознал, с кем я имею дело.
Мы сразу понравились друг другу; наши беседы были в большей степени болтовней, чем разговорами о поэзии. Ей было за 70; она перенесла уже два инфаркта, и врачи прописали ей пешие прогулки.
Она была высока ростом и имела поистине королевскую осанку. Увидев ее, легко было понять, почему Россией управляли в свое время императрицы.
У нее был большой кот по имени Глюк, который однажды пропал, и семья, с которой она жила на даче, составляла объявление о потере.
Она спросила: "Ну, как вы напишете - "Пропало полтора кота"?
И это "полтора кота" стало прозвищем,
которым она называла меня, говоря с моими друзьями.
Я всегда привозил ей пластинки с записями классической музыки и начал знакомить ее с американской поэзией; например, показал ей стихи Роберта Фроста. Потом мы с несколькими знакомыми сняли дачу неподалеку, и я проводил там осенние месяцы, так что мы виделись ежедневно. Она часто приглашала нас к обеду -
нас было четверо - и называла нас волшебным хором. Когда она умерла, волшебный хор потерял свой купол.
(И.Бродский. ,,Полтора кота")
* * *
Здесь все меня переживет,
Все, даже ветхие скворешни
И этот воздух, воздух вешний,
Морской свершивший перелет.
И голос вечности зовет
С неодолимостью нездешней,
И над цветущею черешней
Сиянье легкий месяц льет.
И кажется такой нетрудной,
Белея в чаще изумрудной,
Дорога не скажу куда...
Там средь стволов еще светлее,
И всех похоже на аллею
У царскосельского пруда.
(Анна Ахматова. 1958 г., Комарово)
* * *
"Самое интересное, что начало этих встреч я помню не очень отчетливо. До меня как-то не доходило, с кем я имею дело, тем более,
что Ахматова хвалила мои стихи, а похвалы меня не интересовали.
Однажды, когда мы завтракали на веранде, произошла любопытная беседа. Ахматова вдруг говорит: "Вообще, Иосиф, я не понимаю, что происходит; вам же не могут нравиться мои произведения". Я, конечно, взвился, заверещал, что все наоборот. Но, до известной степени, задним числом, она была права.
То есть в те первые разы меня в основном привлекало чисто человеческое, а не поэтическое общение. В конце концов, я был нормальный молодой советский человек. "Сероглазый король" был решительно не для меня, как и "перчатка с левой руки". Все эти вирши не представлялись мне шедеврами. Так я думал, пока не наткнулся на другие ее стихи, более поздние".
* * *
,,Может быть, я преувеличиваю, но люди, с которыми Вы сталкиваетесь, становятся частью Вашего сознания, людей, с которыми Вы встречаетесь, как это ни жёстоко звучит, Вы как бы в себя «втираете», они становятся Вами. Поэтому, рассказывая об Ахматовой, я, в конечном счёте, говорю о себе. Всё, что я делаю, что пишу, - это, в конечном счёте, и есть рассказ об Ахматовой. Если говорить о моем знакомстве с ней, то произошло это, когда я был совершенно шпаной. Мне было 22 года, наверное. Рейн меня отвёз к ней, и моим глазам представилось зрелище, по прежней жизни совершенно не знакомое. Люди, с которыми мне приходилась иметь дело, находились в другой категории, нежели она. Она была невероятно привлекательна, она была очень высокого роста, не знаю, какого именно, но я был ниже её и, когда мы гуляли, я старался быть выше, чтобы не испытывать комплекса неполноценности. Глядя на неё, становилось понятно (как сказал, кажется, какой-то немецкий писатель) почему Россия время от времени управлялась императрицами. В ней было величие, если угодно, имперское величие. Она была невероятно остроумна, но это не способ говорить об этом человеке. В те времена я был абсолютный дикарь, дикарь во всех отношениях - в культурном, духовном, я думаю, что если мне и привились некоторые элементы христианской психологии, то произошло это благодаря ей, её разговорам, скажем, на темы религиозного существования. Просто то, что эта женщина простила врагам своим, было самым лучшим уроком для человека молодого, вроде вашего покорного слуги, уроком того, что является сущностью христианства. После неё я не в состоянии, по, крайней мере, до сих пор, всерьёз относиться к своим обидчикам. К врагам, заведомым негодяям, даже, если угодно, к бывшему моему государству, и их презирать. Вот один из эффектов. Мы чрезвычайно редко говорили о стихах как о таковых. Она в то время переводила. Всё, что она писала, она всё время показывала нам, т. е, я был не единственным, кто её в достаточной степени хорошо знал, нас было четверо (Рейн, Нейман, Бобышев и я), она называла нас «волшебным куполом». («Волшебный купол» с божьей помощью распался.) Она всегда показывала нам стихи и переводы, но не было между нами пиетета, хождения на задних лапках и заглядывания в рот. Когда нам представлялось то или иное её выражение неудачным, мы ей предлагали поправки, она исправляла их, и наоборот. Отношения с ней носили абсолютно человеческий и чрезвычайно непосредственный характер. Разумеется, мы знали, с кем имеем дело, но это ни в коем случае не влияло на наши взаимоотношения. Поэт, он всё-таки в той или иной степени прирождённый демократ. Он, как птичка, которая, на какую ветку ни сядет, сразу же начинает чирикать. Так и для поэта - иерархий в конечном счете не существует, не иерархий оценок, о которых я и говорил вначале, а других, человеческих иерархий». (Д. Глэд, интервью с Иосифом Бродским, альманах «Время и мы», М.-Нью-Йорк, «Искусство», 1990)
* * *
«Всё, касающееся Ахматовой, - это часть жизни, а говорить о жизни - всё равно, что кошке ловить свой хвост. Невыносимо трудно. Одно скажу: всякая встреча с Ахматовой была для меня довольно-таки замечательным переживанием. Когда физически ощущаешь, что имеешь дело с человеком лучшим, нежели ты. Гораздо лучшим. С человеком, который одной интонацией своей тебя преображает. И Ахматова уже одним только тоном голоса или поворотом головы превращала Вас в гомо сапиенс. Ничего подобного со мной ни раньше, ни, думаю, впоследствии не происходило. Может быть, ещё и потому, что я тогда молодой был. Стадии развития не повторяются. В разговорах с ней, просто в питьё с ней чая или, скажем, водки ты быстрее становился христианином - человеком в христианском смысле этого слова, - нежели читая соответствующие тексты или ходя в церковь. Роль поэта в обществе сводится в немалой степени именно к этому».
(Волков С., Диалоги с Иосифом Бродским, М., «Эксмо», 2002)
* * *
Вот я вновь принимаю парад
посветлевшей листвы на участке,
и, приветствуя этот возврат,
гулко дятел стучит для острастки.
И с берёзы прозрачной на дверь
опускается лист полусонный.
Закрываю воду, теперь
пусть дожди поливают газоны.
Дым плывёт над трубой, и заря
чуть кивает из сумрачной рани
золотой головой октября,
утопающей в мокром тумане.
Больше некуда мне поспешать
за бедой, за сердечной свободой.
Остается смотреть и дышать
молчаливой, холодной природой.
Иосиф Бродский
5 октября 1963 года, Комарово
* * *
Анна Ахматова - Иосифу Бродскому
Иосиф, милый!
Так как число неотправленных Вам моих писем незаметно стало трехзначным, я решила написать Вам настоящее, т.е. реально существующее письмо
(в конверте, с маркой, с адресом), и сама немного смутилась.
Сегодня Петров день - самое сердце лета. Все сияет и светится изнутри. Вспоминаю столько [самых] [таких] разных Петровых дней.
Я - в Будке. Скрипит колодезь, кричат вороны. Слушаю привезенную по Вашему совету "Дидону".
Это нечто столь могущественное, что говорить о нем нельзя.
Оказывается, мы выехали из Англии на другой день после ставшей настоящим бедствием бури,
о которой писали в газетах. Узнав об этом, я поняла, почему я увидела такой страшной
северную Францию из окна вагона. Тогда подумала: "Такое небо должно быть над генеральным сраженьем".
(День, конечно, оказался годовщиной Ватерлоо, что мне сказали в Париже).
Черные дикие тучи кидались друг на друга, вся земля была залита бурной мутной водой:
речки, ручьи, озера вышли из берегов. Из воды торчали каменные кресты - там множество кладбищ и отдельных могил от последней войны.
Потом был Париж, раскаленный и неузнаваемый. Потом обратный путь, когда хотелось только одного - домой, домой...
12 июля 1965
Комарово
* * *
О своем я уже не заплачу,
Но не видеть бы мне на земле
Золотое клеймо неудачи
На еще безмятежном челе.
А.А.Ахматова 13 июня 1962
* * *
На годы близости с Ахматовой пришлись самые трудные испытания в жизни Бродского – любовная драма, попытка самоубийства, сумасшедший дом и тюрьма, кошмарный суд, предательство друга. Все происходившее с ним трогало Ахматову самым интимным образом. 11 сентября 1965 года она записывает в своем дневнике: «Освобожден Иосиф по решению Верховного Суда. Это большая и светлая радость. Я видела его за несколько часов до этой вести. Он был страшен – казался на краю самоубийства. Его (по-моему) спас Адмони, встретив его в электричке, когда этот безумец возвращался от меня. Мне он прочел „Гимн Народу“. Или я ничего не понимаю, или это гениально как стихи, а в смысле пути нравственного это то, о чем говорит Достоевский в „Мертвом доме“: ни тени озлобления или высокомерия, бояться которых велит Федор Михайлович. На этом погиб мой сын. Он стал презирать и ненавидеть людей и сам перестал быть человеком. Да просветит его Господь! Бедный мой Левушка». В этой записи, сделанной уже после испытаний, выпавших на долю Бродского в 1964–1965 годах, показательно сравнение Бродского с сыном, причем не в пользу последнего. Ахматова высоко оценивает не только стихи как таковые, но и моральную чистоту, стойкость, сделавшие стихи возможными. Бродский, со своей стороны, считал, что лишь пытается по мере сил следовать примеру Ахматовой: «Сколько всего было в ее жизни, и тем не менее в ней никогда не было ненависти, она никого не упрекала, ни с кем не сводила счеты. Она просто могла многому научить. Смирению, например. Я думаю – может быть, это самообман, – но я думаю, что во многом именно ей я обязан лучшими своими человеческими качествами. Если бы не она, потребовалось бы больше времени для их развития, если б они вообще появились».
* * *
Анна Ахматова Иосифу Бродскому чьи стихи мне кажутся волшебными...
,,Последняя роза,,
Вы напишете о нас наискосок.
И. Б.
Мне с Морозовой класть поклоны,
С падчерицей Ирода плясать,
С дымом улетать с костра Дидоны,
Чтобы с Жанной на костер опять.
Господи! Ты видишь, я устала
Воскресать, и умирать, и жить.
Все возьми, но этой розы алой
Дай мне свежесть снова ощутить.
1962
* * *
Лев Лосев : ,,...в чем-то семидесятипятилетняя Ахматова считала двадцатипятилетнего Бродского мудрее себя. Она неоднократно возвращается к мысли Бродского о том, что главное в поэзии — это величие замысла. «И снова всплыли спасительные слова: «Главное — это величие замысла» (Ахматова); «Постоянно думаю о величии замысла о нашей последней встрече и благодарю Вас»
* * *
Надежда Мандельштам : ,,...Иосиф Бродский. Среди друзей „последнего призыва“, скрасивших последние годы Ахматовой, он глубже, честнее и бескорыстнее всех относился к ней....И все же прекрасно, что нашлись мальчишки, искренно любившие безумную, неистовую и блистательную старуху, все зрелые годы прожившую среди чужого племени в чудовищном одиночестве, а на старости обретшую круг друзей, лучшим из которых был Бродский».
* * *
Своей дочери Иосиф Бродский дал первое имя - Анна - в честь Анны Ахматовой. Чем глубже он размышлял о ее судьбе, тем больше преклонялся перед великой стойкостью ее духа в страшных испытаниях, творческим и нравственным величием, умением прощать, скромностью и добротой.
* * *
"Утренняя почта для А. А. Ахматовой из города Сестрорецка"
В кустах Финляндии бессмертной,
где сосны царствуют сурово,
я полон радости несметной,
когда залив и Комарово
освещены зарей прекрасной,
осенены листвой беспечной,
любовью Вашей - ежечасной
и Вашей добротою - вечной.
Иосиф Бродский 1962
Аннелиза Аллева - итальянский поэт, автор восьми сборников стихов, эссеист и переводчик (всей прозы Пушкина и «Анны Карениной» Толстого). Еще в детстве, будучи прикованной к постели из-за болезни, целый год изучила и полюбила русский язык. В 1980 году Аннелиза закончила филологический факультет Первого Римского университета, а в 1981-м в Риме произошло «роковое» для нее событие — она встретилась с Иосифом Бродским, стихов которого тогда не знала, но пошла на его лекцию о «Новогоднем» Цветаевой.
*
Аннелиза Аллева говорила, что влюбилась в Бродского потому, что уже была влюблена в русский язык. Познакомилась она с поэтом в 1981 году в Риме – подошла к нему после выступления за автографом, а тот оставил его вместе с номером своего телефона. Эта встреча так повлияла на Аннелизу Аллева, что она нашла причины отправиться вслед за ним в Лондон, потом в Америку, получила стипендию для изучения русского языка в Ленинграде и там познакомилась с родителями поэта. Роман их – вспыхивающий и угасающий, неровный, пунктирный – продлился восемь лет, с 1981 по 1989 годы.
О ПОСВЯЩЕНИЯХ
Интервью из книги Валентины Полухиной " Иосиф Бродский глазами современников", май 2004, Венеция.
В.Полухина - Когда и при каких обстоятельствах вам довелось познакомиться с Бродским?
А. Аллева - Я познакомилась с Бродским в апреле 1981 года. В Риме на старинной вилле Mirafiori был организован цикл лекций для бывших студентов русского языка и литературы. Бродский тогда находился в Риме в качестве стипендиата Американской Академии. Для небольшой группы студентов он читал лекцию о русской поэзии, о "О Новогоднем" Марины Цветаевой, что уже было напечатано в виде статьи.
В.Полухина - И чем он вас очаровал?
А. Аллева - Он меня очаровал уже тем, как вошел в класс широким решительным шагом в солидных, тяжелых мужских ботинках. Меня очаровал и его джинсовый пиджак, и его русский язык, и особенно его картавость. Мне тогда было двадцать четыре года, ему почти сорок один.
В.Полухина - Евгений Рейн в своем эссе "Мой экземпляр "Урании" пишет, что Бродский вписал ваше имя над несколькими стихотворениями, с вами связанными: "Ария", "Элегия". Почему нет ваших инициалов?
А. Аллева - Женя написал замечательную страницу о нашей встрече в Москве. Бог знает, почему Иосиф не поставил мои инициалы при публикации посвященных мне стихов. Одно из самых последних стихотворений, опубликованных уже после смерти, "Воспоминание", это именно воспоминание о нашей прогулке и о нашей маленькой утопии. Я также узнала себя в "Набережной неисцелимых" в девушке с глазами "горчично-медового цвета". У меня было такое впечатление, что Иосиф иногда запутывает читателя в своих посвящениях. Он пользовался датами, названиями, меняя иногда сами стихи, то чтобы кому-то польстить, то чтобы кому-то досадить и просто поиграть в прятки с читателями. Это его подтексты и затексты. Он говорил, что женщинам следует показывать меньше того, что ты чувствуешь.
<Вот как описывает внешность Аннелизы Аллева Евгений Рейн: «От неё исходила кротость, нечто даже фаталистическое. Тихий голос, ясный взгляд серых глаз. При всей миловидности в её внешности не было ничего вульгарного, затёртого, банального. Я ещё тогда подумал, что вот такая головка могла бы быть отчеканена на античной монете». Ей посвящена группа стихов в «Урании», стихотворение 198З года «Сидя в тени»:
Так марают листы:
запятая, словцо.
Так говорят «лишь ты»,
заглядывая в лицо.
К этому стихотворению Бродским в экземпляре Рейна была сделана приписка: «написано на о.Искья в Тирренском море во время самых счастливых двух недель в этой жизни в компании Анны Лизы Аллево».>
В.Полухина - В "Набережной неисцелимых" есть, кажется, и еще одна фраза о ваших с ним отношениях: "...ни для медового месяца(ближе всего к которому я подошел много лет назад, на острове Иския и в Сиене..."). Если верить сообщениям того же Рейна, под посвящением "Ночь, одержимая белизной..." после вашего имени Иосиф надписал: "...на которой следовало бы мне жениться, что может быть, еще и произойдет". Почему этого не произошло?
А. Аллева - Однажды, на Пьяцца Навона, он спросил у меня: "Ну посмотри на меня, разве я похож на семьянина?"
В.Полухина - Меня особенно взволновало ваше стихотворение "Кто входит в эту дверь". оно словно написано от имени всех женщин, влюбленных в Иосифа и им оставленных. Слышали ли вы из уст Иосифа слова "Я вас люблю"?
А. Аллева - Редко. Он не говорил "Я вас люблю", а "Мы вас любим". Ведь его было много. Целая мозаика.
..............................................................................................................
ВОСПОМИНАНИЕ
Je n'ai pas oublie, voisin de la ville,
Notre blanche maison, petite mais tranquille...
Сharles Baudelaire*
Дом был прыжком геометрии в глухонемую зелень
парка, чьи праздные статуи, как бросившие ключи
жильцы, слонялись в аллеях, оставшихся от извилин;
когда загорались окна, было неясно -- чьи.
Видимо, шум листвы, суммируя варианты
зависимости от судьбы (обычно -- по вечерам),
пользовалcя каракулями, и, с точки зренья лампы,
этого было достаточно, чтоб раскалить вольфрам.
Но шторы были опущены. Крупнозернистый гравий,
похрустывая осторожно, свидетельствовал не о
присутствии постороннего, но торжестве махровой
безадресности, окрестностям доставшейся от него.
И за полночь облака, воспитаны высшей школой
расплывчатости или просто задранности голов,
отечески прикрывали рыхлой периной голый
космос от одичавшей суммы прямых углов.
Бродский, 1995
Я не забыл наш белый дом в предместье,
Маленький, но безмятежный.
Шарль Бодлер (фр)
---
КТО ВХОДИЛ В ЭТУ ДВЕРЬ
................................................
Теперь я смотрю на тебя без ненависти, без страсти,
без страха, без надежды.
Вижу тебя, каким ты был, ничего не прикрывая.
Вижу тебя, каким тебя уже нет.
Как тут плакать о тебе,
если ты был облаком, паром?
Появлялся, исчезал,
делалось темнее, светлее,
занавешивал собой солнце.
Всегда на бегу, как и твоя смерть.
Твоя тень ускользала -
и я плакала. Но выйдя из благородного возраста самотерзаний,
можно ли плакать об облаке?
Земля суха, как ресницы.
Ты был облаком, но дождь не шел.
Вот хоронят любовь. Из чего она сделана? Из слов.
............................................................................
Вот пишу, и уходит
каменное горе.
А я его провоцирую,
хожу вокруг да около, злюсь. А оно царапается, гадина.
Чернила текут, чернея,
или карандаш - пока
витийствует, мозолит руку,
стачивает грифель.
Аннелиза Аллева. 1998
Перевод с итальянского Льва Лосева
---
Все зашито, зажило, все отболело.
Лишь одна рана затянуться не может.
Из нее идут медленным током слова.
Может быть, и она заживет.
И иссякнут слова. Или станут иными, другими.
Но источник открыл этот — ты.
Аннелиза Аллева, Рим, январь 1998
Знаешь ли, дитя мое, почему народ победоносный терпит поражения от своих несогласий и раздоров, и ест хлеб, горький от слез и злобы?
Потому что победил врагов вокруг себя, но не победил их в себе.
Святитель Николай Сербский
Этот мир, такой, как он есть, невыносим. Следовательно, мне нужна луна, или счастье, или бессмертие, что угодно, пусть даже безумие — но не от мира сего.
Альбер Камю. Калигула
Доброе есть признак истинного искусства. Признак искусства вообще, новое ясное и искреннее, признак истинного искусства новое, ясное и искреннее, доброе.
Лев Толстой. Дневники
Чтобы жить честно, надо рваться. Спокойствие - душевная подлость, свойство всякого таланта - неверие в себя.
Лев Толстой. Дневники
Я руководствуюсь в жизни замечательным принципом, вычитанным у какого-то философа. По-моему у Ортега-и-Гассета. Когда он спросил священника старого, который за всю жизнь повидал много и много выслушал исповедей, когда он спросил, что вы, с вашим опытом, можете сказать о человечестве, о человеке, тот ненадолго задумался и сказал ему глубочайшую мысль: взрослых людей нет.
Владимир Меньшов
"Темная сторона есть у каждого человека, и в ней таятся вещи, о которых мы ничего не знаем", - сказал в интервью Би-би-си в 1955 году основоположник аналитической психологии Карл Густав Юнг.
В интервью Юнг ответил на вопросы о природе человека, религии, совместной работе с Зигмундом Фрейдом, а также объяснил, почему убежден, что Третью мировую войну удастся предотвратить.
Би-би-си: Доктор Юнг, для начала скажите мне, что именно побудило вас начать заниматься психологией? Вы с детства этого хотели?
Юнг: Еще ребенком я осознал, что далеко не всегда понимаю людей. Какими-то они были для меня непостижимыми. Они что-то говорили или делали, а я не мог уловить причинно-следственные связи.
Я также обратил внимание на неадекватность человеческих эмоций: почему люди приходят в возбуждение от каких-то вещей, в которых нет ничего особенного? Почему они расстраиваются из-за пустяков, которые того не стоят?
Би-би-си: Это мне знакомо!
Юнг: Однажды мы с тетей пошли в зоологический музей. Я был в полном восторге от звериных чучел. Когда время вышло, мы пошли к выходу, а для этого надо было пройти через другие залы музея, в том числе через галерею античных статуй.
Ничего подобного я прежде не видел! Как же они были прекрасны! Это было откровением, но тетя одернула меня: "Скверный мальчишка! Немедленно закрой глаза!". Я не понял: "почему же? ведь они такие красивые". Пока мы шли, я все время оборачивался, не в силах оторвать взгляд от такой красоты. "Зачем она велела мне закрыть глаза?" - не мог понять я.
Позже я догадался, что она сказала это, потому что статуи были обнаженными, и тетя была не в силах это перенести. А я для нее был скверным мальчишкой, потому что обратил на это внимание.
Би-би-си: Скверный мальчишка, который таращился на обнаженные фигуры! Не могли бы вы рассказать нам о вашей совместной работе с Зигмундом Фрейдом? Это было бы очень полезно и интересно.
Юнг: Где-то в 1907 или 1906 году я написал книгу о психологии того, что тогда называлось деменцией, а теперь зовется шизофренией. Вот я и отправился в Вену, чтобы с ним ее обсудить. Наш первый разговор затянулся на 30 часов! Честно говоря, я соглашался далеко не со всеми его мыслями, но потом сказал, что вы, мол, понимаете больше меня.
Я работал с ним семь лет, и, боюсь, что в конце концов страшно его разочаровал. Потому что он надеялся, что я продолжу его работу.
Би-би-си: Давайте поговорим о религии и ее месте в жизни человека. Мне всегда казалось, что вы рассматриваете религию как важную целительную силу, которая полезна только для душевно измученных и покалеченных людей.
Если я не ошибаюсь, вы как-то назвали церковь "терапевтической лечебницей человечества". Не кажется ли вам, что беда нашего времени заключается в том, что религия больше не может играть эту роль? И если да, то почему?
Юнг: Никто не спорит с тем, что с религией у нас не все в порядке. Также не удивительно, что особенно в среде образованных людей религия больше не несет в себе целительной функции. Христианство говорит об утешении, спасении и излечении, о всем том, что возвращает целостность человеческой душе.
А теперь вернемся к образованным пациентам, которые практически не знакомы с основными положениями христианства. Эти люди даже Библии никогда не читали, они могут вообще не знать, что такое Библия и о чем она, они не понимают символизма церкви, они не имеют представления о Христе Искупителе, им не знакома сама идея искупления, что мы очищаемся от наших грехов.
Церкви больше не работают, потому что они больше не выполняют данные ими обещания. У меня немало растерянных пациентов, у которых просто нет никаких духовных ориентиров. С самого начала времен у разных племен и обществ были религии, которые не давали им развалиться. А теперь это утрачено.
Би-би-си: Не могли бы вы рассказать, что ваша работа открыла вам о природе божественного?
Юнг: Я не могу ничего сказать, главным образом, потому, что человеческая мысль не в состоянии понять ни природу божественного, ни доказать, существует ли Бог, или нет. Я могу сказать лишь то, что идея Бога - это узор, узор, который проходит через все времена, примитивный узор, который, однако, был всегда и всегда будет во всей своей яркости, значимости и важности.
Идея божественного никуда не ушла, она продолжает играть ту же роль, что и на протяжении тысячелетий, вне зависимости от того, знает ли кто-нибудь, как выглядит Бог, или нет. Человеческий разум слишком узок и ограничен. Он просто не в состоянии ни понять, ни описать такую трансцедентальную сущность, как Бог.
Однако мы можем осмыслить существование такого узора, о котором я сказал раньше. И этого вполне достаточно для практического применения религии. Потому что, когда мы сознательно принимаем идею божественного, нам открывается новый вид на природу вещей.
Крайне недальновидно задавать вопросы о том, как можно доказать существование Бога. Мы не можем доказать существование Бога, так же, как мы не можем доказать существование бессмертия, или вечности, или других подобных понятий. Это - интуитивно принятые концепции.
При этом нет никаких сомнений в том, что мы можем принять существование этого узора. Это - также интуитивно, как птица интуитивно знает, как построить гнездо. Однажды индейцы из племени Бильбо сказали мне: "Человек, оказавшийся один в горах, не сможет даже костер разжечь без помощи Того, кто его охраняет". На меня это произвело огромное впечатление.
Би-би-си: Давайте попробуем поставить это в современный контекст. Как вы понимаете природу человека? Есть ли у нас шанс избежать очередной мировой войны? И, главное, во что, с вашей точки зрения, могут вылиться создание атомной бомбы и последние открытия в области ядерной физики?
Юнг: Я далеко не уверен, что мы движемся к Третьей мировой войне. Да, она может случиться, но, возможно, ее удастся предотвратить.
С другой стороны, проблемы, которые раскололи мир, вполне реальны. И все то, что привело нас к этому расколу, может привести нас и к войне. Даже если войны и не будет, раскол остается.
Би-би-си: Что вы называете расколом? Внутренний раскол в людях?
Юнг: Раскол между Востоком и Западом. И это означает раскол в каждом из нас, потому что все мы - люди. Есть некоторая надежда, что люди осознают этот раскол внутри самих себя, и поймут, что нет нужды воспроизводить его в политике. Но это означает полную перемену наших духовных и внутренних представлений.
Би-би-си: Может быть она уже началась?
Юнг: Трудно сказать, началась ли она, или нет. Я, по крайней мере, делаю все, что в моих силах, чтобы она произошла. (смеется)
Би-би-си: Доктор Юнг, я бы хотела задать вам несколько конкретных вопросов, чтобы подчеркнуть вашу работу о принципиально новом подходе к тому, что значит быть человеком. Мы разговариваем, а из окна открывается вид на горы. Одна заснеженная сторона просто сверкает на солнце, а другая - всегда находится в тени. Вот я и думаю, можно ли сказать, что вы точно также рассматриваете и природу человека? Что это такое: темная сторона человечества?
Юнг: Вы выбрали очень уместное сравнение. Да, наше сознание сверкает. Там все полно света и, вроде бы, в полном порядке. Но есть и другая сторона, на которой все обстоит не так хорошо. И, разумеется, с нею надо что-то делать.
При этом никто особенно не любит в ней копаться. Тем не менее, иногда этого не избежать, особенно, если вы туда провалились.
Этот феномен можно проследить на гигантских масштабах, которыми оперирует история. Посмотрите, только, что произошло с немцами. Германская нация полностью переродилась, поддавшись темной стороне человеческой природы. Мы все знаем, в какие ужасы это вылилось! Да, это - темная сторона... она есть у каждого человека, и в ней таятся вещи, о которых мы ничего не знаем.
Би-би-си: Справедливо ли будет сказать, что вся ваша работа как раз и заключается в том, чтобы добиться целостности личности человека, достичь внутреннего единства? Чтобы каждый человек мог распознать свою темную сторону, о которой он, возможно, и не подозревает?
Юнг: От нее никуда не уйти. Как только я начинаю работать с каким-то человеком, его темная сторона всегда выползает на свет: то одно, то другое становится явным. И все эти вещи надо как-то увязать с человеческим сознанием. Это необходимо для того, чтобы конкретный человек перестал рассматривать себя, как некий идеал, которым он хотел бы быть, но осознал, кем он является в действительности. С этого и начинается работа с каждым человеком.
Би-би-си: Мне кажется, что вы считаете индвидуального человека единственным носителем жизни и существования. Следовательно, индивидуальность должна играть главенствующую роль в человеческом обществе. Почему же сейчас и наука, и социология, и философия склонны подменять качества индивидуума общественными ценностями?
Юнг: Что тут скажешь: это - одно из следствий современной науки, которая основывается на статистическом усреднении. А для статистического усреднения человек, как таковой, совершенно не важен. Это - абстракция, а не конкретная личность.
Наше мировоззрение, тоже основанное на статистическом усреднении, является абстракцией, которая не имеет никакого отношения к тому, что происходит в реальном мире. В таком мировоззрении индивидуум есть не что иное, как случайный феномен. Но в действительности индивидуум - это единственная реальность.
Если вы раcсматриваете жизнь с позиций среднего арифметического, то у вас есть только некое представление о том, что такое "нормальный человек". Но на самом деле такой "нормальный человек" просто не существует, и в жизни нам приходится иметь дело с конкретными людьми. И конкретному человеку, а не бесчисленным массам, приходится иметь дело с последствиями принятых решений.
Развиваться и улучшаться должен каждый человек. В мире не существует лекарства, которое могло бы одним махом излечить тесятки тысяч.
Би-би-си: В конце нашего разговора не могли бы вы рассказать, над чем вы сейчас работаете?
Юнг: Это самый нескромный вопрос
Би-би-си: Я знаю. (смеется)
Юнг: Я вынужден признаться, что я сейчас ни над чем не работаю. Я просто наслаждаюсь старостью. И я доволен, что сейчас у меня нет никаких новых идей. Мои последние идеи были такими сложными, что, возможно, я достиг потолка.
Я не могу сказать, что я работаю над чем-то конкретным, но у меня есть некоторые мысли, которые я просто не смогу вам объяснить.
Би-би-си: Я подозреваю, что ваши идеи проходят период инкубации? Они должны созреть?
Юнг: Времени на созревание почти не осталось. Я уже не раз проходил через инкубационные периоды (смеется). И я не знаю, сколько мне еще отпущено времени на то, чтобы продолжать в том же духе.
Би-би-си: Тогда - последний вопрос. Оглядываясь на все эти долгие годы, которые вы посвятили исследованию человеческой души и природы, каким должен быть наш главный урок?
Юнг: Самый главный урок - это узнать как можно больше о предмете исследования - о человеке. Мы живем в страхе перед жуткими порождениями человеческой мысли: расщеплением урана и водородной бомбой. Но они не существуют сами по себе, ими манипулируют люди. И мы должны знать как можно больше и о человеке, и о том, как влиять на его психику.
Потому что главный вопрос таков: что именно человек будет делать с этими изобретениями? Все зависит от решений, которые принимают люди. Главная опасность таится в человеке, следовательно, я считаю, что мы должны серьезно изучить, что такое человек, и что значит быть человеком.
Как я сказал в самом начале, я только хочу понять: что делает человек, и почему он это делает. И я хочу понять его природу. И я надеюсь, что мы сможем найти способ как сделать так, чтобы человек не уничтожил сам себя с помощью этих жутких приспособлений, как, например, водородная бомба.
С Карлом Юнгом для программы к его 80-летию беседовала Ингарет ван дер Пост. Частично интервью вышло в эфир 20 июля 1955 года.
Источник: bbc.com
«Я всё умею — пилить, строгать, колоть. Мужик должен всё это делать, а не гири тягать в фитнес-клубе. Ой, жалуются некоторые, работы нет. Научись плитку класть — будешь на «Мерседесе» ездить. Я у себя на участке город целый выстроил, баню, сарай. А если на диване лежать и дыню наедать — плохо закончишь. Алкоголем, наркотиками. К сожалению, сейчас много таких мужиков...».
Когда ко мне приезжают, говорят: «Далеко вы забрались». А я спрашиваю: «Далеко от чего?» И человек замолкает. Из-за того, что я в деревне живу, у меня каждый день другой. Каждый день — другое небо. Утром встал — и завертелось, а вечером смотришь и видишь: и такие облачка, и этакие Господь подпустил. Ни фига себе!
Стоишь и как безумный смотришь на эти звезды и думаешь: «Боже мой, вот завтра умру, и что я скажу ему?» Как в молитве говорится: если тень твоя так прекрасна, каков же ты сам? Я однажды вошел в дом, думал, сейчас компьютер включу, а электричества не было.
И я оказался в полной темноте. Лягте как-нибудь в темноте, отключите все «пикалки» и задайте себе такой вопрос: кто вы и как вы живете? Я вообще нормальный парень или так себе?
Пётр Мамонов
Адамов бок - оплот,
где женщина зачнется.
Куда она вернется,
когда она умрет?
Как раз по ней ковчег,
не уже и не шире;
не лучшая ли в мире
могила - человек?
Рильке. Сады
Жизнь подчас меняется стройно,
грезить ей печаль не мешает,
только тот, чье сердце спокойно,
ищет скорбных и утешает.
Рильке. Сады
«Ни одна сфера человеческой деятельности не обходится без соприкосновения с реальностью времени: все, что движется, изменяется, живет, действует и мыслит, – все это в той или иной форме связано с временем. Однако удивительным образом само понятие времени представляет большие трудности для всякого, кто пытается постигнуть его природу. На самом деле «всё, что движется» никак с временем не связано – всё это связывает с временем человек, субъект, потому что именно субъект воспринимает любое движение как протяжённый в пространстве процесс. Протяжённость любого процесса – продолжительность – это и есть время в понятии человека. Следовательно, говоря о «реальности времени», необходимо в первую очередь учитывать объективность или субъективность его реальности».
Пиама Павловна Гайденко. «Время. Длительность. Вечность»
* * *
«Первая книга на русском о Хайдеггере вышла в 1963 году. Пиане Павловне было 29 лет. Это ее первая книга и первая книга в Советском Союзе о философии Мартина Хайдеггера, которая назвалась «Экзистенциализм и проблема культуры. Критика философии Мартина Хайдеггера». Это замечательное исследование. Мы с коллегами из Петербурга делали большую книгу-антологию «Хайдеггер: pro et contra». Связались с Пианой Павловной через ее дочь Татьяну Юрьевну Бородай с просьбой предоставить для этой антологии свои статьи, главы из книги, что она охотно сделала, а впоследствии была очень благодарна организаторам антологии за то, что ее еще помнят и переиздают ее работы. Мы не могли не сделать этого, потому что это масштаб. С одной стороны, это благодаря Гайденко, Мотрошиловой, Асмусу во многом сохранялась преемственность с русской философией Серебряного века. Есть воспоминания Бибихина в книге «Лосев. Аверинцев»: он пишет о коллоквиуме в Доме ученых под председательством Лосева. Гайденко говорила о Лосеве. Для нее было важно зацепиться за его мысль об античности, чтоб развивать свою мысль. Это такие фигуры-медиаторы, которые не позволили пропасть этому большому культурному предприятию под названием «философия в советское время». С другой стороны, они в общем сохраняли связь с живой западной традицией. Это люди, для которых Хайдеггер, Ясперс, Левинас, Сартр были современниками. Они живо реагировали, что опять-таки очень удивительно. Мы знаем про "железный занавес», но они живо реагировали на дискуссии об экзистенциализме. А это 1968 год. Понятие экзистенции самое главное понятие философии в первой половине XX века. Так же примерно, как и в IV веке интеллектуалы эпохи Константина Великого спорили о взаимоотношении сущности и ипостасей в Боге, интеллектуалы середины XX века спорили об экзистенции».
Александр Владиславович Михайловский
* * *
«Философия Фихте и современность».
«Трагедия эстетизма», посвященная миросозерцанию Сёрена Кьеркегора.
* * *
Борис Межуев: Проблема с Фрейдом в том, что он научился лечить неврозы, вызывавшиеся чувством вины, загнанным в бессознательное или происходящим из него. Фрейд вместе с Ницше и Марксом делал такое "большое" дело – сказал всем, что «Бог мертв». Есть сверх-Я, есть бессознательное, есть либидо, которое отвечает за творчество и чувство вины - это фантом некоторый, который надо лечить. Это важна культурная работа, которую Фрейд проделал. Это было связано с кризисом понятия субъекта, как ответственного агента. Гайденко показывает, что так просто с европейским субъектом нельзя расстаться. Согласно Фихте, первое дело, которое совершает Я, воплощение сознания, – это самоограничение. Оно не снимает все ограничение, но наоборот налагает, и это становится условием свободы. Свобода не “от”, а “для”. И продолжая мысль, Гайденко пишет, что «вполне понятное желание врача избавить человека и человечество от мук больной совести, от страданий духа приводит, как это ни покажется неожиданным, к ампутации органа, который называется совестью, а ведь именно мучения совести позволяют и человеку, и обществу восстанавливать нормальную жизнь. И напротив, облегчение совести, разоблачение нравственных запретов как „цензуры сознания“ и желание излечить всех тех, кто эти запреты принимает слишком всерьез, желание сделать духовную и нравственную жизнь „рациональной“ и приятной приводит к опасным и тяжелым болезням духа и души, благодаря которым человек становится хуже животного».
Что действительно обнаружила Пиана Павловна - представление о том, что многие проблемы в нашем обществе обусловлены серьезнейшими проблемами философии, особенно немецкой. Немецкая философия где-то споткнулась, и это привело к тому, что происходит сейчас. С чего начинается немецкий идеализм? Резко разделились мораль и познание. Они оказались противопоставлены друг другу. К чему это привело? Мир весь приобрел профанный характер. Наука не может нам сказать ничего интересного, к Богу она нас не вводит. Мораль вводит к Богу, но мораль абсолютно рационалистическая и бесплотная. И появляется третье начало в той же немецкой классической философии - эстетика, красота. Красота сразу же романтиками вводится как нечто большее, чем и познание, и мораль. Когда мы чувствуем Бога через красоту, вся проблема в том, что это какой-то не такой бог. Это какое-то трансцендентное, но опять же особое. Особенно почитав Фрейда, который там появляется. А до этого еще и Ницше, который тоже продолжение романтизма, крайнего, доведенного до предела. И это эстетическое, которое вводится в качестве бога, в качестве трансцендентного, оно и побеждает в 1968 году. А можно сказать, что оно и дальше побеждает в течение западной культуры, цивилизации. Почему Пиана Павловна обратилась к русской философии? Она считала, что русская философия, столкнувшись с той же проблемой, почувствовала проблему внутри западной классики, пыталась по-своему как-то разрешить. Удачно или нет - вопрос другой. Но она возникает из чувства распадения трех начал: истины, добра, красоты. Должен сказать, что в обращении к Соловьеву и русской философии во многом было вызвано работами Гайденко о западной философии. Во многом я воспринимал проблемы русской философии через ее систему координат. Далее вот Фихте. Это человек, кто еще в большей степени противопоставил активного субъекта внешнему началу. Противопоставил «я - не я», цивилизация - природа. Фихте это противопоставление реально, не придумано, доводится до логического предела. Поэтому из того, что позиция Фихте оказывается невозможна, она крайне антиэкологична. Это крайнее развитие протестантского духа негативизма по отношению к тварному миру. Это по крайней мере ранний Фихте. Если уйти от частностей, то конечно Пиана Павловна наметила определенную парадигму, в том числе русской истории философии, как она должна идти. Когда она стала заниматься русскими темами, там много что было сложно принять. У нее жесткая позиция по отношению к Серебряному веку. К Бердяеву, уж не говорю про Мережковского. Для нее это соблазн. Огромную роль в её восприятии играло представление, что важнейшей причиной тоталитаризма являются хилиастические утопии. Это путь к тоталитаризму. Это некое обожествление земного. В этом смысле все наши великие мыслители, которые впали в ересь утопизма, как потом писал отец Георгий Флоровский, «это все люди, в какой-то степени подготовившие большевизм». Я бы не относился к этому так жестко в отличие от Пианы Павловны, но по ее мнению значительная часть русской философии - это преодоление этой утопической ереси, также сильно имеющей эстетически-языческую сторону...
Всегда желание интеллигента расправиться с неинтеллигентом было сильным. С одной стороны, это и двигатель прогресса. С другой, это источник тоталитаризма. В этом смысле Пиама Павловна почувствовала это раньше, чем многие другие.
Александр Михайловский: - Дополню Бориса словом живым самой Пианы Павловны Гайденко. Почему она не любила Серебряный век и, в частности, французский экзистенциализм того же Сартра. Причина в том, что она видела там элемент гнозиса, хилиастические ожидания, связанные с гнозисом, то есть совершено специфическим отношением к миру, как к произведению не благого Бога, но Демиурга. В некоторой вариации мы можем найти такое отношение в словах Ивана Карамазова, который демонстрирует Алёше испорченность этого мира. Это известная фраза про слезу ребенка вложена Достоевским в уста Ивана Карамазова, то есть она звучит как провокация. Мы часто любим эту фразу цитировать в положительном контексте, а на самом деле это провокация. Помните историю, как барин затравил собаками деревенского мальчишку крестьянина за то, что он камнем перебил гончей лапку? Это провокация чисто гностическая, на которую Достоевский реагирует, как и положено православному мыслителю, в чем его Гайденко полностью поддерживает. Причиной зла в мире является не сам мир, не само тварное бытие, но человеческая свобода, которая выбирает грех. А тот гностицизм связан в культурном отношении с романтизмом. Борис правильно возводит Ницше к романтизму. Так же можно и Бердяева, и весь Серебряный век к романтизму отнести.
А что значит свобода? Ее мы можем понимать двояко. Свобода выбора между добром и злом. Православный мыслитель никогда так не скажет, потому что для него очевидна свобода как выбор в пользу блага. Выбор в пользу зла это не свободный выбор, но результат искаженной, испорченной природы человека. Так вот слова Гайденко, где она цитирует представителя немецкого романтизма Шлегеля: «Революционное стремление осуществить Царство Божие на земле - пружинящий центр прогрессивной культуры и начало современной истории. Всё, что не связано с Царством Божиим, представляется ей чем-то второстепенным. Своим учением о свободе и Сартр, и Бердяев, пожалуй, в наибольшей мере обязаны именно Фихте и инициированному им торжеству Субъективности, представленному в немецком идеализме. Именно немецкий идеализм полностью завершил тот духовный переворот, который начался в философии XVII—XVIII вв. и касался прежде всего классической традиции в понимании бытия, господствовавшей — за немногими исключениями — на протяжении почти двух тысячелетий». Это о кризисе средневековой мысли, теоцентризма. Гайденко здесь однозначно встает на позиции онтологизма. Проблема в том, что современная философия впала в соблазн деонтологизированного субъективизма. Это значит, что она полагает в центр внимания творческого, якобы свободного субъекта, который отрицает мир, который берется этот мир переустроить. Сюда можно и марксизм отнести:, сломать, переустроить, вставить что-то хорошее. Это ведь тоже такой светский вариант хилиазма. То есть идея о том, что можно построить Царство Божие на земле без Бога. Для Гайденко все эти культурные, общественные явления являются выражением некоторых глубинных процессов, происходящих в философии как рефлексии о бытии. И последние слова в ее книге «Прорыв к трансцендентному, которая вышла в 2000 году, нас касаются. Эти все дискуссии о трансгуманизме, о цифровизации. Послушайте, как актуально она об этом пишет. «Всерьез преодолеть то господство деонтологизированного субъективизма, продуктом которого является утопический активизм нового и новейшего времени в двух его вариантах: социального революционаризма (сюда можно отнести все движения гендерные, и всё, обо что ломаются копья. – А.М.) и технократической воли к полному переустройству, к „новому сотворению“ Земли и всего космоса руками человека» (сюда мы относим чипизацию, прочие такие оптимистические попытки заменить человека роботизированным существом. – А.М.).....
Я-то наблюдаю известную периодичность таких явлений, как столкновение Модерна и Традиции. На самом деле, если мы говорим о современности, то мы должны иметь в виду, что это не некий однонаправленный процесс, дорога с односторонним движением, которая ведет от простого к сложному, которая обеспечит нас в будущем благополучной жизнью, равенством прав, избавит от болезней, горестей, печалей. Разумеется, такая концепция прогресса существовала, некоторые сторонники такого технократического взгляда продолжают в него верить. В то же время, если мы внимательно посмотрим на процесс интеллектуальной культуры, то с Борисом нельзя не согласиться - это главная мастерская, где все происходит. Все самое интересное в культуре происходит в головах интеллектуалов. Например, Жан-Жак Руссо первый такой персонаж любопытный, на котором многое завязано. Маркс, Ницше, Толстой обращаются к нему. Там уже начинается мысль о том, что прогресс не однонаправленное движение, что есть еще некоторые регрессивные течения в культуре. Руссо демонстрирует открытую критику техники, культуры. Говорит, что нам не нужно изощренное ремесло, нам достаточно плотницкого искусства. Нам не нужно методик по увеличению урожайности, довольно той работы, которую делает сельский житель и которую он выполнял много лет. И так ничего этого нам не нужно. Но только иметь перед глазами идеал «доброго дикаря», как Руссо его называет. Идеал Руссо - аграрно-романтический идеал. Руссо вообще отец романтики, романтизма. Если мы посмотрим на все, что происходит потом в 19-20 веках, то можно заметить такое маятниковое движение. Сначала набирает силу тренд рационализма, технократии, просвещения в 18 веке, потом тут же начинается некоторое встречное движение романтизма. Романтизм – это, безусловно, отрицание, можно в гегелевских терминах говорить, Просвещения. Потом после романтизма наступает эпоха позитивизма, базаровщина, заклинания нигилизма, что продолжается до 90-х годов 19 века. И рубеж веков - снова такое пышное цветение всех мистических теорий, антропософия, Блавацкая, Серебряный век тоже. Интересно, что они друг друга не исключают. Это процессы параллельные. С одной стороны, технократические тренды, рационалистические, секуляристские. С другой стороны антисекуляристские, постсекуляристские, как можно сейчас сказать, экологические тенденции. И что, мы не видели этого гендерного движения за равноправие полов? Видели мы это в конце 19 - начале 20 веков - русские курсистки, которые уезжали в Берн, чтоб там учиться.
«Как только стадо примет обязательную принудительную вакцинацию, это будет конец игры. Дальше они примут всё: принудительное донорство крови или органов для большего блага. Мы будем генетически модифицировать детей и стерилизовать их, и всё для великого блага. Контролируя разум овцы, ты контролируешь стадо. Производители вакцин будут зарабатывать миллиарды. И многие из вас в этом зале сегодня являются инвесторами. Это беспроигрышная ситуация. Мы прореживаем стадо, и стадо платит нам за предоставление услуг по уничтожению. Так что у нас сегодня на обед?»
Генри Киссинджер
февраль 2009
Интересно, что во многих народах взрослым является тот, кто верит в сказки. В культуре взрослым является тот, кто знает миф. Тот, кто верит в чудеса, тот, кто имеет опыт потустороннего...
На волшебных сказках строилось общество. Общество, которое должно было представлять собой некоторое созидание потустороннего по эту сторону мира. Общество имело сакральный, духовный, волшебный характер. Быть в обществе - значит быть в волшебстве, значит общаться с духами, исповедовать культы, принимать участие в священных обрядах и ритуалах. Вот что такое общество. И вот Эдип.., «Царь Эдип» - это история об обществе. Об обществе, построенном на обряде инициации, на прохождении и выходе из этого естественного рождения...
* * *
Общество построено на преодолении естественной биологической пары. Там, где человек рождается в общество, он рождается как совершенно особое существо, оторванное от своего биологического происхождения. То есть, вся биологическая жизнь человека заканчивается на инициации. Вот его мама с папой рождают, воспитывают, но когда он вступает в общество, он должен разорвать эту пуповину семьи, он должен сделать шаг по ту сторону, он должен отойти от семьи, должен её преодолеть... Даже в Библии сказано: да прилепится взрослый человек к жене... Прилепление к жене - это брак со сфинксом, с чудовищем, с которым предстоит строить совершенно другую систему метафизических отношений, где они не биологичны, они социальны эти отношения... Они устроены на строительстве волшебного мира... Семья - это возведение общества, возведение некоего храма, который делают осознающие, прошедшие посвящение, верящие в мифы и сказки люди..
А. Дугин
МХАТ-8. Софокл - 1
(Рим. 1, 18–27; Мф.5,20–26)
«Если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное» (Мф.5,20). Черта книжников: знание закона без заботы о жизни по закону. Черта фарисеев: исправность внешнего поведения без особенной заботы об исправности сердечных чувств и помышлений. Тот и другой нравственный строй осуждены быть вне Царствия Небесного. Возьми же отсюда всякий потребный себе урок. Узнавать закон евангельский – узнавай; но с тем, чтобы по знанию и жизнь учреждать. В поведении старайся быть исправным, но тут же исправными держи и внутренние чувства и расположения. Узнал что – не останавливайся на этом знании, а иди дальше и сделай вывод, к чему в каком случае обязывает тебя такое знание, да и положи по тому неотложно действовать. В поведении же так поступай, чтобы не чувства и расположения шли за внешними делами, а внешние дела были вызываемы чувствами и расположениями, и служили им точным выражением. Устроясь таким образом, будешь выше книжников и фарисеев, и дверь Царствия не будет затворена пред тобою.
Святитель Феофан Затворник
Мысли на каждый день года по церковным чтениям из слова Божия: краткие поучения