История Паоло и Франчески, любовников-прелюбодеев из "Божественной комедии", в начале XIX века пользовалась необычайным успехом. Молодые люди бросают вызов божественным и человеческим законам, и, кажется, их страсть торжествует даже в вечности. Что значит для них ад, если они там вместе} В сознании бесчисленных читателей нововременной и романтической эпохи инфернальные декорации, какими бы замечательными они ни были в эстетическом плане, представали лишь ничего не значащей данью духовным и теологическим конвенциям времени.
Считается, что романтическая страсть не подрывает индивидуализм, а воплощает его. Любовники отдаются друг другу в акте, который является совершенно спонтанным и в который вовлечены только они сами, хотя и вовлечены всецело. Мы, таким образом, имеем здесь своего рода принцип cogito влюбленных, на котором партнеры основывают свое существование в качестве любовников, единственно подлинное в их глазах и порождающее новое бытие, одновременно единое и двойное, полностью автономное по отношению к Богу и людям.
Таков образ страсти, возникающий как из толкований произведения Данте, так и из множества других литературных текстов той эпохи. Это романтическое прочтение очевидным образом противоположно духу "Божественной комедии". Ад для Данте - это реальность. Между теми бесплотными двойниками, которыми являются друг для друга Паоло и Франческа, невозможен никакой настоящий союз. У любовного предприятия действительно есть прометеевский смысл, но оно терпит полный крах, и именно этого не ощущает романтический читатель. Для того чтобы выявить это противоречие во всей его полноте, надо просто прочитать о зарождении этой страсти, как его описывает сама Франческа по просьбе Данте.
Однажды Паоло и Франческа вместе предавались невинному занятию: читали роман о Ланселоте. Когда они дошли до описания любовной сцены между рыцарем и королевой Гиневрой, женой Артура, то почувствовали стеснение и покраснели. Затем легендарные любовники из рыцарского романа слились в поцелуе: Паоло и Франческа повернулись друг к другу и тоже поцеловались. Любовь завладевает их душами по мере того, как они читают книгу. Письменное слово оказывает подлинно завораживающее воздействие. Оно побуждает юных влюбленных действовать в совершенно определенном направлении; оно - зеркало, в которое смотрятся Паоло и Франческа, открывая в себе сходство со своими блистательными образцами.
Таким образом, Паоло и Франческа даже в земной жизни никогда не достигают той степени солипсизма, который определяет абсолютную страсть: Другой, книга, образец присутствует с самого начала. В основании солипсистского проекта находится образец. Романтический и индивидуалистический читатель не осознает той роли, которую играет подражание книге, потому что он тоже верит в абсолютную страсть. Если обратить внимание такого читателя на книгу, то он вам ответит, что речь идет о малозначительной детали. Чтение, полагает он, всего лишь открывает уже существующее желание. Но Данте подчеркивает эту "деталь", что делает молчание современных комментаторов по этому поводу еще более поразительным. Все интерпретации, принижающие роль книги, опровергаются заключительной фразой рассказа Франчески: "И книга стала нашим Галеотом".
Галеот - это вероломный рыцарь, враг Артура, заронивший в сердце Ланселота и Гиневры семена страсти. Это роман, утверждает Франческа, сыграл в ее жизни роль дьявольского посредника, роль медиатора. Молодая женщина проклинает книгу и ее автора. И дело здесь не в том, чтобы обратить наше внимание на какого-либо конкретного автора. Данте не пишет историю литературы; он подчеркивает, что именно чье-то слово - письменное или устное - всегда вызывает желание. Роман занимает в судьбе Франчески место Слова в четвертом евангелии. Слово человека становится словом дьявола, если оно узурпирует в наших душах место, которое отведено Слову божественному.
Паоло и Франческа обмануты Ланселотом и королевой, которые в свою очередь обмануты Галеотом. А читатели эпохи романтизма в свою очередь обмануты Паоло и Франческой.
Пагубное внушение - это процесс, который бесконечно возобновляется без ведома его жертв. Одна и та же внутренняя цензура блокирует любое восприятие посредника, вытесняет любую информацию, противоречащую романтическому и солипсистскому "видению мира". Жорж Санд и Альфред де Мюссе уезжают в Италию, воображая себя Паоло и Франческой, нисколько при этом не сомневаясь в спонтанности своих чувств. Романтизм превращает "Божественную комедию" в новый рыцарский роман. Именно это крайнее ослепление и заставляет играть роль посредника произведение, которое очевидным образом разоблачает посредничество.
Та Франческа, которая рассказывает свою историю в поэме Данте, уже не является жертвой обмана, но своим прозрением она обязана смерти. Подражательница подражателей, она знает, что сходство между ней и ее образцом реально, поскольку мы всегда получаем то, чего сильно желаем, но это сходство состоит не в победе абсолютной страсти, как вначале воображали любовники и как все еще воображают читатели: оно состоит в поражении, уже пережитом в тот момент, когда в тени романа о Ланселоте герои обменялись первыми поцелуями.
В подражании рыцарской модели Дон-Кихот ищет ту же псевдобожественность, что и Паоло и Франческа. И он тоже распространяет зло, жертвой которого оказывается. У него тоже есть свои подражатели, а у романа, героем которого он является, - свои эпигоны, что позволяет Сервантесу во второй части романа иронично предсказать ту абсурдную критику, которая снова поднимется вокруг него с эпохой романтизма - например, критику Унамуно, который обвинит Сервантеса в том, что он демонстрирует непонимание своего возвышенного и вдохновенного героя. Индивидуалисту известно, что существует и вторая, производная страсть, но она никогда не является для него истинной страстью, то есть страстью его собственной или страстью его образцов. Гений Данте, как и гений Сервантеса, связан с отказом от этого индивидуалистического предрассудка. Сущность этого гения как раз и не была понята романтизмом, а также его современными последователями.
Сервантес и Данте открывают внутри мира литературы сферу рефлексии, включающую в себя "play within the play? Шекспира и "погружение в бездну? Андре Жида. В союзе с романами Нового времени эти писатели в равной мере предлагают нам интерпретацию несчастного сознания, значительно отличающуюся от интерпретации Гегеля.
Герой, охваченный производным желанием, пытается присвоить себе бытие образца за счет сколь возможно верного подражания ему. Если бы герой жил в том же мире, что и его образец, а не был бы, как в вышеприведенных примерах, дистанцирован от него мифом или историей, он неизбежно стал бы желать тот же самый объект, что и его образец. Чем ближе оказывается медиатор, тем больше вызываемое им поклонение уступает место ненависти и соперничеству. Страсть уже не является вечной. Паоло, каждый день встречающий Ланселота, несомненно предпочел бы Франческе королеву Гиневру, - если бы только ему не удалось связать духовными узами Франческу и своего соперника, сделав так, чтобы соперник стал желать ее и тем самым усилил его собственное желание, чтобы он сам мог желать ее через соперника или, скорее, наперекор ему, короче, вырвать ее у того самого желания, которое и придает ей очарование. Именно эту вторую возможность иллюстрируют в "Дон-Кихоте? "Повесть о Безрассудно-любопытном" и повесть "Вечный муж? Достоевского. У романистов, пишущих о внутренней медиации, всегда побеждают зависть и болезненная ревность. Стендаль говорит о "тщеславии", Флобер и его критики о "боваризме", Пруст открывает механизмы снобизма и любви-ревности.
Образец здесь - это всегда препятствие. На еще большей степени "деградации" все препятствия будут служить образцами. Мазохизм и садизм являются, таким образом, деградировавшими формами опосредованного желания. Когда эротическая ценность перемещается от объекта к сопернику-медиатору, мы получаем тот тип гомосексуальности, который показан у Марселя Пруста. Разделения и страдания, производимые медиацией, находят крайнюю степень своего выражения в галлюцинации двойника, присутствующей у большого количества нововременных и романтических писателей, но понятой в своей медиативной функции только лишь Достоевским.
Великие романы надо рассматривать как единое значащее целое. Индивидуальная и коллективная история производного желания всегда движется к небытию и смерти. Точное описание выявляет динамическую структуру в форме нисходящей спирали.
Как же романист может распознать структуры желания? Видение целостности - это одновременное видение целого и его частей, детали и совокупности. Оно одновременно требует отстранения и отсутствия отстранения. Настоящий романист не является ни праздным олимпийским богом, каким его описывает Сартр в эссе "Что такое литература"", ни "ангажированным" человеком, которым тот же самый Сартр хотел заменить этого ложного бога. Необходимо, чтобы этот романист одновременно был "ангажированным" и "неангажи-рованным". Он - человек, который был "пойман" структурой желания, а затем вырвался из нее. Флобер в "Воспитании чувств", Пруст в "Жане Сантейе", Достоевский до "Записок из подполья" представляют нам порожденные медиацией раздвоения как объективные свойства романного мира. Их художественное видение еще остается проникнуто манихейством. Таким образом, прежде чем эти авторы стали романистами, все они были "романтиками".
Этому первоначальному господству иллюзии над писателем соответствует в его главном произведении, иллюзия героя, которая в конечном счете обнаруживается как таковая. Этот герой освобождается только в конце произведения, пережив обращение, представляющее собой отказ от опосредованного желания - то есть смерть романтического Як воскрешение в истине романа. Вот почему смерть и болезнь всегда физически присутствуют в заключении, и вот почему они всегда имеют характер радостного освобождения. Финальное преображение героя - это транспозиция основополагающего опыта романиста, его отказа от собственных идолов, его духовной метаморфозы. Марсель Пруст в "Обретенном времени" полностью выявляет этот смысл романного творчества, присутствующий, но завуалированный у предшествующих романистов.
Заключение, воплощающее смерть для мира, оказывается началом романного творения. Мы можем вполне конкретно проиллюстрировать это "Заключением" из текста "Против Сент-Бёва", а также другими текстами из прустовского архива. Ранние наброски "Обретенного времени", которые здесь содержатся, в целом представляют собой констатацию всеобъемлющего экзистенциального краха, состояния отчаяния, переживаемого как в жизни, так и в литературе, непосредственно предшествовавшего началу работы над циклом романов "В поисках утраченного времени".
Мы должны применить к финалам романов тот же метод, что и к миру романов в целом, мы должны рассматривать их как единую значащую целостность. На этот раз мы обнаруживаем не то, что является непрерывным историческим развитием, а то, что представляет собой динамическую форму, всегда почти тождественную, но реализуемую с разной степенью полноты у отдельных романистов. Финальное откровение ретроспективным образом освещает пройденный путь. Произведение само ретроспективно; оно одновременно является повествованием о духовной метаморфозе и воздаянием за нее. В свете этой метаморфозы существование в мире, нисхождение по спирали предстают нисхождением в Ад, то есть необходимым этапом на пути к окончательному откровению. Движение но нисходящей в конечном итоге превращается в движение по восходящей, не становясь при этом возвращением назад. Очевидно, что такова структура "Божественной комедии". И, без сомнения, надо обратиться к еще более раннему времени, чтобы определить архетип этой романной формы, а именно к "Исповеди" Блаженного Августина - первому произведению, генезис которого оказался по-настоящему вписан в его форму.
Эти наблюдения связаны не с теологией, а с феноменологией романа. Я не пытаюсь поверхностно христианизировать авторов романов и во многом согласен с Люсьеном Гольдма-ном, когда он пишет: "Финальное обращение Дон-Кихота или Жюльена Сореля является не приближением к подлинности, к вертикальной трансцендентности, но осознанием тщетности, деградации, характеризующих не только предшествующий поиск, но и всякую надежду, всякий возможный поиск".
Эта фраза еще более справедлива в отношении Флобера, чем в отношении Стендаля и Сервантеса. Эти романисты описывают "минимальное" обращение героя, в отличие от "максимального" обращения у Достоевского; тем не менее дантовский и августиновский архетип остается вписан в форму их произведений. То, что Стендаль или Пруст прибегают к христианскому символизму, кажется нам тем более интересным, что у них это не имеет религиозного значения и что любое внешнее подражание форме, опознаваемой как христианская и намеренно избираемой в качестве таковой, исключено.
Проблема, которая здесь ставится, затрагивает не последний и окончательный смысл реальности, а видение "видений мира". В "Исповеди" есть видение языческого и христианского видений; и оба они становятся видимыми именно в переходе от одного к другому. Нечто аналогичное содержится и в "Новой жизни" Данте. И таков же переход от романтизма к роману, который можно, конечно, определить как "осознание", но который не может быть чем-то простым и легким, чем-то, что происходит само собой, как это подразумевает Люсьен Гольдман в приведенной выше цитате. В этом отношении его интерпретация кажется нам несовместимой с понятием "видения мира" и с той устойчивостью, с тем противостоянием изменениям, которое характеризует социальные и духовные структуры.
Мне могут возразить, что дантовский архетип появляется в произведениях очень разного философского содержания. Не желая преуменьшать эти различия, мы можем заметить, что здесь существуют также тесные сходства. И эти сходства не ограничиваются одними романистами. Например, мы находим их у Георга Лукача, чья теория "видений мира" неизбежно основывается на видении этих видений, то есть на опыте, отчасти схожем с опытом авторов романов. В подходе Лукача есть нечто "дантовское". Когда он определяет поиск героев романа как "демонический", деградировавший, не дает ли он нам метафорический эквивалент того ада, куда Данте погрузил своих собственных героев" В его работе "Современное значение критического реализма?' для характеристики литературы западного авангарда часто используются слова "инфернальный", "дьявольский", "фантазматический", "монструозный", "кривляющийся", "подземные силы", "демонический принцип". Мы можем, конечно, упрекнуть Лукача в том, что он слишком суров к современной литературе, но этот упрек, сколько бы справедливым он ни был, как и несколько легкомысленная ирония, вызываемая этим теологическим языком, не должен затмить для нас ту глубокую интуицию, которую этот язык, тем не менее, выражает. Фрейд также использует слово "демонический", чтобы обозначить болезненно повторяющийся характер невроза.
Подлинно религиозное мышление, великие романы, психоанализ и марксизм объединяет то, что все они противопоставлены "идолопоклонничеству" или "фетишизму". Мы со всех сторон слышим, что марксизм является "религией", но иудаизм и раннее христианство, которые также ожесточенно боролись с идолопоклонничеством, воспринимались в языческом мире как первоначальные формы атеизма. Обвинение в фетишизме поворачивается сегодня против христианства, которое часто заслуживало его и заслуживает до сих пор, но нельзя забывать, что именно это самое христианство передало нам ужас фетишизма во всех его формах.
Незаменимый характер религиозного языка обязывает нас задаться вопросом, не является ли тот тип мышления, который изначально одушевлял этот язык, в большей степени способным объять реальность, чем это иногда представляется. Патристическая и средневековая аллегория кажется нам наиболее устаревшим и бессодержательным модусом этого мышления. Возможно, развитие нововременного мышления требует от нас пересмотреть это суждение. Может показаться, что нет ничто более далекого от этого аллегорического мышления, чем связь, которую Люсьен Гольдман устанавливает между романным миром желания и рыночной экономикой: "В экономической жизни, представляющей собой самую важную часть современной социальной жизни, всякое подлинное отношение, задействующее качественный аспект вещей и людей, включая как отношения людей и вещей, так и отношения между людьми, постепенно исчезает, сменяясь отношениями опосредованными и деградировавшими: чисто количественными отношениями обмена".
Все идолы собраны вместе и превзойдены в высшем идоле капиталистического мира: деньгах. Существует "строгая гомология" между всеми сферами нашего бытия. Наша духовная и даже эмоциональная жизнь имеет ту же структуру, что и наша экономическая жизнь. Эта идея кажется шокирующей для религиозного сознания, которое утверждает автономию "духовных ценностей" только для того, чтобы превратить ее в лучшее прикрытие универсальной медиации и деградации. Но Отцы Церкви, которые символически ставили деньги ниже Святого Духа и духовной жизни, приветствовали бы марксистскую интуицию. Если деньги становятся центром человеческой жизни, они также становятся сердцевиной аналогичной системы, которая воспроизводит в перевернутом виде структуру христианского спасения, то есть вновь погружает нас в дантовский ад, в "демоническое? Лукача или Фрейда. Аллегорическое мышление - это, возможно, нечто большее, чем литературная игра. Признать связи, объединяющие размышления Отцов Церкви с наиболее передовыми элементами современного мышления, - значит, возможно, на более глубоком уровне, чем раньше, поставить проблему единства западного мышления.
От «Божественной комедии» к социологии романа
Просмотров: 62
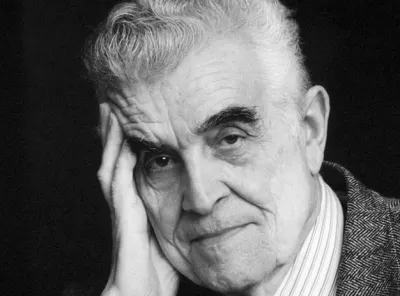

Оставить комментарий